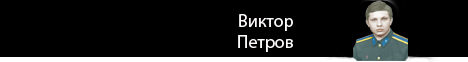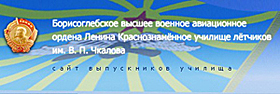–î–æ–º –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π, –¥–≤—É—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–π, –±—É–∫–≤–æ–π «–ü». –õ–µ–≤–∞—è –Ω–æ–≥–∞ —É –±—É–∫–≤—ã –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∞ –≤ –Ω–∏–∂–Ω–µ–π —á–∞—Å—Ç–∏. –¢–∞–º –∑–∏—è–µ—Ç –≥–ª—É–±–æ–∫–∞—è —è–º–∞ —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞. –ù–µ –≤—Å—è–∫–∞—è —Å–µ–ª—å—Å–∫–∞—è —à–∫–æ–ª–∞ –º–æ–∂–µ—Ç –ø–æ—Ö–≤–∞—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è —Ç–∞–∫–∏–º–∏ –ø–ª–æ—â–∞–¥—è–º–∏.
–ù–∞—Å –ø–æ—Å–µ–ª–∏–ª–∏ –≤ –ª–µ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –¥–æ–º–∞. –ù–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–º —ç—Ç–∞–∂–µ. –°–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç –∞—Ä–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–µ–ª–∞ –≤ —Å–∞–¥. –î–≤–µ—Ä—å –æ–¥–Ω–∞. –ù–∞–ø—Ä–∞–≤–æ — –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞ —Å —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–æ—Ä–æ–º, –±–æ–ª—å—à–æ–π –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—é, –∫—Ä–µ—Å–ª–∞–º–∏ –∏ —Ç—É–º–±–æ—á–∫–æ–π. –¢–∞–º –ø–æ—Å–µ–ª–∏–ª–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω. –ù–∞–ª–µ–≤–æ — –º–æ—è –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞ —Å –¥—Ä–∞–Ω–æ–π —Ç—É–º–±–æ—á–∫–æ–π –∏ –ª–µ–∂–∞–Ω–∫–æ–π. –ó–∞ —Ç–æ–Ω–∫–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–æ–π — –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –í –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ –∑–∞–ø–∞—Ö –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞. –ó–∞ —Å—Ç–µ–Ω–æ–π –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–∞—è –≤–æ–∑–Ω—è.
–ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç —Å–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞–º, —á—Ç–æ –±–µ–∑ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –º—ã –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–º–æ–∂–µ–º —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –í–æ –¥–≤–æ—Ä–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –¥–≤–æ–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª–µ–π. –ó–∞–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –¥–≤–æ—Ä —Ü–µ–º–µ–Ω—Ç–æ–º. –≠—Ç–æ —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∂–µ –¥–µ–Ω–µ–≥ –Ω–∞–¥–æ –∏–º–µ—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Ç–≥—Ä–æ—Ö–∞—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–π –¥–æ–º? –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç –Ω–∏–≥–¥–µ –Ω–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω — –µ–≥–æ —Å—ã–Ω — —Ç–æ–∂–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ—à–∞—Ç–∞—é—â–∏–π—Å—è. –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ —Å–∫—Ä–æ–º–Ω—ã–π —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫ –ú–ß–° — –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω — –æ–¥–Ω–∞ —Ç–∞—â–∏—Ç —Ç–∞–∫—É—é –º–∞—Ö–∏–Ω—É?
–í—ã–π—Ç–∏ –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –ù–æ —è –Ω–µ –∞—Ñ–∏—à–∏—Ä–æ–≤–∞–ª —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–æ—Ö–æ–¥–æ–≤. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø–µ—Ä–µ–º–∞—Ö–∏–≤–∞–ª —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ –∑–∞ –¥–æ–º–æ–º –∏ –≥—É–ª—è–ª –ø–æ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω–∏. –ü–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –ø—Ä–æ–¥–∞–≤—Ü–∞–º –∫–∏–æ—Å–∫–æ–≤. –°–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª –æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –¢–µ, –∫—Ç–æ –µ–µ –∑–Ω–∞–ª, –æ—Ç–∑—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ö–æ—Ä–æ—à–æ: «–ù–∞—à–∞ –Ý–∞–¥–∏–º–∞…»
–ö–∏–æ—Å–∫–∏ — —ç—Ç–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ –∫–∏–æ—Å–∫–∏ –≤ –Ω–∞—à–µ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–∏. –≠—Ç–æ –Ω–µ—á—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ –¥—ã—Ä–∫–∏ –≤ –∑–∞–±–æ—Ä–µ, –∑–∞–¥–µ–ª–∞–Ω–Ω–æ–π –ø–ª–µ–∫—Å–∏–≥–ª–∞—Å–æ–º –∏ —Å –æ–∫–æ—à–µ—á–∫–æ–º –¥–ª—è –æ–±—â–µ–Ω–∏—è –ø–æ–∫—É–ø–∞—Ç–µ–ª—è —Å –ø—Ä–æ–¥–∞–≤—Ü–æ–º. –í –±–æ–ª—å—à–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ —Å–ª—É—á–∞–µ–≤ —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞ –ø—Ä–∏–ª–∞–≤–∫–æ–º –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤–∏–¥ –Ω–∞ —Å–∞–¥ –∏–ª–∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥–≤–æ—Ä–∞.
–Ý—è–¥–æ–º —Å –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –∫–∏–æ—Å–∫–∞–º–∏ —Å—Ç–æ—è—Ç –±–∞–Ω–∫–∏ —Å –±–µ–Ω–∑–∏–Ω–æ–º. –ë–µ–Ω–∑–∏–Ω –≤–æ–∑–≥–æ–Ω—è–µ—Ç—Å—è –ø—Ä—è–º–æ –∑–¥–µ—Å—å –∂–µ, –≤–æ–∑–ª–µ –¥–æ–º–∞. –ë–µ–Ω–∑–∏–Ω—ã –∂–µ–ª—Ç—ã–µ, —Ä–æ–∑–æ–≤—ã–µ, —Ñ–∏–æ–ª–µ—Ç–æ–≤—ã–µ, —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ.
–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —Ä–µ—à–∏–ª–∏ —Å—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏–∏. –î–æ –ø—É–Ω–∫—Ç–∞ –ø–µ—á–∞—Ç–∏ –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ 500. –í –≤–∏—Ç—Ä–∏–Ω–µ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ —Ñ–æ—Ç–æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —Å –ê—É—à–µ–≤—ã–º, –ï–ª—å—Ü–∏–Ω—ã–º, –Ý—É—Ü–∫–∏–º, –ñ–∏—Ä–∏–Ω–æ–≤—Å–∫–∏–º, –µ—â–µ —Å –∫–∞–∫–∏–º–∏-—Ç–æ –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–∞–º–∏ –ì–æ—Å–¥—É–º—ã. –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ø—Ä–∏ –∫–∞–∂–¥–æ–º —É–¥–æ–±–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –∏ –≤–ª–∏—è—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ –ª—é–¥—å–º–∏. –í–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü—ã —Ñ–æ—Ç–æ—Å–∞–ª–æ–Ω–∞ –≥–æ—Ä–¥–∏–ª–∏—Å—å —ç—Ç–æ–π –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ü–∏–µ–π.
–ï–¥–≤–∞ –º—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ —Å–∞–ª–æ–Ω–∞, –ø–æ–¥–ª–µ—Ç–µ–ª–∞ –±–µ–ª–∞—è «–í–æ–ª–≥–∞». –ò–∑ –Ω–µ–µ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –∏ —Å—Ç–∞–ª–∞ —Ä–∞—Å–ø–µ–∫–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —É—à–ª–∏ –±–µ–∑ –µ–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è.
–ü–æ—è–≤–∏—Ç—å—Å—è —É –ê—É—à–µ–≤–∞ –≤ –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–º –¥–≤–æ—Ä—Ü–µ –º—ã —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –±–µ–∑ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–æ—à–ª–∞ –Ω–∞ –ø—Ä–∏–µ–º –±–µ–∑ –º–µ–Ω—è. –Ø –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª—Å—è –æ —Å—ä–µ–º–∫–∞—Ö –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞ –∏ –ø—Ä–æ—à–µ–ª —Ç–∞–º –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –≤–µ–∑–¥–µ. –ë—ã–ª –¥–∞–∂–µ –Ω–∞ –∫—Ä—ã—à–µ, —Å—Ä–µ–¥–∏ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∞–Ω—Ç–µ–Ω–Ω, —Ç–∞—Ä–µ–ª–æ–∫, –º—Ä–∞–º–æ—Ä–∞ –∏ —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã—Ö –ø–æ–∑–æ–ª–æ—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ñ–∏–Ω—Ç–∏—Ñ–ª—é—à–µ–∫.
–ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª—Å—è –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ —Å –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–æ–º –ê—É—à–µ–≤–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª –º–µ–Ω—è —Å–≤–æ–µ–π –ø—Ä–∏–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∫ –¥–∏–∫—Ç–∞—Ç—É—Ä–µ –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞—Ä–∏–∞—Ç–∞. –ü–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –Ω–µ–≥–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ –æ—Ç–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è –æ –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω, –∫–∞–∫ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–µ –ú–ß–° –ø–æ –ø–æ–∏—Å–∫—É –∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é –ø—Ä–æ–ø–∞–≤—à–∏—Ö –±–µ–∑ –≤–µ—Å—Ç–∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç.
–Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ —É –ê—É—à–µ–≤–∞ –¥–µ–Ω–µ–≥ —è–∫–æ–±—ã –¥–ª—è —Å–≤–æ–µ–π –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ê—É—à–µ–≤ –Ω–µ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —Ä–∞—Å–∫–æ—à–µ–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –Ω–∞–≥—Ä–∞–¥–∏–ª –µ–µ –¥–≤—É–º—è –æ—Ä–¥–µ–Ω–∞–º–∏ –ú—É–∂–µ—Å—Ç–≤–∞. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, —Ç–æ–≥–¥–∞ –ê—É—à–µ–≤ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã –º—ã –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ß–µ–≥–æ–¥–∞–µ–≤–æ–π –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –≥–æ—Å—Ç–∏–Ω–∏—Ü—É, –ø–æ–¥ –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –æ—Ö—Ä–∞–Ω—É. –≠—Ç–∏–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ–º, –Ω–µ —Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —è –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –Ω–∞—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–ª, –º—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å.
–í —Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ —É –ê—É—à–µ–≤–∞ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–µ –Ω–∞–º —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –æ—Ç–¥–µ–ª–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –û–Ω–∞ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —É–∂–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ —É –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–∞. –ë—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —É –Ω–∏—Ö –Ω–∞—Ç—è–Ω—É—Ç—ã. –°–∞–º–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —Å –∏—Å–ø—É–≥–æ–º –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∞: –Ω–µ –Ω–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ª–∏ —è —á–µ–≥–æ –ª–∏—à–Ω–µ–≥–æ? –î–µ–Ω—å–≥–∏ –æ–Ω–∞ –≤—ã–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∞ –∏ —É –Ω–∞—Å. –ù—É, —É –º–µ–Ω—è-—Ç–æ –≤—ã–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á–µ–≥–æ, –∞ –≤–æ—Ç —É –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –±—ã–ª–∏. –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –∑–Ω–∞–ª–∞ —ç—Ç–æ –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ —Ç–æ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫—É, —Ç–æ –∑–∞ —Å–≤–µ—Ç –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å, —Ç–æ –¥–µ—Ç–∏—à–∫–∞–º –Ω–∞ –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç—ã. –î–µ—Ç–∏—à–∫–∏ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞ — –≤–Ω—É—á–∫–∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω — –¥–≤–µ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∏, –ª–µ—Ç –ø—è—Ç–∏, —Ç–æ–∂–µ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ —É –Ω–∞—Å –≤—ã–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∏. –ù–µ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å, —á—Ç–æ —É –∏–Ω–≥—É—à–µ–π —ç—Ç–æ –≤ –∫—Ä–æ–≤–∏, –Ω–æ —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ.
–ö–∞–∫-—Ç–æ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–∞ —Ä—ã–Ω–æ–∫ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –≠—Ç–æ –æ–Ω–∞ –Ω–∞–º –≥–æ—Ä–æ–¥ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞. –¢–∞–∫ –≤–æ—Ç —Ç–∞ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É –∫—É–ø–∏—Ç—å –¥–ª—è –¥–æ–º–∞, –¥–ª—è —Å–µ–º—å–∏, —á—Ç–æ –µ–¥–≤–∞ —É–≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω–µ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞. –¢–æ—Ç —Ç–æ–∂–µ –≤—ã–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –∫—É–ø–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ –∑–∞–ø—á–∞—Å—Ç–µ–π –¥–ª—è —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∞ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –î–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –º–Ω–µ –µ—Ö–∞—Ç—å –≤ –ß–µ—á–Ω—é, –∫—É–ø–ª–µ–Ω—ã –∫–æ—Ä–∏—á–Ω–µ–≤—ã–µ –±—Ä—é–∫–∏. –°—Ä–æ–¥—É —Ç–∞–∫–∏—Ö –Ω–µ –Ω–æ—Å–∏–ª. –í –º–æ–∏—Ö —Å–∏–Ω–∏—Ö –µ—Ö–∞—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, —Ç–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
10 –∏—é–Ω—è 1999 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥. –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –≤–∑—è–ª–∞ –Ω–∞—Å —Å —Å–æ–±–æ–π –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ü–µ–¥—É—Ä—É –æ–±–º–µ–Ω–∞ –∑–∞—Ö–≤–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–µ –ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç–∞ –§–∏—à–º–∞–Ω–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞ — –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞—Ä–∫–æ—Ç–æ—Ä–≥–æ–≤—Ü–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–∏–¥–µ–ª –≤ –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–¥–∞—Ä–µ –≤ «–ë–µ–ª–æ–º –ª–µ–±–µ–¥–µ».
–ú—ã –∂–¥–∞–ª–∏ —Ü–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å –æ—Ç—ä–µ–∑–¥–∞ –Ω–∞ –æ–±–º–µ–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª —Å–æ—Å—Ç–æ—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ —Ç—Ä–µ—Ö —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫ — –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏, –û—Å–µ—Ç–∏–∏ –∏ –ö–∞–±–∞—Ä–¥–∏–Ω–æ-–ë–∞–ª–∫–∞—Ä–∏–∏. –ü–µ—Ä–µ–¥ –æ—Ç—ä–µ–∑–¥–æ–º –≤ —á–µ—Ä–Ω–æ–π –∏–Ω–æ–º–∞—Ä–∫–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∏ –§–∏—à–º–∞–Ω–∞, –Ω–æ –Ω–∞–º –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏. –°—Ç–µ–∫–ª–∞ –≤ –º–∞—à–∏–Ω–µ –∏ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω–∏–µ –∑–∞ –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –±—ã–ª–∏ –∑–∞–Ω–∞–≤–µ—à–µ–Ω—ã.
–ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –ø—è—Ç—å—é –º–∞—à–∏–Ω–∞–º–∏. –°–ª–µ–≤–∞ — —Å—Ç–µ–ø—å. –¶–≤–µ—Ç—ã. –û—á–µ–Ω—å –¥–∞–ª–µ–∫–æ — –¥–æ–º–∏–∫–∏ —Å–µ–ª–µ–Ω–∏—è. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ —Ö–æ–ª–º. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –∏–¥–µ—Ç –≤–¥–æ–ª—å —Ö–æ–ª–º–∞ –∏ —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∑–∞ –Ω–∏–º.
–ú–∞—à–∏–Ω–∞ —Å –§–∏—à–º–∞–Ω–æ–º —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —É–µ—Ö–∞–ª–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ –∫ –ª–µ—Å–æ–ø–æ—Å–∞–¥–∫–µ –∏ —É–≥–ª—É–±–∏–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–µ–µ. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –æ–Ω–∞ —Å–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –∑–∞ —Ç–µ–º –∂–µ —Ö–æ–ª–º–æ–º. –ñ–¥–µ–º. –Ý–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª —Ä–æ–∂–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤. –ï—Å—Ç—å —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ. –ù–æ –æ–¥–Ω—É –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª —Å—Ä–∞–∑—É. –ë–µ—à–µ–Ω—ã–µ –≥–ª–∞–∑–∞, –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π, –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–π, –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ –∫—É–ª–∞—á–∏—â–∏. –û–Ω –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫–æ –º–Ω–µ.
— –ù—É —á—Ç–æ, –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç, –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ?
–Ø –ø–æ–∂–∞–ª –ø–ª–µ—á–∞–º–∏. –û–Ω –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª:
— –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –Ω–µ —Ä–∞–∑ –µ—â–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–º—Å—è…
–í—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å—Å—è —Å –Ω–∏–º «–µ—â–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑» –Ω–µ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –≤ –º–æ–∏ –ø–ª–∞–Ω—ã.
–ü–æ–¥–æ—à–µ–ª –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤ –≤ —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω–æ–º –±–µ–ª–æ–º –∫–æ—Å—Ç—é–º–µ. –°–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –µ–≥–æ –∫–æ—Å—Ç—é–º–µ. –ò –≤—Å–µ –∂–µ —É–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤ –º–æ–ª–æ–¥–æ—Å—Ç–∏ –æ–Ω –±—ã–ª –∫—Ä–∞—Å–∏–≤. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ-–º—É–∂—Å–∫–∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤.
–ú—ã —Å –Ω–∏–º –ø—Ä–æ—Ö–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤–¥–æ–ª—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç.
— –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –∑–Ω–∞–µ—à—å? –î–∞?
— –î–∞.
— –¢–∞–º –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –∑–∞ –≥–æ—Ä–æ–π, –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç.
— –î–∞–ª–µ–∫–æ –¥–æ –ø–æ—Å—Ç–∞?
— –ö–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä. –¢—É–¥–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑—É—Ç –±—Ä–∞—Ç–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
— –ö—Ç–æ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–µ—Ç?
— –ú—É–∫–æ–º–æ–ª–æ–≤ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–µ—Ç. –¢—É–¥–∞ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–æ–µ–¥–µ—Ç –º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã —É–±–µ–¥–∏—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –µ–µ —Å—ã–Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –±—É–¥–µ–º –º–µ–Ω—è—Ç—å.
— –ê –∫–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –º–µ–Ω—è—Ç—å?
— –°–∞–º —É–≤–∏–¥–∏—à—å. –¢—ã —Å —ç—Ç–∏–º–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º–∏ –Ω–µ –±–æ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–π. –≠—Ç–æ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã. –õ—É—á—à–µ –æ—Ç –Ω–∏—Ö –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –¥–≤–∞ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª–µ—Ç–∞. –ü–∞—Ä–∞ —Ö–∏—â–Ω—ã—Ö –ú–∏-24 –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –Ω–∏–∑–∫–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏. –ù–∞–¥ —Ç–µ–º –º–µ—Å—Ç–æ–º, –≥–¥–µ —Å–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –∑–∞ —Ö–æ–ª–º–æ–º –º–∞—à–∏–Ω–∞ —Å –§–∏—à–º–∞–Ω–æ–º, —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–π –≤–∏—Ä–∞–∂. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ö–≤–∞—Ç–∞—Ç—å—Å—è –∑–∞ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –Ω–æ –∏—Ö –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω –±—Ä–∞—Ç –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –£ –Ω–µ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤–∏—Å–µ–ª–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ. –ü–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –ú–∞–∫–∞—Ä–æ–≤–∞. –ö–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏, –æ—Ä—É–∂–∏–µ —Ç–∞–±–µ–ª—å–Ω–æ–µ.
–ú–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, —Å —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –∑–Ω–∞–∫–æ–≤. –°–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –≤–µ—Ä—Ç—É—à–∫–∏. –≠—Ç–æ –ø–æ—Å–µ—è–ª–æ –≤ —Ä—è–¥–∞—Ö –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –µ—â–µ –±–æ–ª—å—à—É—é –ø–∞–Ω–∏–∫—É. –°—Ç–∞–ª–∏ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –≤ –ø—Ä–æ—à–ª—ã–π —Ä–∞–∑ –∏—Ö –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≤–∑—è—Ç—å —Å –ø–æ–ª–∏—á–Ω—ã–º –≤–º–µ—Å—Ç–æ –æ–±–º–µ–Ω–∞. –ö—Ç–æ-—Ç–æ –ø–æ—Ç—è–Ω—É–ª –∏–∑-–ø–æ–¥ —Å–∏–¥–µ–Ω—å—è «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫–∏» –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º–µ—Ç «–ú—É—Ö–∞». –ù–∞ –Ω–µ–≥–æ —à–∏–∫–Ω—É–ª–∏. –¢–æ—Ç —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º–µ—Ç.
–ö–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö –ø–∞—Ä–Ω–µ–π.
— –°—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å —É–º–µ–µ—à—å? — –æ–Ω —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è.
— –¢–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑ –≤–∏–¥–µ–æ–∫–∞–º–µ—Ä—ã, — —Ç–æ–∂–µ –ø–æ—à—É—Ç–∏–ª —è. — –ê —á—Ç–æ, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã –±–æ–µ–≤—ã–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è?
— –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
–ü—Ä–æ—à–ª–æ —É–∂–µ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞, –∫–∞–∫ –º—ã —Å—é–¥–∞ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏, –∞ –≤–µ—Å—Ç–µ–π —Å —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ò–∑ —Å–µ–ª–∞ –∑–∞–ø—ã–ª–∏–ª –≤ –Ω–∞—à—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —É–∞–∑–∏–∫. –û–Ω –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª –Ω–∞ –±–æ–ª—å—à–æ–π —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç–∏, —Ä–µ–∑–∫–æ —Ç–æ—Ä–º–æ–∑–Ω—É–ª. –ò–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–π –º—É–∂—á–∏–Ω–∞ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º.
— –ß—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –¥–µ–ª–∞–µ—Ç–µ? –û—Ä—É–∂–∏–µ –µ—Å—Ç—å?
–ï–º—É —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å. «–ù—É –≤–æ—Ç, — –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è, — –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª–∏ –Ω–∞—á–∞—Ç—å, –∞ —É–∂–µ –≤–ª–∏–ø–ª–∏ –≤ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é».
–ö–∞–∫ —è –ø–æ–Ω—è–ª, –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –æ—Ä–≥–∞–Ω—ã –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞ –≤–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ–π –∏–º —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏. –° –Ω–∏–º–∏ –Ω–∞—á–∞–ª –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å—Å—è –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏.
— –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞—Å –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ —Ç–∞–∫–æ–µ –¥–µ–ª–æ. –ú—ã –±—ã –ø–æ–º–æ–≥–ª–∏.
–û–Ω–∏ —Å–µ–ª–∏ –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É –∏ —É–µ—Ö–∞–ª–∏. –ù–æ —É –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–µ—É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –≤ —Ç–æ–º, –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –ª–∏ –æ–Ω–∏ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞—é—Ç. –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π (—ç—Ç–æ —è –ø–æ—Ç–æ–º —É–∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ –æ–Ω –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π) –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏–º–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º–∏. –î–≤–æ–µ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫–æ –º–Ω–µ –∏ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ —Å–µ—Å—Ç—å –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É. –Ø —Å–µ–ª —Å–∑–∞–¥–∏. –ó–¥–æ—Ä–æ–≤—è–∫ —Å –≥–æ—Ä—è—â–∏–º –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º —Å–µ–ª —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è, –∞ –¥—Ä—É–≥–æ–π — –∑–∞ —Ä—É–ª—å. –ú–Ω–µ –≤–µ–ª–µ–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–∏–¥–µ—Ç—å —Ç–∏—Ö–æ.
–°–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è –ø—Ä–æ—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ. –Ø –ø–æ–ø—Ä–æ—Å—Ç—É –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–º. –ï—Å–ª–∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É—é—Ç –≤–∑—è—Ç—å, —É –Ω–∏—Ö –±—É–¥—É —è. –ü–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –¥—É—Ä–∞—Ü–∫–æ–µ. –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª —Å –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–º –∏ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –¢–æ—Ç –¥–µ–ª–∞–ª –∂–µ—Å—Ç—ã —Ç–∏–ø–∞ «–ø–æ–¥–æ–∂–¥–∏».
–ù–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∂–¥–∞—Ç—å –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –Ω–µ–¥–æ–ª–≥–æ. –ö–∞–∫–∏–º-—Ç–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º —Å—Ç–∞–ª–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —Ç–∞ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞ –≥–æ—Ç–æ–≤–∞ –∫ –æ–±–º–µ–Ω—É. –ë—ã–ª–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞ –æ–ø–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –ø–æ–µ–¥—É—Ç –º–∞—Ç—å –Ω–∞—Ä–∫–æ—Ç–æ—Ä–≥–æ–≤—Ü–∞ –∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –û–Ω–∏ –∂–µ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—É–¥—É—Ç –¥–∞—Ç—å –æ—Ç–º–∞—à–∫—É –Ω–∞ –æ–±–º–µ–Ω. –° –Ω–∏–º–∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ–µ—Ö–∞—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. –ï—ë –≤–∑—è–ª–∏. –ú–µ–Ω—è –∂–µ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–º –≤ –º–∞—à–∏–Ω–µ. –í—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –ú–∞—Ç—å –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Å —Å—ã–Ω–æ–º.
–ù–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –ø–∞—Ä–∞ «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª–æ–≤» — –ú–∏-24. –ü–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ —É—à–ª–∏, –ø–æ —Ä–∞—Ü–∏–∏ —Å–æ–æ–±—â–∏–ª–∏ –≥—Ä—É–ø–ø–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª–∞ –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–∞ –§–∏—à–º–∞–Ω–∞, –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞—Ç—å –∫ –Ω–∞—à–∏–º –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è–º. –° —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Ç–æ—Ä–æ–ø–∏–ª–∏ –æ–±–º–µ–Ω. –ï—â–µ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –∏ –Ω–∞—á–Ω–µ—Ç —Ç–µ–º–Ω–µ—Ç—å. –ù–æ –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —Å–∞–º–∏ –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ø–æ–∑–¥–Ω–æ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏. –ü–æ–∫–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ —Å –§–∏—à–º–∞–Ω–æ–º –µ—Ö–∞–ª–∞ –¥–æ –Ω–∞—Å, —è –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª—Å—è –æ —Å—ä–µ–º–∫–∞—Ö –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–∞. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –≤—Å–µ –±—ã–ª–æ –≥–æ—Ç–æ–≤–æ –∫ –æ–±–º–µ–Ω—É, –§–∏—à–º–∞–Ω–∞ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏. –ù–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ–±–º–µ–Ω –º–µ–Ω—è –≤–∑—è–ª–∏.
–î–æ—Ä–æ–≥–∞ –æ—Ç –Ω–∞—Å –¥–æ –ø–æ—Å—Ç–∞ –Ω–∞ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –û—Å–µ—Ç–∏–∏ –±—ã–ª–∞ –∂—É—Ç–∫–æ–π. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –Ω–∏—á—å—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –∏, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–µ —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å. –ü–æ –ø—É—Ç–∏ –º–Ω–µ –∫–∞–∫-—Ç–æ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —É–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –∏ –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å —Å –§–∏—à–º–∞–Ω–æ–º. –ú–∞—à–∏–Ω—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –Ø –≤–∫–ª—é—á–∏–ª –∫–∞–º–µ—Ä—É, –∑–∞–¥–∞–ª –º–æ–ª–æ–¥–æ–º—É —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫—É –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –¥—É—Ä–∞—Ü–∫–∏–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å — –∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏.
–û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å, –Ω–µ –¥–æ–µ–∑–∂–∞—è –¥–æ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ú—É–∫–æ–º–æ–ª–æ–≤–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ 150. –Ø –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞–ª —Å –∫–∞–º–µ—Ä–æ–π –≤–ø–µ—Ä–µ–¥, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ª—É—á—à–µ —Å–Ω—è—Ç—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É –æ–±–º–µ–Ω–∏–≤–∞–µ–º—ã—Ö. –¢–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä –ù–¢–í —Å —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –ü–µ—Ä–≤—ã–µ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã –º—ã —Å–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –§–∏—à–º–∞–Ω –∏ –Ω–∞—Ä–∫–æ–¥–µ–ª–µ—Ü –ø–æ—à–ª–∏ –Ω–∞–≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É. –ó–∞ –Ω–∏–º–∏, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ 20, –ø–æ—à–ª–∏ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ. –û–±–º–µ–Ω–∏–≤–∞–µ–º—ã–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å, –æ–±–Ω—è–ª–∏—Å—å, –∫–∞–∫ –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –æ–±–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –≤—Å–µ. –ú—É–∫–æ–º–æ–ª–æ–≤ –≤ –±–µ–ª–æ–π —Ä—É–±–∞—à–∫–µ —Å –∑–∞–∫–∞—Ç–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ —Ä—É–∫–∞–≤–∞–º–∏, –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è —Å–µ—Ä—å–µ–∑–µ–Ω –∏ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω. –û–Ω –≤—Å–µ—Ö —Ç–æ—Ä–æ–ø–∏–ª –∏ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –æ—Ç—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª —Å–≤–æ–∏—Ö –∫ –∂–¥–∞–≤—à–∏–º –ø–æ–æ–¥–∞–ª—å –º–∞—à–∏–Ω–∞–º.
–Ø –µ—â–µ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –§–∏—à–º–∞–Ω —Å –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é —Å–∞–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ —Å–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–Ω—ã–π –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π —É–∞–∑–∏–∫. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –∏ –º—ã. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ —Å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º–∏.
–û–¥–Ω–∞ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω — –±–µ–ª–∞—è «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫–∞» — –±—ã–ª–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∞ –∏–º–∏ –ø—Ä—è–º–æ —Ç–∞–º, –Ω–∞ –Ω–µ–π—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏. –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∞ –≤ «–æ—Ç–∫–∞—Ç». –¢–∞–∫ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å.
–ü–µ—Ä–µ–¥ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞—Ç—å –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω—å, –º—ã –¥–æ–ª–≥–æ –∫–∞—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏. –ß–∞—Å–∞ –¥–≤–∞, –ø–æ–∫–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –ë–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –≤—Å–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏, –Ω–µ—Ç –ª–∏ –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ «—Ö–≤–æ—Å—Ç–∞». –í –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω–∏ –Ω–∞—Å –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ –∫ –Æ–Ω—É—Å—É –Ω–∞ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –µ–≥–æ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è. –°–∞–º –æ–Ω —É–∂–µ –∂–∞–ª–æ–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –ú—É–∫–æ–º–æ–ª–æ–≤–∞ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ç–æ—Ç –æ–±–µ—â–∞–ª –µ–º—É —Ä–µ–∞–±–∏–ª–∏—Ç–∞—Ü–∏—é –∏ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ –≤—Å–µ—Ö –¥–µ–ª, —Å –Ω–∏–º —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã—Ö. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª –∂–µ –Æ–Ω—É—Å —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ-–¥–æ—Å—Ä–æ—á–Ω–æ–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ.
–ù–∞ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏ —É–∂–µ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–æ—á—å—é. –î–æ–º — –ø–æ–ª–Ω–∞—è —á–∞—à–∞, —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∞—è –º–∞—Ç—å, –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω—ã–µ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏. –ù–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —Å –∂–µ–Ω–æ–π –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª–∏—Å—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ — –ª—é–±–∏–º–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –Æ–Ω—É—Å–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ç–æ–π –∂–µ —Ç—é—Ä—å–º–µ, –∏ —Å–≤–æ–µ–π –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–π –∑–∞–¥–∞—á–µ–π –æ–Ω —Å—á–∏—Ç–∞–ª —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å –µ–µ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞.
–ü–æ—Å–ª–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –Æ–Ω—É—Å —Å—Ç–∞–ª —á–∞—Å—Ç–æ –ø–æ—Å–µ—â–∞—Ç—å –¥–æ–º –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç–∞. –ó–∞—á–∞—Å—Ç–∏–ª —Å—é–¥–∞ –∏ –µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç. –¢–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π, —á—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ö–æ–¥–∏–ª —Å –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–æ–º. –ú—ã –≤—Å–µ –∂–¥–∞–ª–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –ø–æ–µ–¥–µ–º –∑–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–º –ß–µ–≥–æ–¥–∞–µ–≤—ã–º. –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –µ–π –Ω–∞–¥–æ –¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ –∫–∞–∫–∏—Ö-—Ç–æ —Å–ø–∏—Å–∫–æ–≤. –ù–µ —Ä–∞–∑ –æ–Ω–∞ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –±—É–º–∞–∂–µ—á–∫–∏ —Å —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—è–º–∏, –Ω–æ –≤—Å–µ —ç—Ç–∏ –±—É–º–∞–∂–∫–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω—ã –æ–¥–Ω–æ–π —Ä—É–∫–æ–π — —Ä—É–∫–æ–π –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
–°–∫–æ—Ä–æ —è –Ω–∞—á–∞–ª –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞ –≤—Ä–µ—Ç –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –≤–æ –≤—Å–µ–º. –í—Ä–µ—Ç –¥–∞–∂–µ —Ç–∞–º, –≥–¥–µ –∏ –≤—Ä–∞—Ç—å-—Ç–æ –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –û–Ω–∞ —á–∞—Å—Ç–µ–Ω—å–∫–æ –∑–∞–±—ã–≤–∞–ª–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª–∞ –∏ –ø—Ä–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–µ –æ —Ç–æ–º –∂–µ –≤—ã–¥–∞–≤–∞–ª–∞ –Ω–æ–≤–æ–µ –≤—Ä–∞–Ω—å–µ. –û–Ω–∞ –∑–∞–ø—É—Ç—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–µ–º, –∏ –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ –≤—Ä–∞–∫–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –µ—â–µ –∏–∑–æ—â—Ä–µ–Ω–Ω–µ–µ –∏ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–µ–µ.
–ï–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª –±—Ä–∞—Ç –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –ó–∞–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª—Å—è –ø–æ–¥–æ–ª–≥—É. –ö–∞–∫-—Ç–æ, –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ —Å —Ä—ã–Ω–∫–∞ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–µ–Ω—ã –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã, –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ø–æ–∑–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞—Å –æ—Ç–æ–±–µ–¥–∞—Ç—å. –ë—ã–ª–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∞ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∞ –¥–µ—à–µ–≤–æ–≥–æ «–≥—Ä–µ—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ» –∫–æ–Ω—å—è–∫–∞ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–∞. –ê –Ω–∞ –∑–∞–∫—É—Å–∫—É, —á–µ—Ä—Ç –≤–æ–∑—å–º–∏, –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –ø–æ–¥–Ω–æ—Å —Å –ø–æ—Ä–µ–∑–∞–Ω–Ω–æ–π —Å–≤–µ–∂–µ–π –∫–∞–ø—É—Å—Ç–æ–π. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–æ —Å–∞–ª–∞—Ç–æ–º. –ê —è-—Ç–æ –≤—Å–µ –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –∫–∞–ø—É—Å—Ç—É –Ω–∞—Å—Ç—Ä—É–≥–∞–ª–∏ –¥–ª—è –∫—É—Ä. –î—É–º–∞–ª, –≤–æ—Ç-–≤–æ—Ç —É–±–µ—Ä—É—Ç —Å–æ —Å—Ç–æ–ª–∞.
–¢–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –±—Ä–∞—Ç –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –º–æ–µ–π –≤–∏–¥–µ–æ–∫–∞–º–µ—Ä–µ –Ω–∞–∫–ª–µ–π–∫—É «–ù–¢–í». –û–Ω —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –º–æ–∂–Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å –≤—ã–≥–æ–¥–Ω–æ –ø—Ä–æ–¥–∞—Ç—å. –Ø, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –ø—Ä–∏–Ω—è–ª —ç—Ç–æ –∑–∞ —à—É—Ç–∫—É. –û–Ω —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –µ—â–µ —á–∞—â–µ –∏ –ø–æ–¥–æ–ª–≥—É –±–µ—Å–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å —Å –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ø–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é — —É–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∞. –•–æ—Ç—è –≤–∞–π–Ω–∞—Ö—Å–∫–∏–µ –∫—Ä–æ–≤–∏ –≤ –Ω–µ–π, –±–µ–∑—É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ, –±—ã–ª–∏. –û–Ω–∞ –ø–æ–ø–∞–ª–∞ –≤ –∏–Ω–≥—É—à—Å–∫—É—é —Å–µ–º—å—é –≤ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ –∏ –≤ –Ω–µ–π –±—ã–ª–∞ –≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞–Ω–∞.
–ù–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–º –¥–≤–æ—Ä–µ –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç–∞ –¥–≤–æ–µ —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –æ–Ω–∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ñ–∏–ª–∏ —Ç—É—Ç –∂–µ, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–≤–µ—Ä—å –∏ –æ–∫–Ω–∞ –∏—Ö –∫–∞–º–æ—Ä–∫–∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ —é–≥, —Å –≤–Ω–µ—à–Ω–µ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –¥–æ–º–∞. –ì–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–∏ –∏–∑ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä–∞–±–æ—á–∏–µ –º–µ–Ω—è –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —É—Å–æ–º–Ω–∏—Ç—å—Å—è –æ–¥–∏–Ω —Å–ª—É—á–∞–π. –≠—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞ –ø–æ–≤–æ–∑–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è –ø–æ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω–∏, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å, «–Ω–∞–±–∏—Ç—å –ø–ª–∞–Ω–æ–≤». –Ø –≤—ã—Å–∫–∞–∑–∞–ª –ø–æ–∂–µ–ª–∞–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞—Å —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫ –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏. –ù–∞–≤—Å–∫–∏–¥–∫—É —Ç–∞–∫–æ–≥–æ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–∞ —Å—Ä–∞–∑—É –Ω–µ –Ω–∞—à–ª–æ—Å—å. –ü–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–∏—à–µ–ª –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ, –æ–ø—è—Ç—å —á–µ–π-—Ç–æ –±—Ä–∞—Ç. –ù–æ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Ç–æ–ª–∫—É –±—ã–ª–æ — —á—É—Ç—å. –î–æ–µ—Ö–∞–ª–∏, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –¥–æ –¥–æ–º–∞ –ê—É—à–µ–≤–∞. –≠—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π — –ø–æ –∏–Ω–≥—É—à—Å–∫–∏–º –º–µ—Ä–∫–∞–º — –¥–æ–º —É –æ–∑–µ—Ä–∞ –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω–∏. –Ý—è–¥–æ–º —Ç–∞–∫–∏–µ –∂–µ — —á–ª–µ–Ω–æ–≤ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞. –í—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥, –ø–æ—Å–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞. –ê –≤–æ—Ç –ø–æ–µ—Ö–∞—Ç—å —Å –Ω–∞–º–∏ –≤ –ê—Å—Å–∏–Ω–æ–≤—Å–∫—É—é, –∫–∞–∫ –º—ã –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–æ–º, –æ–Ω –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –±–µ–∑ –Ω–µ–≥–æ: —è, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∏ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω. –ü–æ —Å–∞–º–∞—Ä—Å–∫–∏–º –º–µ—Ä–∫–∞–º, —ç—Ç–æ –Ω–µ –¥–∞–ª–µ–∫–æ, — –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ 30. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ –ê—Å—Å–∏–Ω–æ–≤—Å–∫—É—é, –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–≤–µ–∑ –Ω–∞—Å –Ω–∞ –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç «–ö–∞–≤–∫–∞–∑-1». –≠—Ç–æ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ —Å –ß–µ—á–Ω–µ–π. –ö–∞–∫-—Ç–æ –º—ã –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –¥–≤–∞ –∑–∞—Å–ª–æ–Ω–∞ — –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π –ø–æ—Å—Ç –∏ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π, –≥–¥–µ —Å—Ç–æ—è–ª –ë–¢–Ý.
— –í–æ–Ω —Ç–∞–º –∑–∞ –º–æ—Å—Ç–∏–∫–æ–º, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω, — —É–∂–µ –ß–µ—á–Ω—è.
–ü–µ—Ä–µ–¥ –º–æ—Å—Ç–∏–∫–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω–∏–∫–∏. –¢–∞–º –∂–µ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –ë–ú–ü.
— –ß—Ç–æ-—Ç–æ —Å —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–Ω–æ, — –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ê —Ç–∞ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞ –Ω–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–µ—Ç—Å—è, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω. — –ù–µ –æ—Ç –∫–æ–≥–æ…
–ú—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –µ—Ö–∞—Ç—å. –Ø –≤—Ç–∏—Ö–∞—Ä—è —Å–Ω–∏–º–∞–ª. –í—Ç–∏—Ö–∞—Ä—è –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –Ω–µ –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–ª—è—Ç—å –∫–∞–º–µ—Ä—É –Ω–∞ –≤—Å–µ–æ–±—â–µ–µ –æ–±–æ–∑—Ä–µ–Ω–∏–µ.
— –ú–æ–∂–µ—Ç, –ø–æ–µ–¥–µ–º –≤ –ß–µ—á–Ω—é? — –≤–¥—Ä—É–≥ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω.
— –ê –Ω–∞—Å –ø—Ä–æ–ø—É—Å—Ç—è—Ç? — –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
–ú—ã —É–∂–µ –µ—Ö–∞–ª–∏ –º–∏–º–æ –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω—Ü–æ–≤. –ò –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –±—ã, –Ω–æ –Ω–∞—Å –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π — –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω.
–ù–∞—á–∞–ª–∞—Å—å —Ä–∞–∑–±–æ—Ä–∫–∞. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –∑–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç—É. –ê —É–∂ –∫–æ–≥–¥–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–∞ —Å–≤–æ–µ —É–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏–µ –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–∞ –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–∞ –ì–æ—Å–¥—É–º—ã, –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω —Å—Ä–∞–∑—É —Å—Ç–∞–ª –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –∑–≤–æ–Ω–∏—Ç—å. –ü–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª –ø–æ–¥–ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫ — –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–æ—Ç—Ä—è–¥–∞.
— –í—ã —á—Ç–æ, —Å —É–º–∞ —Å–æ—à–ª–∏, — –≤–µ—â–∞–ª –æ–Ω –≥—Ä–æ–º–æ–ø–æ–¥–æ–±–Ω—ã–º –±–∞—Å–æ–º, — —É –Ω–∞—Å –≤—Å–µ –Ω–∞—Ä—è–¥—ã —É—Å–∏–ª–µ–Ω—ã, –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ –ß–µ—á–Ω–∏ —Å –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–æ–º –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞ — –∞–≤–∏–∞—Ü–∏—é –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª–∏, –∞ –≤—ã –Ω–∞–ø—Ä–æ–ª–æ–º –ø—Ä–µ—Ç–µ! –í–∞–º –∂–∏—Ç—å –Ω–∞–¥–æ–µ–ª–æ?
–í —Ö–æ–¥, –∫—Ä–æ–º–µ —É–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏—è –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–∞ –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–∞ –ø–æ—à–ª–æ –∏ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç—Å–∫–æ–µ —É–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏–µ. –ù–µ –ø–æ–º–æ–≥–ª–æ.
— –ù–µ—Ç! — —Ç–≤–µ—Ä–¥–æ –æ—Ç—Ä–µ–∑–∞–ª –ø–æ–¥–ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫. — –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –≤ –º–æ–µ –¥–µ–∂—É—Ä—Å—Ç–≤–æ!
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –Ω–∞—Å –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å –ø–æ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—é –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏—Ö –¥–µ–ª –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏. –ò –ø–æ–≤–µ–∑–ª–∏ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤ –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–æ—Ç—Ä—è–¥ –≤ –°–ª–µ–ø—Ü–æ–≤—Å–∫, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø—Ä—è–º–æ –∫ –º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä—É –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –∫ –Ω–µ–º—É –∑–∞—à–ª–∏, –æ–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–∞–∫:
— –ö–∞–∫–∞—è –ß–µ—á–Ω—è! –í–∞—Å —É–∫—Ä–∞–¥—É—Ç –ø—Ä—è–º–æ –∑–¥–µ—Å—å, –≤ –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏. –ë–µ–∑ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫–æ–≤ –ú–í–î –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–µ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç–µ –∏–∑ –¥–æ–º–∞.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –º–∏–Ω–∏—Å—Ç–µ—Ä—Å—Ç–≤–∞, –Ω–∞—Å —É–∂–µ —Å –º–∞—à–∏–Ω–æ–π –∂–¥–∞–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –û–Ω–∞ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∞ –Ω–∞—Å —Ä—É–≥–∞—Ç—å, –Ω–æ –≤–æ—Ä—á–∞–ª–∞ –Ω–∞ —Å—ã–Ω–∞. –ö–∞–∫ –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, — –Ω–∞–∏–≥—Ä–∞–Ω–Ω–æ.
–ü–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–ª—É—á–∞—è –Ω–∞—à–∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä–µ—Å–µ–∫–∞—Ç—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –∏ –µ–µ –±—Ä–∞—Ç, –Ω–æ –∏ —Ç–µ –¥–≤–æ–µ —Ä–∞–±–æ—á–∏—Ö –∏–∑ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ –¥–æ–º–∞ –∑–∞–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –±–µ—Ç–æ–Ω.
–ö –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –¥–≤–æ–µ –∫–∞–∫–∏—Ö-—Ç–æ –µ—â–µ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –µ–µ, –∫–∞–∫ –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–∞ –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–∞ –ì–æ—Å–¥—É–º—ã, —Ö–æ–¥–∞—Ç–∞–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ –∏—Ö –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏. –û–Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–µ –ø–∏—Å—å–º–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∞. –°–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ –∫—Ä–æ–º–µ –∫–∞–∫ –≤ –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –≤ –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏ –Ω–µ–≥–¥–µ.
–í –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ 13 –∏—é–Ω—è –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –∏ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π. –î–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è —Å —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞–º–∏ –ß–µ–≥–æ–¥–∞–µ–≤–∞ –æ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ –µ–≥–æ —Å –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, —Ç–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∏ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å, –°–≤–µ—Ç–∞ –±—ã–ª–∞ –≤ –Ω–µ–¥–æ—É–º–µ–Ω–∏–∏.
— –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –æ–Ω–∞ —Ç–∞–º —Ä–µ—à–∞–ª–∞ –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ —Å–≤–æ–∏ –¥–µ–ª–∞. –ê –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –º–µ–Ω—è, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–¥–∞—Ç—å.
–ú—ã —É–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ—Å–º–µ–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞–¥ —ç—Ç–∏–º. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª –Ω–µ –ø—Ä–æ—á—å –≤—ã–ø–∏—Ç—å, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ —Ç–∞–∫. –ü—å—è–Ω—ã–π, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ç—ã –µ–π –Ω–µ –≤–µ—Ä—å! –í–æ—Ç –∫–∞–∫-–Ω–∏–±—É–¥—å —è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂—É —Ç–µ–±–µ, —á—Ç–æ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –æ–Ω–∞ —Ö–æ—á–µ—Ç —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å…
–Ø –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª –Ω–∞ —ç—Ç–æ –æ—Å–æ–±–æ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è. –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç –∂–µ, –±—ã–ª –∑–∞–Ω—è—Ç –¥–æ—á–µ—Ä—å—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –∏–∑ –°—É—Ä–≥—É—Ç–∞. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –æ–¥–Ω–∞, –±–µ–∑ –¥–µ—Ç–µ–π. –≠—Ç–æ —É –∏–Ω–≥—É—à–µ–π –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ —Ç–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –∏ —É —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤: –¥–µ—Ç–∏ –ø—Ä–∏ —Ä–∞–∑–≤–æ–¥–µ –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è —Å –æ—Ç—Ü–æ–º. –ñ–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –æ–Ω–∞ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞—è, –≤ –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç–∞. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –µ–µ –≤–∏–¥–µ–ª, —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω–∞ –∏ –ø–ª–∞–∫–∞–ª–∞. –Ø —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —É –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç–∞, —á—Ç–æ –∂–µ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Å –Ω–µ—é –±—É–¥–µ—Ç. –û–Ω –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –¥–æ–º–µ –æ—Ç—Ü–∞ –æ–Ω–∞ –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞. –í–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –ø–æ—Å–∞–¥—è—Ç –µ–µ –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É –∏ –æ—Ç–≤–µ–∑—É—Ç –Ω–∞ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–π –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–∫ — –ø—É—Å—Ç—å –∂–∏–≤–µ—Ç, –∫–∞–∫ –º–æ–∂–µ—Ç. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –≤—Å–µ —Ç–∞–∫ –∑–∞—Ç–µ–º –∏ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å.
–ê –≤–æ—Ç –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç –ø—Ä–∏–≥—Ä–æ–∑–∏–ª –∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤—Å–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—Ç –º–Ω–µ –æ –µ–µ –ø–ª–∞–Ω–∞—Ö, —Ç–∞ –Ω–µ –Ω–∞ —à—É—Ç–∫—É –∑–∞–±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–∞—Å—å. –ï–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–ª–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –±—É—Ç—ã–ª–æ–∫ –ø–∞–ª—ë–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—å—è–∫–∞ –∏ —Å–ø–∞–∏–≤–∞–ª–∞ –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç–∞. –ü—å—è–Ω—ã–π –æ–Ω –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –±—É—è–Ω–∏–ª, –≥–æ–Ω—è–ª –µ—ë –ø–æ –¥–≤–æ—Ä—É, –Ω–æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —Å –Ω–∏–º —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –∏ —É–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∞ —Å–ø–∞—Ç—å. –ö–∞–∫-—Ç–æ –æ–Ω–∞ –ø–æ—Ö–≤–∞–ª–∏–ª–∞—Å—å –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞–º–∏ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ –æ–±—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è —Å –º—É–∂–µ–º, –∏ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞ —Ç–∞–±–ª–µ—Ç–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç–æ–ª—á–µ—Ç –∏ –ø–æ–¥—Å—ã–ø–∞–µ—Ç –µ–º—É –≤ –∫–æ–Ω—å—è–∫. –û—Ç —Å–Ω–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç —Å–ø–∞–ª –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ —Å—É—Ç–∫–∏ –Ω–∞–ø—Ä–æ–ª–µ—Ç. –¢—Ä–µ–∑–≤—ã–º –µ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º –≤ —Å–∞–¥—É. –ù–æ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω—É—é –¥–æ–∑—É –∫–æ–Ω—å—è–∫–∞ —Å–æ —Å–Ω–∞–¥–æ–±—å–µ–º –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø–∞–ª.
12 –∏—é–Ω—è 1999 –≥–æ–¥–∞, —Å—É–±–±–æ—Ç–∞. –í–µ—á–µ—Ä. –ù–∞—Å –ø–æ–≤–µ–ª–∏ –º—ã—Ç—å—Å—è –≤ –±–∞–Ω—é. –≠—Ç–æ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –¥–æ–º–∞ –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤—ã—Ö — –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–∞ –¥–≤–∞. –¢–∞–º –∂–∏–ª –±—Ä–∞—Ç –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç–∞. –ù–∞ —Ä—É—Å—Å–∫—É—é –±–∞–Ω—é —ç—Ç–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –Ω–æ –ø–æ–º—ã—Ç—å—Å—è –º–æ–∂–Ω–æ. –Ø-—Ç–æ, —Ç–∞–∫ –∏–ª–∏ –∏–Ω–∞—á–µ, –º—ã–ª—Å—è –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ –ø–æ–¥ –∫–æ–ª–æ–Ω–∫–æ–π –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç–∞. –û–Ω–∏, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –≤–æ—Ä—á–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –º–Ω–æ–≥–æ –ø–µ–Ω—ã, –∞ —É –Ω–∏—Ö —Ç–∞–º –ø—å—é—Ç —É—Ç–∫–∏. –ù–æ —è –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –º—ã—Ç—å—Å—è, –Ω–∞–±–∏—Ä–∞—è –≤–æ–¥—É –≤ —Ç–∞–∑–∏–∫, –∏ –æ—Ç—Ö–æ–¥—è –∑–∞ –¥–æ–º.
–ü–æ—Å–ª–µ –±–∞–Ω–∏ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ –Ω–∞—Å –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª. –Ø —Å–∏–¥–µ–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–æ–º –∏ –≤ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–µ –æ–Ω —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ –ª–∏, —á—Ç–æ –º—ã –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ —Å —É—Ç—Ä–∞ –µ–¥–µ–º –≤ –ß–µ—á–Ω—é —Å –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –Ø –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª. –û–Ω –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –º–æ–µ–º –º–µ—Å—Ç–µ –æ–Ω –±—ã –Ω–µ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª.
13 –∏—é–Ω—è 1999 –≥–æ–¥–∞, –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ. –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —Å —É—Ç—Ä–∞ –Ω–µ—Ä–≤–Ω–∏—á–∞–µ—Ç. –í—ã–µ–∑–¥ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω –Ω–∞ 8-30. –ú—ã –≥–æ—Ç–æ–≤—ã. –Ø –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É –∏ –≤–∏–¥–µ–ª –∑–æ–ª–æ—Ç–∏—Å—Ç—ã–µ «–ñ–∏–≥—É–ª–∏» –±—Ä–∞—Ç–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω — –ê–ª–∏—Ö–∞–Ω–∞.
— –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω, –ø–æ—á–µ–º—É –Ω–µ –µ–¥–µ–º? — —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—é –µ–µ.
— –ê–ª–∏—Ö–∞–Ω –µ—â–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–µ—Ç –æ–Ω–∞. — –ù–µ –Ω–∞ —á–µ–º –µ—Ö–∞—Ç—å.
–ê–≥–∞. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –∂–¥–µ–º –µ—â–µ –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ. –ü–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç—ã –¥–µ—Ç–µ–∫—Ç–∏–≤–∞.
–ê –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞ –≤—Å–µ –±–µ–≥–∞–µ—Ç –ø–æ —É–ª–∏—Ü–µ, —è–∫–æ–±—ã –ª–æ–≤–∏—Ç—å –≥—É—Å–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–æ—Å–µ–¥–∏ —Å–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –≤—ã–≥–Ω–∞–ª–∏ –Ω–∞ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω—É—é —É–ª–∏—Ü—É. –ú–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç —É–∂–µ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ —Å –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤—ã–µ–∑–¥–∞. –ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å —Å «–ª–æ–≤–ª–∏ –≥—É—Å–µ–π», –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —Ä–µ—à–∞–µ—Ç –µ—Ö–∞—Ç—å. –í–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫–æ–µ, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –µ–π –¥–∞–ª–∏ –æ—Ç–º–∞—à–∫—É. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ê–ª–∏—Ö–∞–Ω.
–í –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç –ù–∞–¥—é –Ω–µ –±–µ—Ä—É—Ç –ø–æ–¥ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–≥–æ–º —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –≤ –º–∞—à–∏–Ω–µ –Ω–µ—Ç –º–µ—Å—Ç–∞, –∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞ –Ω–µ–∏—Å–ø—Ä–∞–≤–Ω–∞. –ü–æ–∑–∂–µ, —á–µ—Ä–µ–∑ 20 –º–∏–Ω—É—Ç, –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –æ—Ç–≤–µ–∑–µ—Ç –∂–µ–Ω—É –∫ –µ–µ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏. –ù–∞ «–¥–µ–≤—è–Ω–æ—Å—Ç–æ –¥–µ–≤—è—Ç–æ–π» –±—Ä–∞—Ç–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –º—ã –≤—ã–µ–∑–∂–∞–µ–º –≤ –ê—Å—Å–∏–Ω–æ–≤—Å–∫—É—é. –ù–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–º —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ –°–≤–µ—Ç–∞ –∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –ù–∞ –∏—Ö –∫–æ–ª–µ–Ω–∏ —Å–∞–¥–∏—Ç—Å—è –ú—É—Å–∞ — –º—É–∂–∏—á–∏—à–∫–∞ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ —Ä–æ—Å—Ç–∞, –Ω–æ –∫–æ—Ä–µ–Ω–∞—Å—Ç—ã–π. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏—Ç—Å—è — –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫ —á–µ–π-—Ç–æ, –≤–ª–∞–¥–µ–µ—Ç –±–æ–µ–≤—ã–º–∏ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞–º–∏. –ú—É—Å–∞ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–µ—Ç —É –°–≤–µ—Ç—ã, –Ω–µ –∏–∑–º—É—á–∏–ª –ª–∏ –æ–Ω –µ–µ, —Å–∏–¥—è —É –°–≤–µ—Ç—ã –Ω–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω—è—Ö, –ø–æ—Ç–æ–º –≤—Ç–∏—Ö–∞—Ä—è –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –ø–æ–º—É—á–∞–µ—Ç –µ–µ –µ—â—ë –±–æ–ª—å—à–µ.
–ê—Å—Å–∏–Ω–æ–≤—Å–∫–∞—è. –ü—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–µ–º –¥–æ–º–æ–π –∫ –ê–ª–∏—Ö–∞–Ω—É. –ò –≤–æ—Ç —Ç—É—Ç —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä—à–µ–π. –Ø —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≤ —Ç–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ –µ—Ö–∞—Ç—å –¥–≤—É–º—è –º–∞—à–∏–Ω–∞–º–∏. –ü—É—Ç—å –¥–æ–ª–≥–∏–π, —á—Ç–æ –º—ã –±—É–¥–µ–º —Å–∏–¥–µ—Ç—å –¥—Ä—É–≥ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–µ? –ê–ª–∏—Ö–∞–Ω –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–∏–ª—Å—è. –û–Ω –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –µ—Ö–∞—Ç—å, –Ω–æ —è —ç—Ç–æ–≥–æ –µ—â–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª. –ò –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —è –º–µ–Ω–µ–µ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –±—ã–ª –±—ã –≤–æ—Å—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω –≤ —ç—Ç–æ–π –ø–æ–µ–∑–¥–∫–µ. –û–± —ç—Ç–æ–º –Ω–µ –±–µ–∑ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—è –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª.
— –Ø –º–æ–≥—É –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è, –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
— –ù—É, —É–∂ —Ç—ã-—Ç–æ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–µ–¥–µ—à—å —Å–æ –º–Ω–æ–π, — —Å —Ç–∞–∫–æ–π –Ω–µ–ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –∑–ª–æ—Å—Ç—å—é –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –æ–Ω–∞, —á—Ç–æ —è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ–ø–µ—à–∏–ª. –¢–∞–∫–∏–º —Ç–æ–Ω–æ–º –æ–Ω–∞ –µ—â–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ —Å–æ –º–Ω–æ–π –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞.
— –í—Å–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞. — –ï–¥–µ–º –Ω–∞ BMW.
–ù–∞ –ø–æ—Ç–µ—Ä—Ç–æ–π —á–µ—Ä–Ω–æ–π BMW –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–æ–º–µ—Ä–æ–≤. –ò–∑ –∏–º–µ—é—â–∏—Ö—Å—è –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤ — —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–∫–∞-—Å—á–µ—Ç –æ –ø–æ–∫—É–ø–∫–µ –º–∏–Ω—É–≤—à–µ–π –Ω–æ—á—å—é.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∏ –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞ —Å–µ–ª–∏ —Å–∑–∞–¥–∏. –Ø — —Ä—è–¥–æ–º —Å —à–æ—Ñ–µ—Ä–æ–º. –ú—É—Å–∞ — –∑–∞ —Ä—É–ª—å.
–ù–∞ –º–Ω–µ —Å–µ—Ä–µ–Ω—å–∫–∞—è —Ç—Ä–∏–∫–æ—Ç–∞–∂–Ω–∞—è —Ä—É–±–∞—à–∫–∞, —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –¥–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–ª—É—á–∞—è –∫—É–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –∫–æ—Ä–∏—á–Ω–µ–≤—ã–µ –±—Ä—é–∫–∏ –∏ –±–µ–ª–∞—è –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∞—è —à–∞–ø–æ—á–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –æ–¥–µ—Ç—å –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
–ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–µ—Ö–∞—Ç—å. –ú—É—Å–∞ –¥–æ–ª–≥–æ —Ç—Ä–æ–≥–∞–ª—Å—è —Å –º–µ—Å—Ç–∞. –ù–æ –ø–æ–∫–∞ –º—ã –¥–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –¥–æ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∫–∞, —Å—Ç–∞–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –º–Ω–µ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è —Å–µ—Å—Ç—å –∑–∞ —Ä—É–ª—å. –≠—Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è –º–æ–≥—É —Å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –∑–∞ —Ä—É–ª—å –º–µ–Ω—è —Å–∞–∂–∞–ª–∏ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—á–µ–º? –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã —è –Ω–µ –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª—Å—è –≤–∏–¥–µ–æ–∫–∞–º–µ—Ä–æ–π. –û–Ω–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –æ—à–∏–±–∫—É. –ù–µ —Ç–æ–≥–æ –±–æ—è–ª–∏—Å—å.
–û—Ç –ê—Å—Å–∏–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–π –¥–æ –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç–∞ «–ö–∞–≤–∫–∞–∑-1» –¥–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –ù–∞ –ø–æ—Å—Ç—É –≤ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏ –ø—Ä–æ–µ–∑–¥–∞ —Å–≥—Ä—É–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –º–∞—à–∏–Ω. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞—Ä–µ–≥–∏—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –æ–∫–æ—à–µ—á–∫–µ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏ —à–ª–∞–≥–±–∞—É–º –∏ –ø—Ä–æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤ –ß–µ—á–Ω—é. –ú—ã –æ—Ç–¥–∞–ª–∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —Å–≤–æ–∏ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã. –Ø –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –º–∞–Ω–µ–≤—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∏ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –∫ —à–ª–∞–≥–±–∞—É–º—É. –ü—Ä—è–º–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä–ª–∞—Å—å –±–µ–ª–∞—è «—Å–µ–º–µ—Ä–∫–∞». –î—Ä—É–≥–æ–π –±—ã –Ω–∞ –º–æ–µ–º –º–µ—Å—Ç–µ –∑–ª–∏–ª—Å—è –µ–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è–º. –í–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å «—Å–µ–º–µ—Ä–∫–∏» –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –ø—É—Å–∫–∞–ª –Ω–∞—Å –∫ —à–ª–∞–≥–±–∞—É–º—É. –ù–æ —è —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –∏ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è –∑–∞ –º–∞—à–∏–Ω–æ–π. –í–æ–æ–±—â–µ, –∫ –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–µ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —è –ø—Ä–∏–≤—ã–∫ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—å—Å—è –∫–∞–∫ –∫ –ø–æ–≥–æ–¥–µ. –ù–µ –±—É–¥–µ—à—å –∂–µ –∑–ª–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –¥–æ–∂–¥—å –∏–ª–∏ —Å–Ω–µ–≥! –ß—Ç–æ —Ç–æ–ª–∫—É –∫—Ä–∏—á–∞—Ç—å –Ω–∞ –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è? –° –∫–∞–∫–æ–π —Ü–µ–ª—å—é? –ü–µ—Ä–µ–≤–æ—Å–ø–∏—Ç–∞—Ç—å?
–ö—Ä–∞–µ–º –≥–ª–∞–∑–∞ —è –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —É –æ–∫–æ—à–µ—á–∫–∞. –û–Ω–∞ –ø—ã—Ç–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –∫ –Ω–µ–º—É —Å–∫–≤–æ–∑—å —Ç–æ–ª–ø—É –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –Ω–æ –ø—ã—Ç–∞–ª–∞—Å—å –∫–∞–∫-—Ç–æ –Ω–µ–Ω–∞—Å—Ç–æ–π—á–∏–≤–æ. –ò –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –≤—Å—ë –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª–∞ –≤ –Ω–∞—à—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –æ–Ω–∞ –ø–æ–º–∞—Ö–∞–ª–∞ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞–º–∏ –¥–µ–∂—É—Ä–Ω–æ–º—É –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç—É –∏ –æ–ø—è—Ç—å –ø–æ–∫–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –Ω–∞—Å. –ü–æ—Ç–æ–º –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–æ—à–ª–∞ –∫ –º–∞—à–∏–Ω–µ. –ù–∞—Å —á—Ç–æ, —É–∂–µ –∑–Ω–∞—é—Ç –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç—É? –ù–∞—à–∏ —Ñ–∞–º–∏–ª–∏–∏ —É–∂–µ –∑–∞–ø–∏—Å–∞–Ω—ã?
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ-–∏–Ω–≥—É—à—Å–∫–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–π –º–∏–ª–∏—Ü–∏–æ–Ω–µ—Ä. –í–æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —è –∏ –±–æ—è–ª—Å—è. –õ–∞–¥–Ω–æ, –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —É–∂–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∫ –º–∞—à–∏–Ω–µ –∏ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –µ–º—É. –ë–µ–ª–æ–π —Å–µ–º–µ—Ä–∫–∏ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–∞–º –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∏ —à–ª–∞–≥–±–∞—É–º. –ü—Ä–æ–µ–∑–∂–∞—è —Ç–æ—Ä–µ—Ü –∑–¥–∞–Ω–∏—è –ø–æ—Å—Ç–∞, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –±–µ–ª–∞—è «—Å–µ–º–µ—Ä–∫–∞» —Å—Ç–æ–∏—Ç —Ç–∞–º.
— –ß—Ç–æ-—Ç–æ –æ–Ω–∏ –Ω–µ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏, — –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —è.
–ù–∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω, –Ω–∏ –ú—É—Å–∞ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∏.
–ó–∞–º–µ–ª—å–∫–∞–ª–∏ –ø–∏—Ä–∞–º–∏–¥–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ç–æ–ø–æ–ª—è –≤–¥–æ–ª—å —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã –Ý–æ—Å—Ç–æ–≤-–ë–∞–∫—É —É–∂–µ –ø–æ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ —à–ª–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –ø—É—Ç–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å –≥—Ä—É–ø–ø—ã –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã—Ö —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤. –¢–æ–≥–¥–∞ —è —Å–±–∞–≤–ª—è–ª —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å. –í –∑–µ—Ä–∫–∞–ª—å—Ü–µ –∑–∞–¥–Ω–µ–≥–æ –æ–±–∑–æ—Ä–∞ —è –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –æ–∑–∞–±–æ—á–µ–Ω–Ω–æ –æ–±–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –æ–Ω–∞ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –º–µ–Ω—è –µ—Ö–∞—Ç—å –ø–æ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–µ–µ. –ï—â–µ –º–∏–Ω—É—Ç—ã —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —É–≥–ª—É–±–∏–ª–∞—Å—å –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ª–µ—Å, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —Å–∑–∞–¥–∏ —Ç—É —Å–∞–º—É—é –±–µ–ª—É—é «—Å–µ–º–µ—Ä–∫—É». –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ —á–∞—â–µ –æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞–∑–∞–¥. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –º–Ω–µ –Ω–∞–¥–æ–µ–ª–æ —ç—Ç–æ –ø—Ä–µ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ. –°–±–∞–≤–∏–ª —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –µ–µ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥. –ù–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –ø–æ—Ç–æ–º, –±—ã–ª–æ –±–æ–ª–µ–µ, —á–µ–º —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º.
«–°–µ–º–µ—Ä–∫–∞» –ø–æ—à–ª–∞ –Ω–∞ –æ–±–≥–æ–Ω, –Ω–æ, –ø–æ—Ä–∞–≤–Ω—è–≤—à–∏—Å—å —Å –Ω–∞–º–∏, –Ω–µ –æ–±–≥–æ–Ω—è–ª–∞. –®–ª–∞ –≤—Ä–æ–≤–µ–Ω—å. –ò–∑ «—Å–µ–º–µ—Ä–∫–∏» –Ω–∞ –Ω–∞—Å —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –∏ —â–µ—Ä–∏–ª–∏—Å—å —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã. –û–Ω–∏ –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª–∏ —Ç–æ–≤–∞—Ä –ø–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ–∫—É–ø–∫–æ–π. –ú–Ω–µ —ç—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å, –∏ —è —Ä–µ–∑–∫–æ —É—à–µ–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥. «–°–µ–º–µ—Ä–∫–∞» —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∞—Å—å –Ω–µ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –∏ «–≤–∏—Å–µ–ª–∞ –Ω–∞ —Ö–≤–æ—Å—Ç–µ». –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –æ–Ω–∞ —Ç–∞–∫ —Ä–µ–∑–∫–æ –ø–æ—à–ª–∞ –Ω–∞ –æ–±–≥–æ–Ω, —á—Ç–æ —è —Ä–µ—à–∏–ª –µ–µ –ø—Ä–æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å. «–°–µ–º–µ—Ä–∫–∞» –æ–±–æ–≥–Ω–∞–ª–∞ –Ω–∞—Å –∏ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–¥—Ä–µ–∑–∞—Ç—å, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –∏ –≤–æ–≤—Å–µ –ø—Ä–∏–∂–∞–ª–∞ –∫ –æ–±–æ—á–∏–Ω–µ. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Ç–∞–∫ —Ä–µ–∑–∫–æ –∑–∞—Ç–æ—Ä–º–æ–∑–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—å –∑–∞–≥–ª–æ—Ö. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–µ —Ç–æ—Ä–º–æ–∑–∞ –∏ —Å–ø–∞—Å–ª–∏. –ú—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏ –æ—Ç «—Å–µ–º–µ—Ä–∫–∏».
–ò–∑ –Ω–µ–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞–º–∏ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –±—ã–ª —Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–π –ª–µ—Å. –ü–µ—Ä–µ—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ. –î—Ä–æ–∂–∞—â–µ–π —Ä—É–∫–æ–π —è –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –∫–ª—é—á –∑–∞–∂–∏–≥–∞–Ω–∏—è –∏ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—å –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª. –ü–æ–∫–∞ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –æ–ø–æ–º–Ω–∏–ª–∏—Å—å, —Ä–µ–∑–∫–æ –≤—ã–∫—Ä—É—Ç–∏–ª —Ä—É–ª—å –≤–ª–µ–≤–æ, —Å –≤–∏–∑–≥–æ–º —Ä–≤–∞–Ω—É–ª, —Å—É–º–µ–ª –æ–±—ä–µ—Ö–∞—Ç—å «—Å–µ–º–µ—Ä–∫—É», –ø–æ—Ç–æ–º —Ä–µ–∑–∫–æ –≤–ø—Ä–∞–≤–æ, –ª–µ–≤—ã–º –∑–∞–¥–Ω–∏–º –∫—Ä—ã–ª–æ–º –∑–∞–¥–µ–ª –¥–µ—Ä–µ–≤–æ –Ω–∞ –æ–±–æ—á–∏–Ω–µ –∏ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –ø–æ–ª–µ—Ç–µ–ª –ø–æ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ. –í –∑–µ—Ä–∫–∞–ª–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã —Å–∞–¥–∏–ª–∏—Å—å –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É. «–¢–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –Ω–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏», — –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π –≤–µ–ª–µ–ª –°–≤–µ—Ç–µ –ø—Ä–∏–≥–Ω—É—Ç—å—Å—è –ø–æ–Ω–∏–∂–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ —Å–ø–∏–¥–æ–º–µ—Ç—Ä, —Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–∞ —É–ø–æ–ª–∑–∞–ª–∞ –∑–∞ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏. –ú–∞—à–∏–Ω—É –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –æ—Ç—Ä—ã–≤–∞–ª–æ –æ—Ç —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã. –î–∞–∂–µ –Ω–∞ –ª–µ–≥–∫–∏—Ö –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–∞—Ö —è —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Å–µ–±—è –∫–∞–∫ –≤ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–µ –Ω–∞ –ø–æ—Å–∞–¥–∫–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ—Ç —É–∂–µ —á–∏—Ä–∫–Ω—É–ª —à–∞—Å—Å–∏ –ø–æ –±–µ—Ç–æ–Ω–∫–µ, –∞ –ø–æ–¥—Ç–∞—â–∏—Ç—å –µ–≥–æ –∫ –æ—Å–µ–≤–æ–π –ø–æ–ª–æ—Å–µ –µ—â–µ –Ω–µ —É–¥–∞–µ—Ç—Å—è. –ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–≤ –ø–µ—Ä–µ–¥ –®–∞–∞–º–∏-–Æ—Ä—Ç–æ–º —á–µ—Ç–∫–æ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –µ–¥—É –Ω–∞ –¥–≤—É—Ö –ø—Ä–∞–≤—ã—Ö –∫–æ–ª–µ—Å–∞—Ö. «–°–µ–º–µ—Ä–∫–∏» —Å–∑–∞–¥–∏ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–º —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ –æ—Ö–∞–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –°–≤–µ—Ç–∞ —Å–∏–¥–µ–ª–∞ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥—è—â–∏–º.
— –ù–∞–¥–æ –≥–Ω–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π, — –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª —è. –í—Å–µ –º–æ–ª—á–∞–ª–∏. –Ø –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ú—É—Å–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç–∫–ª—é—á–∏–ª—Å—è –æ—Ç –≤—Å–µ–≥–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å, –Ω–æ –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—å —Ä–æ—Ç. –ü–æ—Ç–æ–º –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ —É–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å —É—Ä–æ–≤–Ω—è –±–µ–Ω–∑–∏–Ω–∞ –≤ –±–∞–∫–µ –∏ —É–∂–∞—Å–Ω—É–ª—Å—è: —Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∞ –Ω—É–ª–µ. –£ –º–µ–Ω—è –≤–æ–∑–Ω–∏–∫ –Ω–æ–≤—ã–π –ø–ª–∞–Ω.
— –î–∞–≤–∞–π—Ç–µ –¥–æ–µ–¥–µ–º –¥–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–≥–æ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Å—Ç–∞ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–º—Å—è —Ç–∞–º.
— –ù–∞–¥–æ –µ—Ö–∞—Ç—å –∫ –ª—é–¥—è–º, –≤ —Å–µ–ª–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
— –î–∞! –ö –ª—é–¥—è–º, –∫ –ª—é–¥—è–º, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ú—É—Å–∞.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –º—ã –ø–æ–¥—ä–µ–∑–∂–∞–ª–∏ –∫ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ –®–∞–∞–º–∏-–Æ—Ä—Ç–∞. –Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∫ —Å–µ–ª—É –∏ —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–∏—Ç–æ—Ä–º–∞–∂–∏–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã —Å–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å —Ç—É–¥–∞. –ù–æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –≤ –æ–¥–∏–Ω –≥–æ–ª–æ—Å —Å –ú—É—Å–æ–π –∑–∞–∫—Ä–∏—á–∞–ª–∏:
— –ù–µ—Ç, –Ω–µ —Å—é–¥–∞! –ù–µ —Å—é–¥–∞!
–Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–∂–∞–ª –Ω–∞ –≥–∞–∑. –°–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ –≤ —Å–µ–ª–æ —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞ –º–æ—Å—Ç–∏–∫–æ–º —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–µ—á—É—à–∫—É. –ï–¥–≤–∞ –Ω–µ —Å–≤–∞–ª–∏–ª–∏—Å—å —Ç—É–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏ — –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª, –∫–∞–∫ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –∑–∞—Ç–æ—Ä–º–æ–∑–∏—Ç—å. –ü–æ–≥–Ω–∞–ª–∏ –ø–æ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–∫–µ –∫ –¥–æ–º–∞–º. –•–æ—Ç–µ–ª —Å–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–æ –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é —É–ª–∏—Ü—É, –Ω–æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª–∞:
— –ù–µ —Å—é–¥–∞, –≤ —Å–ª–µ–¥—É—é—â—É—é!
–ú—ã –±—ã–ª–∏ —É–∂–µ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤—É—Ö—Å—Ç–∞—Ö –æ—Ç —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã. –ë–æ–∫–æ–≤—ã–º –∑—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –Ω–∞ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ «—Å–µ–º–µ—Ä–∫—É». –ë–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞—Å. –Ý–µ—à–∏–ª –µ—Ö–∞—Ç—å –Ω–µ –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –∞ –Ω–∞–ø—Ä—è–º–∏–∫, –ø–æ –±—É–µ—Ä–∞–∫–∞–º –∫–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ —Å—á–µ—Ç—É —É–ª–∏—Ü–µ. –ú–∞—à–∏–Ω—É —Ç—Ä—è—Å–ª–æ —Å–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–π —Å–∏–ª–æ–π, –Ω–æ —è –Ω–µ —Å–±–∞–≤–ª—è–ª —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç–∏. –í—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ —É–∑–∫—É—é —É–ª–æ—á–∫—É. –ü–æ –±–æ–∫–∞–º –∑–∞–±–æ—Ä—ã, –¥–µ—Ç–∏ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ –∏–≥—Ä–∞—é—Ç. –ü–æ —Å–∞–ª–æ–Ω—É –∫–ª—É–±–∏–ª—Å—è –¥—ã–º –æ—Ç —Å–≥–æ—Ä–µ–≤—à–µ–≥–æ –º–∞—Å–ª–∞. –ú—ã –ø—Ä–æ–±–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∫–æ—á–∫–∞—Ö –∫–∞—Ä—Ç–µ—Ä. –í–¥—Ä—É–≥ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –≤–æ—Å–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª–∞:
— –ó–¥–µ—Å—å, –∑–¥–µ—Å—å –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Å—å. –≠—Ç–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, —è –∏—Ö –∑–Ω–∞—é!
–ú—É–∂—á–∏–Ω –±—ã–ª–æ —Ç—Ä–æ–µ. –°—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –¥–≤–æ–µ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤—ã—Ö. –Ø –∏—Ö —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª. –û–¥–∏–Ω — –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä — –≤ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–µ. –í—Ç–æ—Ä–æ–π — –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π —Ä–æ—Å—Ç–æ–º — –Ý—É—Å–ª–∞–Ω. –ò–∑ –¥–æ–º–∞ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–∞ —Ö—Ä—É–ø–∫–∞—è —à—É—Å—Ç—Ä–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞.
— –°–ø–∞—Å–∏—Ç–µ –Ω–∞—Å, –¥–æ–±—Ä—ã–µ –ª—é–¥–∏! — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∫ –Ω–∏–º –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞. — –ù–∞ –Ω–∞—Å –Ω–∞–ø–∞–ª–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã!
–°—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤—Å–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ –≤ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ. –ù–∞—Å –ø–æ—Ç–∞—â–∏–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –¢—É–¥–∞ –∂–µ, –≤–æ –¥–≤–æ—Ä, –∑–∞–≥–Ω–∞–ª–∏ –º–∞—à–∏–Ω—É. –ü—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ –∑–∞–π—Ç–∏ –≤ –¥–æ–º, –Ω–æ –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞ –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –∑–∞—Ç–∞—â–∏–ª–∞ –Ω–∞—Å —Å–æ –°–≤–µ—Ç–æ–π –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª. –°–∞–º–∞ –ø–æ—à–ª–∞ –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –¥–æ–º.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ —É–ª–∏—Ü–µ —É–∂–µ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∞ «—Å–µ–º–µ—Ä–∫–∞». –ú—ã –±—ã–ª–∏ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω—ã —Å–ª—É—á–∏–≤—à–∏–º—Å—è. –û —á–µ–º-—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –û —á–µ–º — –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
— –ó–Ω–∞—á–∏—Ç —Ç–∞–∫! — —Ç–æ–Ω–æ–º, –Ω–µ —Ç–µ—Ä–ø—è—â–∏–º –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–π –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –¢—ã, — –æ–Ω–∞ —Ç–∫–Ω—É–ª–∞ –≤ –º–µ–Ω—è –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º, — –≥–ª—É—Ö–æ–Ω–µ–º–æ–π —Ç–∞—Ç–∞—Ä–∏–Ω. –û–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–¥–µ–Ω–∏—è –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏. –¢—ã, — –æ–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∫ –°–≤–µ—Ç–µ, — —á–µ—á–µ–Ω–∫–∞!
— –ö–∞–∫ —á–µ—á–µ–Ω–∫–∞? — –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∞. — –Ý–∞–∑–≤–µ —è –ø–æ—Ö–æ–∂–∞ –Ω–∞ —á–µ—á–µ–Ω–∫—É?
— –û—Ç–µ—Ü —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, –º–∞—Ç—å —É–∫—Ä–∞–∏–Ω–∫–∞! — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –¢—ã –≤–æ—Å–ø–∏—Ç—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é –≤ –ö–∞–∑–∞—Ö—Å—Ç–∞–Ω–µ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤–æ—Ç –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –≤ –ß–µ—á–Ω—é –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω—É –æ—Ç—Ü–∞.
–ú—ã –∫–∏–≤–∞–ª–∏, –æ–∂–∏–¥–∞—è –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ — –æ–±–æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ–ª–µ–ø–æ–≥–æ –µ–µ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –∏ –æ–±–æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ.
— –ú–æ–∂–µ—Ç, –ª—É—á—à–µ –±—ã –º—ã –ø–æ–ø–∞–ª–∏ –∫ —Ç–µ–º –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º. –ê —ç—Ç–æ — –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –≥–Ω–µ–∑–¥–æ –≤–∞—Ö—Ö–∞–±–∏–∑–º–∞.
–ú—ã –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏—Å—å –≤ –¥–æ–º. –ù–∞—Å –ø—Ä–æ–≤–µ–ª–∏ –≤ –±–æ–ª—å—à—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É —Å –æ–∫–Ω–∞–º–∏ –Ω–∞ –¥–≤–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –¢–∞–º —Å–æ–±—Ä–∞–ª–æ—Å—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∞–º–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –¥–µ—Å—è—Ç—å. –ì–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥—è –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –∫–∞—Å–∞–ª—Å—è –Ω–∞—Å. –Ø —É–∂–µ –±—ã–ª «–≥–ª—É—Ö–æ–Ω–µ–º—ã–º». –ù–µ –ø–æ–º–Ω—é, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥–≤–∏–≥–ª–æ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å –≤ –±–ª–æ–∫–Ω–æ—Ç–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –¥–ª—è –°–≤–µ—Ç—ã. –Ø –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª: «–ö–∞–∫–æ–π —ç—Ç–æ –≥–æ—Ä–æ–¥?» –ù–æ –°–≤–µ—Ç–∞ —Å–∏–¥–µ–ª–∞ –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –ü–æ–∫–∞ —è –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–≤–∞–ª –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, –µ–≥–æ —É–∂–µ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –∏ –µ–≥–æ –∂–µ–Ω–∞. –û–Ω–∏ –∂–µ –µ–≥–æ –∏ –æ–∑–≤—É—á–∏–ª–∏. –ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —è –≤—ã–¥–∞–ª —Å–µ–±—è —É–∂–µ —Å–∞–º–∏–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º. –ù–∏ –æ–¥–∏–Ω, –∑–Ω–∞—é—â–∏–π –ß–µ—á–Ω—é —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç –µ–≥–æ –≤ —Ç–∞–∫–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–µ. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≥–æ—Ä–æ–¥ –≤ –ß–µ—á–Ω–µ –æ–¥–∏–Ω — –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π. –û–Ω–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç «–ø–æ–µ–¥–µ–º –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥». –°–∫–∞–∑–∞—Ç—å «–ø–æ–µ–¥–µ–º –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π» —ç—Ç–æ –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤ –°–∞–º–∞—Ä–µ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å «–ø–æ–π–¥–µ–º –Ω–∞ —Ä–µ—á–∫—É». –¢–æ–ª—å–∫–æ «–Ω–∞ –í–æ–ª–≥—É»! –ù–∞ —Ä–æ–ª—å –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –º–æ–≥–ª–æ –±—ã –ø—Ä–µ—Ç–µ–Ω–¥–æ–≤–∞—Ç—å —Å–µ–ª–æ –£—Ä—É—Å-–ú–∞—Ä—Ç–∞–Ω, –Ω–æ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á–∏—Ç–∞—é—Ç –≥–æ—Ä–¥–∏—Ç—å—Å—è –∏–º, –∫–∞–∫ –æ—á–µ–Ω—å –±–æ–ª—å—à–∏–º —Å–µ–ª–æ–º, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ –∫–∞–∫ –∑–∞—à—Ç–∞—Ç–Ω—ã–º –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º.
–¢–∞–∫ –≤–æ—Ç, –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –ø—Ä–æ–∑–≤—É—á–∞–ª, –∫ –º–æ–µ–º—É —É–∂–∞—Å—É –∂–µ–Ω–∞ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞ —è–∑—ã–∫–æ–º –∂–µ—Å—Ç–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é—Ç –≤—Å–µ –≥–ª—É—Ö–æ–Ω–µ–º—ã–µ, –æ—á–µ–Ω—å –∫–≤–∞–ª–∏—Ñ–∏—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞: «–®–∞–∞–º–∏-–Æ—Ä—Ç». –Ø —Å–º–æ–≥ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏—Ç—å, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–º–æ—Ç–∞–≤ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π, –≤ —Ç–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ, —á—Ç–æ –ø–æ–Ω—è–ª. –ù—É, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —è –º–æ–≥ –∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –ø—Ä–µ–ø–æ–¥–∞–≤–∞–ª–∞ –≤ —à–∫–æ–ª–µ –¥–ª—è –≥–ª—É—Ö–æ–Ω–µ–º—ã—Ö –¥–µ—Ç–µ–π.
–ê –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —É–∂–µ –Ω–∞ —Ö–æ–¥—É –≤—ã–¥—É–º—ã–≤–∞–ª–∞ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏—è –≤ –ß–µ—á–Ω—é. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª —Å–Ω—è—Ç—å —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω—ã —Ä–µ—Å–∫–æ–º–∞ –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º. –ï—ë –ø–æ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏, —Å–∫–∞–∑–∞–≤, —á—Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–æ–º, –≤ —á–µ—Å—Ç—å –ø–æ–≥–∏–±—à–µ–≥–æ –î—É–¥–∞–µ–≤–∞. –ê —Ä–µ—Å–∫–æ–º, –¥–ª—è —Ç–µ—Ö, –∫—Ç–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º —Å —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—è–º–∏ — —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä–µ—Å–ø—É–±–ª–∏–∫–∞–Ω—Å–∫–∏–π –∫–æ–º–∏—Ç–µ—Ç. –î–ª—è —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ —Å–ª–æ–≤–æ «–æ–±–∫–æ–º». –¢–∞–∫ –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ –æ–¥–Ω–æ –∏ —Ç–æ –∂–µ. –ü–æ—Ç–æ–º —ç—Ç–æ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–∏–º –¥–≤–æ—Ä—Ü–æ–º.
–ü–æ–∫–∞ –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞ –∏–∑–ª–∞–≥–∞–ª–∞ –ª–µ–≥–µ–Ω–¥—É, –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç. –í—Å–µ –≤—Å—Ç–∞–ª–∏. –≠—Ç–æ —É –Ω–∏—Ö —Ç–∞–∫ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ. –í—ã–π–¥–µ—Ç –æ–Ω –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –Ω–∞ –º–∏–Ω—É—Ç—É, –æ–ø—è—Ç—å –∑–∞–π–¥–µ—Ç — —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—Å–µ –≤—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç. –ù–∞ –≤–∏–¥ –æ–Ω –º–Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è. –£ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–µ, —á–µ—Å—Ç–Ω–æ–µ –ª–∏—Ü–æ. –ë–µ–ª–∞—è —Ä—É–±–∞—à–∫–∞, –Ω–∞ –ø–æ—è—Å–µ –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –≤ –∫–æ–±—É—Ä–µ. –û–Ω –≤—Å–µ –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–ª –∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª, –Ω–∞ –Ω–∞—à –≤–∑–≥–ª—è–¥, —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–µ — –æ–Ω –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –ø–æ–µ—Ö–∞—Ç—å –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π –ø–æ –Ω–∞—à–∏–º –ø–ª–∞–Ω–∞–º –Ω–∞ –∏—Ö –º–∞—à–∏–Ω–∞—Ö –∏ –≤ –∏—Ö –∂–µ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏. –õ–∏—à—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –∑–∞–∏–∫–Ω—É–ª–∞—Å—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–∞—à–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ —Ä–∞–∑–±–∏—Ç–∞, —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –∫ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞—à–Ω–µ–º—É –¥–Ω—é –µ–µ –æ—Ç—Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä—É—é—Ç.
–ù—É, –∏ –º—ã –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏. –î–≤—É–º—è –¥–∂–∏–ø–∞–º–∏.
–ù–∞—à—É –º–∞—à–∏–Ω—É –≤–µ–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Å–∏–¥–µ–ª –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä. –Ø —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è –∑–∞ –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º, –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ –°–≤–µ—Ç–∞, –∞ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ — –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –ü–æ—á—Ç–∏ –≤—Å—é –¥–æ—Ä–æ–≥—É –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –º–µ–Ω—Ç–æ—Ä—Å–∫–∏–º —Ç–æ–Ω–æ–º –≤–µ—â–∞–ª–∞ –æ –¥—Ä—É–∂–±–µ –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤, –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –≤ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω—É –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ –±—Ä–∞–Ω–∏ –∏ –±—Ä–æ—Å–∞–ª–∏ –º–µ–∂–¥—É —Å—Ä–∞–∂–∞—é—â–∏–º–∏—Å—è –º—É–∂—á–∏–Ω–∞–º–∏ –±–µ–ª—ã–π –ø–ª–∞—Ç–æ–∫. –ò —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞–ª–∞—Å—å –≤–æ–π–Ω–∞. –ß–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–±–∏–≤–∞–ª–∏ –µ–µ.
–í—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –ß–µ—Ä–Ω–æ—Ä–µ—á—å–µ. –¢–∞–º –º–∞–ª–æ —á—Ç–æ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–æ—Å—å —Å —Ç–æ–π –ø–æ—Ä—ã, –∫–∞–∫ —è –±—ã–ª —Å –º–∏—Å—Å–∏–µ–π –ø–æ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é –õ–µ—à–∏ –ë–µ–∑–ª–∏–ø–∫–∏–Ω–∞ — —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞ 81 –ø–æ–ª–∫–∞. –ü–æ—á—Ç–∏ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Å–Ω–∏–º–∞—é. –ù–∞–¥–æ –±—ã —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –æ—Ç–∫—Ä–æ—é –æ–∫–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Å–Ω—è—Ç—å –ø—Ä–æ–µ–∑–¥–∫—É «–∏–∑-–ø–æ–¥ –∫–æ–ª–µ—Å–∞». –≠—Ç–æ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç –ø–ª–∞–Ω—ã, —Å–Ω—è—Ç—ã–µ, –µ—Å–ª–∏ –∫–∞–º–µ—Ä—É –æ–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –Ω–∏–∑–∫–æ, –ø–æ—á—Ç–∏ –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∏–∑ –æ–∫–Ω–∞ –¥–≤–∏–∂—É—â–µ–π—Å—è –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ó–Ω–∞–∫–∞–º–∏ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—é –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –æ–ø—É—â—É —Å—Ç–µ–∫–ª–æ. –û–Ω–∞ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç. –û–ø—É—Å–∫–∞—é –±–µ–∑ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –∏ —Å–Ω–∏–º–∞—é. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –∏–¥–µ—Ç –∫ –ú–∏–Ω—É—Ç–∫–µ. –≠—Ç–æ –ø–ª–æ—â–∞–¥—å –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–≥–æ, –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–Ω–∞—è —Ç–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –∫–∞—Ñ–µ –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏—Ö –¥–µ–≤—è—Ç–∏—ç—Ç–∞–∂–µ–∫. –ù–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤, –≤ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –¥–µ–≤—è—Ç–∏—ç—Ç–∞–∂–∫–µ, –∫–∞—Ñ–µ «999» — «–¢—Ä–∏ –¥–µ–≤—è—Ç–∫–∏». –¢–æ–≥–¥–∞, –≤ 1995 –≥–æ–¥—É –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª —à—Ç–∞–± –®–∞–º–∏–ª—è –ë–∞—Å–∞–µ–≤–∞. –¢–∞–º –∂–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –∏ –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ, –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏–∑ –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞ –Ω–∞–∫–∞–Ω—É–Ω–µ. –ü—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–µ–º –ø–æ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏. –•–æ—á–µ—Ç—Å—è –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ –°–≤–µ—Ç–µ, –Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –º–Ω–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è.
— –í–æ—Ç —Ç—É—Ç, — –Ω–µ –±–µ–∑ –≥–æ—Ä–¥–æ—Å—Ç–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –Ý—É—Å–ª–∞–Ω, — —É —ç—Ç–æ–π –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω—ã –º–æ—Å—Ç–∞ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∏ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞ –Ý–æ–º–∞–Ω–æ–≤–∞.
–ù–∞ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–µ –∫ –º–æ—Å—Ç—É —á–µ—Ä–µ–∑ –°—É–Ω–∂—É —É –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞ —è –≤–Ω–æ–≤—å —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–∏—è –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ —É–∂–∞—Å–∞—é—â–∏–µ, –∏ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–µ—Ç.

«–ì–ª—É—Ö–æ–Ω–µ–º–æ–π» –æ–ø–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤ –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω–∞—Ö –Ý–µ—Å–∫–æ–º–∞
–ü—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–Ω –±—ã–ª —Å–Ω–µ—Å–µ–Ω –ø–æ–¥ —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç. –ó–∏—è–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ —è–º—ã –ø–æ–¥–≤–∞–ª–æ–≤, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç—ã, –¥–∞ –µ—â–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Ç–æ—Ä—á–∞—Ç—å –Ω–∞–¥ –∑–µ–º–ª–µ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü-–∑–∞–ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–∞—Ä–∞–µ–º.
–Ø –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞–π—Ç–∏ –≤ –≤–∏–¥–æ–∏—Å–∫–∞—Ç–µ–ª—å –≥–æ—Å—Ç–∏–Ω–∏—Ü—É «–ö–∞–≤–∫–∞–∑», –Ω–æ –Ω–µ –Ω–∞—à–µ–ª. –û–Ω–∞ —Ç–æ–∂–µ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞ —Å–≤–æ–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–µ.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ä–µ—à–∏–ª–∞ –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–¥ –∫–∞–º–µ—Ä–æ–π. –ü–æ–¥–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –º–µ–Ω—è –∂–µ—Å—Ç–∞–º–∏. –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞ –∫–∞–º–µ—Ä—É, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–ø–∞—Å—Ç–∏—Å—å, –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —Å–ø–∞—Å–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –≤ –∫–∞–º–µ—Ä—É —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∫ –Ω–µ–π –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—è—Ç –¥–≤–µ —Å—Ç–∞—Ä—É—Ö–∏-—á–µ—á–µ–Ω–∫–∏. –û–Ω–∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç –æ–±–Ω–∏–º–∞—Ç—å –∏ —Ü–µ–ª–æ–≤–∞—Ç—å –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤—É. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤–æ–π–Ω—ã, –≤ 1995 –≥–æ–¥—É –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –≤–æ–∑–∏–ª–∞ –≤ –ß–µ—á–Ω—é –≥—É–º–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–Ω—É—é –ø–æ–º–æ—â—å. –≠—Ç–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –ø–æ–º–Ω—è—Ç –µ–µ. –£ –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–æ–π —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∞—Å—å –º–µ–¥–∞–ª—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –æ–Ω–∞ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞ –æ—Ç –î—É–¥–∞–µ–≤–∞ –≤ —Ç—É –≤–æ–π–Ω—É. –ü–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç, –≤—Å–µ—Ö, –∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤ —Å—Ç—Ä–æ—é –∫–∞–∂–¥–æ–º—É –≤—Ä—É—á–∏–ª–∏ –ø–æ –º–µ–¥–∞–ª–∏.
–ü–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –ø–æ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä—É –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–≥–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å. –ó–∞–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–º–æ—Ä–∏–∞–ª—å–Ω–æ–µ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ, –≥–¥–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –µ–¥–≤–∞ –Ω–µ –≤—ã–¥–∞–ª–∞ –Ω–∞—Å, –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å –∫–æ –º–Ω–µ –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º. –õ–∞–¥–Ω–æ, –º—ã –±—ã–ª–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ 20 –æ—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ó–¥–µ—Å—å –∂–µ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–ª–∞ –∫ —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–º—É –±—Ä–∞—Ç—É –∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –µ–≥–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –≤ –æ–±—ä–µ–∫—Ç–∏–≤ –∫–∞–º–µ—Ä—ã. –¢–æ—Ç –ø–æ–∫–æ—Ä–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª.
–í –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏–µ –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –∫ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∫–∞–º –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞, –∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ–∂–µ–ª–∞–ª–∏ –∑–∞–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ—Ç—å—Å—è –ø–æ–¥ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–º —â–∏—Ç–æ–º —Å –ø–æ—Ä—Ç—Ä–µ—Ç–æ–º –î—É–¥–∞–µ–≤–∞ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–≥–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞. –ü–ª–∞–Ω—ã –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏—Å—å —Å–∏–º–≤–æ–ª–∏—á–Ω—ã–µ. –Ø –≤—ã–±—Ä–∞–ª –º–µ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –∑–∞ —ç—Ç–∏–º —â–∏—Ç–æ–º –≤–∏–¥–Ω–µ–ª–∏—Å—å —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω—ã –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª–∏.
–û–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –≤ –®–∞–∞–º–∏-–Æ—Ä—Ç –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ —É–∂–µ –Ω–µ –≤ –¥–æ–º –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞, –∞ –∫ –æ—Ç—Ü—É –∏ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏, –∏–Ω–∞—á–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, –≤ –¥–æ–º –º–ª–∞–¥—à–µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞ — –ú—É—Å–ª–∏–º–∞. –ü–æ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–º –æ–±—ã—á–∞—è–º, –¥–æ–º –æ—Ç—Ü–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫ –º–ª–∞–¥—à–µ–º—É —Å—ã–Ω—É. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –æ –∫–∞–∫–∏—Ö-—Ç–æ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö. –ö–∞–∫ —è –ø–æ–Ω—è–ª, —Å–ª–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–∞—Å–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –∏—Ö –¥–æ–º–µ. –ü–æ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ –ø—Ä–æ—à–µ–ª —Ö–º—É—Ä—ã–π –æ—Ç–µ—Ü, –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –Ω–∞—Å –Ω–µ–æ–¥–æ–±—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏ —É—à–µ–ª. –ú—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–æ–º –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏. –ù–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ª–∏—Ü–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ü–æ–∫–∞ –≤—Å–µ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏, –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–∞ —É—à–ª–∞ –∫—É–¥–∞-—Ç–æ —Å –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–æ–º –∏ –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä–æ–º. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å, —É–ª—ã–±–∞–ª–∞—Å—å –æ—Ç —É—Ö–∞ –¥–æ —É—Ö–∞.
— –í—Å–µ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞ –Ω–∞–º, — –º—ã –æ—Å—Ç–∞–µ–º—Å—è –¥–æ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞. –ê —Ç–∞–º –º–∞—à–∏–Ω—É –ø–æ—á–∏–Ω—è—Ç — –∏ –ø–æ–µ–¥–µ–º. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –Ω–∞–º –Ω–µ–ª—å–∑—è –µ—Ö–∞—Ç—å, –º–æ–≥—É—Ç –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å —Ç–µ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∏—Å—á–µ–∑ –ú—É—Å–∞. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –æ–Ω —É–µ—Ö–∞–ª –≤ –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏—é –Ω–∞ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–µ. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –¥–æ–º–æ–π –∑–∞—Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∞—Å—å –∏ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω. –Ø —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å –ø–æ–¥–≤–æ—Ö, –Ω–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥! –Ø –∂–µ –≥–ª—É—Ö–æ–Ω–µ–º–æ–π! –ê –º–µ–Ω—è —Ç–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º —Å—Ç–∞–ª–∏ —É–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å —Å–ø–∞—Ç—å. –û—Ç–≤–µ–ª–∏ –≤ —Å–ø–∞–ª—å–Ω—é, –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –ò –≤–æ—Ç, —Ä–∞–∑–¥–µ–≤–∞—é—Å—å –∏ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ —Å —ç—Ç–∏–º –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–ª–æ–º –Ω–∞–¥–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å. –Ý–∞–∑–¥–µ–≤—à–∏—Å—å –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–æ —Ç—Ä—É—Å–æ–≤, —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–¥–µ–≤–∞—é—Å—å –∏ —Ä–µ—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–¥—É –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É, –≥–¥–µ –º—ã –≤—Å–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∏. –¢–∞–º –±—ã–ª–∏ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç –≤ –±–µ–ª–æ–π —Ä—É–±–∞—Ö–µ –∏ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π — –ø–æ–º–ª–∞–¥—à–µ.
— –ò–∑–≤–∏–Ω–∏—Ç–µ, — –≥–æ–≤–æ—Ä—é, — –Ω–æ —è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –º–∞—Å–∫–∞—Ä–∞–¥. –ß—É–≤—Å—Ç–≤—É—é, –∫–∞–∫ —É –º–µ–Ω—è –≥–æ—Ä—è—Ç —É—à–∏.
— –ê –º—ã –¥–∞–≤–Ω–æ –∂–¥–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ–π–¥–µ—Ç, — —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π. — –ñ–µ–Ω–∞ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞ —É–º–µ–µ—Ç –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å—Å—è —è–∑—ã–∫–æ–º –≥–ª—É—Ö–æ–Ω–µ–º—ã—Ö. –û–Ω–∞ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª–∞, —á—Ç–æ –≤—ã –Ω–µ –∏–Ω–≤–∞–ª–∏–¥ –ø–æ —Å–ª—É—Ö—É.
–Ø —Å—Ç–∞–ª –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ –∂–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ. –ü–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥—Ä—É–≥–∏–µ —á–ª–µ–Ω—ã —Å–µ–º—å–∏. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–∞—Å—å –∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∞—Å—å —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å, –Ω–æ —è –µ—ë —Ä–µ–∑–∫–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª.
— –ò–∑–≤–∏–Ω–∏, –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω, –Ω–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –±—É–¥—É —è. –î–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞–º–∏ –¥—Ä—É–∑—å—è, –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É—Ç—å –∏–º –≤ –≥–ª–∞–∑–∞.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤–æ–¥–∫–∞, –Ω–∞—Å –ø–æ–∫–æ—Ä–º–∏–ª–∏.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –æ–± –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ –ß–µ–≥–æ–¥–∞–µ–≤–µ, –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—é. –û–Ω –ø–æ–≤–µ—Ä—Ç–µ–ª –µ–µ –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä—É. –¢–æ—Ç –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –∏, –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å, –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å:
— –¢–∞–∫ —ç—Ç–æ –∂–µ –ê–±–¥—É–ª–ª–∞!
— –û–Ω –∂–∏–≤? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –ñ–∏–≤-–∑–¥–æ—Ä–æ–≤. –ü—Ä–∏–Ω—è–ª –∏—Å–ª–∞–º. –í–æ—é–µ—Ç. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, –∑–∞—Ö–æ—á–µ—Ç –ª–∏ –æ–Ω –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å—Å—è —Å –≤–∞–º–∏.
— –¢–∞–∫ –≤–µ–¥—å –µ–≥–æ –º–∞—Ç—å –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω–∏ –∂–¥–µ—Ç!
— –Ø –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É—é —É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –¥–ª—è –≤–∞—Å —ç—Ç—É –≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É. –ù–æ –¥–∞–≤–∞–π—Ç–µ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–º—Å—è —Ç–∞–∫…
–î–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –∏ –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–∏–µ–¥—É—Ç –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É. –ù–æ –Ω–µ –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç «–ö–∞–≤–∫–∞–∑-1», –∞ –≤ –ú–∞–ª–≥–æ–±–µ–∫. –¢–∞–º —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–µ–µ. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ø—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏—Ç.
— –ß—Ç–æ –≤—ã —Ö–æ—Ç–∏—Ç–µ, —á—Ç–æ–±—ã –º—ã –¥–ª—è –≤–∞—Å —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π.
— –û—Ç–ø—Ä–∞–≤—å—Ç–µ –Ω–∞—Å –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω—å, — —Å—Ö–æ–¥—É –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ó–∞–≤—Ç—Ä–∞ –≤–∞—Å —É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç?
— –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è…
— –ù–µ—Ç –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º. –ü–æ–µ–¥–µ–º –Ω–∞ –Ω–∞—à–∏—Ö –º–∞—à–∏–Ω–∞—Ö.
–ï–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç —Ä–µ—à–∏–ª –≤—Å–µ. –≠—Ç–æ —á–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏. –ù–æ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è —è –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ –º–∞—à–∏–Ω—ã –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –Ω–∞—à–∏ –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω–∏–∫–∏. –î–∂–∏–ø—ã –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–ø–∏—á–∫–∞–Ω—ã –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞–π—Ç–∏ –∫–∞–∫—É—é-–Ω–∏–±—É–¥—å –º–∞—à–∏–Ω—É –∏–∑ –ø–æ–ø—É—Ç–Ω—ã—Ö, –Ω–æ –≥–¥–µ —Ç–∞–º! –ë—ã–ª–æ —É–∂–µ —Ç–µ–º–Ω–æ. –¢–æ–≥–¥–∞ –æ–ø—è—Ç—å –∂–µ —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç —Ä–µ—à–∞–µ—Ç –≤—ã–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å –≤—Å–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –¥–∂–∏–ø–æ–≤ –∏ –Ω–∞ –Ω–µ–º –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä, –∏ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞—Å –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω—å. –û—Ç –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —á–µ–º-—Ç–æ –Ω–µ—Ö–æ—Ä–æ—à–∏–º –ø–æ–ø–∞—Ö–∏–≤–∞–ª–æ. –° –∏—Å–ø—É–≥—É –æ–Ω–∞ –æ–±–æ—Å—Ä–∞–ª–∞—Å—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω–∏ –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –∫ –¥–æ–º—É, –Ω–∞—Å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏ –Ω–µ–¥–æ—É–º–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞–º–∏ –ê–ª–∏—Ö–∞–Ω, –∏ –ú—É—Å–∞.
–Ø —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –±—É–¥–∏—Ç—å –ù–∞–¥—é.
— –ù–∞–¥—è, –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–π, — –∫—Ä–∏—á–∞–ª —è, — –õ–µ—à–∞ –Ω–∞—à–µ–ª—Å—è.
–¢–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–æ–Ω—å—è –Ω–µ —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ–Ω—è–ª–∞, –ø–æ—Ç–æ–º –∑–∞–±–µ–≥–∞–ª–∞.
— –ß—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å-—Ç–æ? –ß—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å!?
— –¢—ã —Ö–æ—Ç—è –±—ã –∑–∞–ø–∏—Å–∫—É –µ–º—É –Ω–∞–ø–∏—à–∏, — –ø–æ–¥—Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
–ù–∞ –æ–±—Ä—ã–≤–∫–µ –±—É–º–∞–≥–∏ –ù–∞–¥—è —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª–∞, –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–∞ –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä—É, –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∞ –∑–∞ –∫–æ—Ä–æ–±–∫–æ–π –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç. –ò –∫–∞–∫-—Ç–æ –æ–Ω–∞ —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–ª–∞ –Ω–µ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ. –ú–Ω–µ –≤—Å–µ –≤—Ä–µ–º—è –±—ã–ª–æ —Å—Ç—ã–¥–Ω–æ –∑–∞ –Ω–µ–µ: –Ω–µ —Ç–∞–∫ –≤–µ–¥—É—Ç —Å–µ–±—è –º–∞—Ç–µ—Ä–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –∏—Ö —Å—ã–Ω–æ–≤—å—è. –ê –º–æ–∂–µ—Ç —Ç–∞–∫? –Ø –≤–µ–¥—å –Ω–µ –∑–Ω–∞—é. –ù–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª —è —Å–≤–æ–∏—Ö —Å—ã–Ω–æ–≤–µ–π –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω–µ. –ù—É, –ø–æ—Å—Ç—ã–¥–∏–ª—Å—è —á—É—Ç–æ–∫ — –∏ –∑–∞–±—ã–ª–∏. –í—Å–µ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤ –∏ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏.
–ú—ã –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ —Å–µ–¥—å–º–æ–º –Ω–µ–±–µ. –ù–∞—à–ª–∏. –¢–æ, —á—Ç–æ –ê–ª–µ–∫—Å–µ–π –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –∏—Å–ª–∞–º, –Ω–µ —Ç–∞–∫ –≤–∞–∂–Ω–æ –¥–ª—è –º–∞—Ç–µ—Ä–∏. –£–≤–∏–¥–µ—Ç—å —Å—ã–Ω–∞, —É–±–µ–¥–∏—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ –∂–∏–≤. –í–æ—Ç –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ. –ü–æ–∫–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –æ–±—Å—É–∂–¥–∞–ª–∏ –ø—Ä–æ–∏—Å—à–µ–¥—à–µ–µ –∏ —É–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–ø–∞—Ç—å, —è —Ä–µ—à–∏–ª –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ–∞–Ω–∞–ª–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –¥–µ–Ω—å –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞–¥ –±—É–º–∞–≥–∞–º–∏ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Ü–µ–ª—É—é –Ω–æ—á—å. –Ø –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª 36 –ø—É–Ω–∫—Ç–æ–≤ –ø–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è–º –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–æ–π, –∫–∞–∂–¥—ã–π –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –±—ã –≤—ã–∑–≤–∞—Ç—å –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–Ω–∏–µ.
–ï–¥–≤–∞ –¥–æ–∂–¥–∞–≤—à–∏—Å—å —É—Ç—Ä–∞, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –≤—Å–µ –ù–∞–¥–µ –∏ –°–≤–µ—Ç–µ. –¢–µ –±—ã–ª–∏ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω—ã –∞–Ω–∞–ª–∏–∑–æ–º.
— –û–Ω–∞, –≤–µ–¥—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–∞ –Ω–∞—Å —Å–¥–∞—Ç—å!
— –ê–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è.
— –ß—Ç–æ –∂–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å?
— –ù—É–∂–Ω–æ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å—ä–µ–∑–∂–∞—Ç—å –æ—Ç—Å—é–¥–∞. –ê—É—à–µ–≤ –æ–±–µ—â–∞–ª –Ω–∞–º –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –æ–±—â–µ–∂–∏—Ç–∏–µ. –í–æ—Ç –∏ –Ω–∞–¥–æ —Ç—É–¥–∞ –∏–¥—Ç–∏.
— –ù–æ –≤–µ–¥—å –º—ã –¥–∞–ª–∏ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω—É —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤–æ–π. — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª–∞ –°–≤–µ—Ç–∞. — –û–Ω —Å—é–¥–∞ –±—É–¥–µ—Ç –∑–≤–æ–Ω–∏—Ç—å.
–≠—Ç–æ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ –æ—Å–ª–æ–∂–Ω—è–ª–æ –¥–µ–ª–æ. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –ù–∞–¥—è –ø–æ–≤–µ–ª–∞ —Å–µ–±—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ. –û–Ω–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –Ω–µ —É–π–¥–µ—Ç. –ü–æ–∑–∂–µ –∫ –Ω–µ–π –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏–ª–∞—Å—å –∏ –°–≤–µ—Ç–∞. –Ø –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏ —Å–≤–æ–µ–º –º–Ω–µ–Ω–∏–∏.
–ê –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Å—Ç–∞–ª —É–º—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è, –ø–æ–¥—Å–∫–æ—á–∏–ª–∞ –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –∏ –Ω—É –≤–æ–ø–∏—Ç—å! –ö–∞–∫ –∂–µ —ç—Ç–æ —è –º–æ–≥ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥—É–º–∞—Ç—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –º–æ–≥–ª–∞ –Ω–∞—Å –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç—å! –î–∞ –æ–Ω–∞ —Ç–∞–∫–∞—è —á–∏—Å—Ç–∞—è –∏ –ø—É—à–∏—Å—Ç–∞—è! –î–∞ —É –Ω–µ–µ –¥–≤–∞ –æ—Ä–¥–µ–Ω–∞ –ú—É–∂–µ—Å—Ç–≤–∞! –î–∞ –æ–Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–∏—Ö —Å–æ–ª–¥–∞—Ç –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª–∞! –Ø —É–∂ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –Ω–∏—á–µ–≥–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –§–∏—à–º–∞–Ω–∞ –æ–Ω–∞ –∂–µ –∏ —É–∫—Ä–∞–ª–∞. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –æ–±–º–µ–Ω—è–ª–∞ –Ω–∞ –±—Ä–∞—Ç–∞. –°–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ –≤–µ—Ä—é –µ–π. –í–æ—Ç —Ç–µ–º —Ä–µ–±—è—Ç–∞–º –≤–µ—Ä—é, –∞ –µ–π — –Ω–µ—Ç! –ù–∞ —ç—Ç–æ–º –æ–Ω–∞ –∫–∞–∫-—Ç–æ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–∞—Å—å.
–í –æ–±—â–µ–º, –º—ã –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å. –°–ª–µ–¥–∏—Ç—å –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –µ—â–µ –±–æ–ª—å—à–µ. –ö–∞–∫-—Ç–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –±—Ä–∞—Ç –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω, —Ç–æ—Ç, —á—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ö–æ–¥–∏–ª —Å –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–æ–º –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª –º–æ—é –∫–∞–º–µ—Ä—É. –ö–∞–º–µ—Ä–∞ –±—ã–ª–∞ —Ç–µ–ª–µ–∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ «–¢–µ—Ä—Ä–∞», SuperVHS. –ì–ª–∞–≤–Ω—ã–π —Ä–µ–∂–∏—Å—Å–µ—Ä –î–∏–º–∞ –û–¥–µ—Ä—É—Å–æ–≤ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–±–∏—Ä–∞–ª –µ–µ –¥–ª—è –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏. –ß—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –ø–æ–¥–≤–µ–ª–∞. –ë—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∏–∫ –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞–∫–ª–µ–π–∫–æ–π –ù–¢–í. –û—á–µ–Ω—å –æ–Ω–∞ –µ–≥–æ –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∞.
— –î–∞–≤–∞–π –º—ã —Ç–µ–±—è –ø—Ä–æ–¥–∞–¥–∏–º, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω. — –û—Ç–¥–∞–π –µ–≥–æ –º–Ω–µ, –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω.
–¢–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –≤–µ—á–Ω–æ —Ä—É–≥–∞—é—â–∏–π—Å—è —Å –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ú–∞–≥–æ–º–µ—Ç.
— –í–æ—Ç —è —Ç–µ–±–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂—É, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –æ—Ç –≤–∞—Å —Ö–æ—á–µ—Ç, — –∑–∞–≥–∞–¥–æ—á–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω. –ù–æ —Ç–∞–∫ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª. –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–∏—Ç—å –µ–≥–æ –∫–æ–Ω—å—è–∫–æ–º —Å –µ—â–µ –±–æ–ª—å—à–µ–π –¥–æ–∑–æ–π —Å–Ω–æ—Ç–≤–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ.
–Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏–ª –≤ –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü—É –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –∂–¥–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –Ω–∞ –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω–æ–º –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç—É –≤ 10 —á–∞—Å–æ–≤ –≤ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ 19 –∏—é–Ω—è. –Ø –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª –≤—Å–µ—Ö, —á—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏ —Å –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–æ–º —É–µ–∑–∂–∞—é –≤ –°–∞–º–∞—Ä—É. –î–µ–Ω–µ–≥ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞ –±–∏–ª–µ—Ç.
–ï—Ö–∞—Ç—å –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –≤—Ç—Ä–æ–µ–º. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –∏ —è. –ü–æ —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω—É –∏–∑ –ß–µ—á–Ω–∏ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –ß–µ–≥–æ–¥–∞–µ–≤–∞ –Ω–µ–∂–µ–ª–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –ù–∞–¥—è –∏ –Ω–µ —Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å. –í–æ–æ–±—â–µ –≤–µ–ª–∞ —Å–µ–±—è —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ –º–∞—Ç—å, –Ω–∞—à–µ–¥—à–∞—è —Å—ã–Ω–∞. –ù–æ —è –Ω–µ –±—ã–ª –≤ –µ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ –∏ –Ω–µ –±–µ—Ä—É—Å—å –∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –î–∞, –∑–∞–±—ã–ª —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ø—Ä–∏–µ–∑–∂–∞–ª –∏–∑ –ß–µ—á–Ω–∏ –Ω–∞–∫–∞–Ω—É–Ω–µ –∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —É –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –æ—Ç–∫—Å–µ—Ä–∏—Ç—å –µ–µ —É–¥–æ—Å—Ç–æ–≤–µ—Ä–µ–Ω–∏–µ –ø–æ–º–æ—â–Ω–∏–∫–∞ –¥–µ–ø—É—Ç–∞—Ç–∞. –í–µ–∑—Ç–∏ –Ω–∞—Å –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤.
19 –∏—é–Ω—è 1999 –≥–æ–¥–∞, –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ. –£—Ç—Ä–æ–º –Ý–∞–¥–∏–º—Ö–∞–Ω –ø—Ä–æ–ø–∞–ª–∞. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –¥–æ–ª–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∏–ª –º–∞—à–∏–Ω—É. –ë—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, –∫–∞–∫ –µ–º—É –Ω–µ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è –µ—Ö–∞—Ç—å –±–µ–∑ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏, –Ω–æ –º—ã –Ω–∞—Å—Ç–æ—è–ª–∏ –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏. –í–¥—Ä—É–≥ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –µ–¥–µ–º –º—ã —Å–æ–≤—Å–µ–º –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É — –≤ –ú–∞–≥–∞—Å. –°–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞, –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –ª–∏ –º—ã –µ–¥–µ–º. –û–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø—Ä–æ–±—É—Ä—á–∞–ª –≤ –æ—Ç–≤–µ—Ç –≤ —Ç–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ, —á—Ç–æ —Ç—É–¥–∞ –µ—Å—Ç—å –¥—Ä—É–≥–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –Ω–æ, –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, —Å–¥–µ–ª–∞–≤ –∫—Ä—é–∫, –º—ã –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Ç—É –∂–µ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –∫ –º–µ—Å—Ç—É –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ —Å –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–æ–º –∏ –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä–æ–º, –≤ –ú–∞–ª–≥–æ–±–µ–∫.
–ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ –≤–æ–ª–Ω—É–µ—Ç—Å—è –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤. –í–æ—Ç —É–∂–µ –º—ã –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∏ –ú–∞–ª–≥–æ–±–µ–∫ –∏ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –≤–∏–¥–Ω–∞ –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω–∞—è –≤—ã—à–∫–∞ –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç–∞. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ø—Ä–∏–∂–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –∫ –æ–±–æ—á–∏–Ω–µ –∏ –≥–ª—É—à–∏—Ç –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—å. –Ý—É–∫–∏ —Ö–æ–¥—è—Ç —É –Ω–µ–≥–æ —Ö–æ–¥—É–Ω–æ–º.
— –Ý—É—Å–ª–∞–Ω. — –≥–æ–≤–æ—Ä—é –µ–º—É, — –∑–¥–µ—Å—å –∂–µ –Ω–∞—Å –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–Ω–æ. –ú—ã –∂–µ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –±—É–¥—É—Ç –∂–¥–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –Ω–∞ –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç—É.
— –ù–µ—Ç, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–µ—Ç –æ–Ω, — –Ω–∞—Å –∏ —Ç–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤–∏–¥–Ω–æ.
–ü–æ—Ç–æ–º —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–∞–¥–∏—Ç—Å—è –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É, –∏ –º—ã –≤—ä–µ–∑–∂–∞–µ–º –Ω–∞ –Ω–µ–π—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω—É—é —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—é. –¢–∞–º —Å—Ç–æ–∏—Ç –ø–æ—Ç—Ä–µ–ø–∞–Ω–Ω–∞—è –±–µ–ª–∞—è «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫–∞». –ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –ø–æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –Ω–∞—Å –∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –Ω–∞—Å –≤ –º–∞—à–∏–Ω–µ, –∞ —Å–∞–º –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫–µ» –∏ —Å–µ–ª –≤ —Å–∞–ª–æ–Ω. –û–±—â–∞–ª–∏—Å—å –æ–Ω–∏ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –¥–æ–ª–≥–æ. –ü–æ—Ç–æ–º –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª–∏ —Å–µ—Å—Ç—å –≤ «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫—É». –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ú–æ–≥—É—à–∫–æ–≤ —É–µ—Ö–∞–ª.
–ó–∞ —Ä—É–ª–µ–º –±—ã–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä. –≠—Ç–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ —Ö—É–∂–µ –∏ –¥–ª–∏–Ω–Ω–µ–µ –ë–∞–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–π —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã. –û–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç –º–µ–∂–¥—É –¥–≤—É–º—è —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞–º–∏ –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–º, —á—Ç–æ –±–ª–∏–∂–µ –∫ –≥–æ—Ä–∞–º –∏ –¢–µ—Ä—Å–∫–∏–º. –ù–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏, –Ω–æ –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä –¥–µ–ª–∞–ª –∏–º –∑–Ω–∞–∫–∏, –∏ –Ω–∞—Å –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏, –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—è. –ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –º—ã –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –°—Ç–∞—Ä–æ–ø—Ä–æ–º—ã—Å–ª–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ —Ä–∞–π–æ–Ω–∞. –ü–æ –≥–æ—Ä–æ–¥—É –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Ç–∏—Ö–æ–π —Ç–µ–Ω–∏—Å—Ç–æ–π —É–ª–æ—á–∫–µ —É –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ –¥–æ–º–∏–∫–∞. –ò–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã –Ω–µ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏. –¢–∞–∫ –∏ –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –æ—á–µ–Ω—å —É–∑–∫–∏–µ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –Ω–∞—Å –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –≤–æ–π—Ç–∏ –≤ –¥–æ–º.
–ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞ –¥–æ–º–∞. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –µ–≥–æ –¥–æ–º, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–∞–º —Å–≤–æ–∏ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å —Ç–∞–º. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ –≥—Ä–∞–º–æ—Ç—ã. –ó–∞—á–µ–º — –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ. –¢–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º –Ý—É—Å–ª–∞–Ω —Å–±–µ–≥–∞–ª –≤ –∫–∏–æ—Å–∫ –∏ –∑–∞–∫—É–ø–∏–ª –∫–∞–∫–∏—Ö-—Ç–æ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏—Ö —Å–ª–∞–¥–æ—Å—Ç–µ–π. –î–µ–Ω—å–≥–∏ –æ–Ω –≤–∑—è–ª —É –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ù–∞–º –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª–∏, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –ø—Ä–∏–¥—Ç–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å —à—Ç–∞–±–∞, —á—Ç–æ–±—ã —Ä–µ—à–∏—Ç—å –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –ø–æ –Ω–∞—à–µ–π –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ —Å –ê–ª–µ–∫—Å–µ–µ–º –ß–µ–≥–æ–¥–∞–µ–≤—ã–º. –í –¥–æ–º–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –í–∏–¥—É –æ–Ω –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å —Å–≤–∏—Ä–µ–ø–æ–≥–æ, —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ, –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –∫–æ–≤—Ä–∏–∫ –∏ —Å–µ–ª –ø–æ-–≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–æ–º—É. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –∑–¥–µ—Å—å –±—É–¥–µ—Ç –≤—ã—Å–æ–∫–æ–µ –Ω–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–æ, –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∞ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–∞. –ü–æ–∫—É—Ä–∏—Ç—å, –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –∏ –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã–π—Ç–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞.
–ñ–¥–∞–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å –¥–æ–ª–≥–æ. –û–∫–æ–ª–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ —á–∞—Å–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∞, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Ç–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å. –û–Ω –±—ã–ª –ø–æ—Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ –°–æ–∫—Ä–∞—Ç–∞. –° –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º, –≤ —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫–µ. –û—á–µ–Ω—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π, –Ω–æ, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –æ–Ω —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –∂–µ —É –Ω–∞—Å —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å.
–ï–º—É –ø–æ–º–æ–≥ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω. –û–Ω –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ω–∞—Å –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—é —à—Ç–∞–±–∞. –ú—ã –æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏. –°—Ç–∞–ª–∏ —Ä–∞—Å—Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å –æ –ß–µ–≥–æ–¥–∞–µ–≤–µ. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤ —á–∞—Å—Ç–æ –≤—ã—Å–∫–∞–∫–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É. –û–∂–∏–¥–∞–ª –ø—Ä–∏–µ–∑–¥–∞ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –∏ —Å –±–æ–ª—å—à–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º –ø—Ä–æ—Ç–∏—Å–Ω—É–ª–∞—Å—å –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –°–∞–¥–∏–ª–∏—Å—å –º—ã –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ, —Ö–æ—Ç—è —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —É–∂–∞—Å–Ω–æ –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ. –î–≤–µ—Ä—Ü—ã –º–∞—à–∏–Ω—ã –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —á—É—Ç—å –∏ –≤ —Å–∞–ª–æ–Ω –º—ã –ø—Ä–æ—Ç–∏—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º. –ù–æ, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª–∏, — —Ç–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ.
–í–µ–∑ –Ω–∞—Å –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–π —Å—Ç–∞—Ä–µ–Ω—å–∫–æ–π –∑–µ–ª–µ–Ω–æ–π «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫–µ» –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Å–∏–¥–µ–ª —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º –∏ –≤ —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫–µ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∏–∑ —à—Ç–∞–±–∞, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–π –Ω–∞ –°–æ–∫—Ä–∞—Ç–∞. –ï—Ö–∞–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥ –ø–æ —Ç–æ–π –∂–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –º–µ–∂–¥—É –¥–≤—É—Ö —Ö—Ä–µ–±—Ç–æ–≤. –í–µ—á–µ—Ä–µ–ª–æ. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –Ω–∞—Å –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –∑–∞–≤—è–∑–∞—Ç—å –≥–ª–∞–∑–∞.
— –ù–µ –º–æ–≥—É –∂–µ —è –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –≤–∞–º —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –ª–∞–≥–µ—Ä—è, — —Å —É–ª—ã–±–∫–æ–π —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å —à—Ç–∞–±–∞.
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –µ–≥–æ –∑–∞—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –º–µ–Ω—è —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–æ. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –±–æ—è—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –º—ã —É–∑–Ω–∞–µ–º, –≥–¥–µ –ª–∞–≥–µ—Ä—å. –ê —Ç–∞–∫–∏–µ –∑–Ω–∞–Ω–∏—è —Ü–µ–Ω–Ω—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥–µ.
–°–≤–µ—Ç–∞ –ø—Ä–∏–≤—è–∑–∞–ª–∞ –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ –±–µ–ª—ã–π –ø–ª–∞—Ç–æ–∫. –í–∏–¥–∏–º–æ —Ç–æ–ª–∫—É –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ —á—É—Ç—å — –º–∞—Ç–µ—Ä–∏–∞–ª –±—ã–ª –≤ –∫—Ä—É–ø–Ω—É—é –¥—ã—Ä–æ—á–∫—É. –ú–Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—å –ª–∏—Ü–æ —Å–ø–∏–Ω–æ–π –∂–∏–ª–µ—Ç–∫–∏. –≠—Ç–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –∂–∏–ª–µ—Ç–∫–∞ –Ω–µ —Å–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è, –∞ –∑–∞–¥–Ω–∏–∫ –µ–µ –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∏ –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö –≥–æ–ª–æ–≤—ã –Ω–∞—Ç—è–≥–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –º–æ—Ä–¥—É. –ï—â–µ –æ–∫–æ–ª–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ —Ç–∞–∫. –ü–æ—Ç–æ–º –º–∞—à–∏–Ω—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –∏ «–°–æ–∫—Ä–∞—Ç» –≤—ã—à–ª–∏. –°—Ç–∞–ª–∏ –æ —á–µ–º-—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å —Å –ª—é–¥—å–º–∏. –¢–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –Ω–∞—Å, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞—è—Å—å –∫ —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç. –ü–æ—Ç–æ–º –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∏—Ö –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏:
— –ü—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è –ø–µ—Ä–µ—Å–µ—Å—Ç—å –≤ –Ω–∞—à–∏ –º–∞—à–∏–Ω—ã.
–ù–∞–º –ø–æ–º–æ–≥–ª–∏ –≤—ã–π—Ç–∏. –ê –≤–æ—Ç –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ «–¥—Ä—É–≥–æ–π» –º–∞—à–∏–Ω—ã —è –∑–∞—Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è. –ú–µ–Ω—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ–±–≤–µ–ª–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Ç–æ–π –∂–µ «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫–∏», –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã –µ—Ö–∞–ª–∏. –ü–æ–º–æ–≥–ª–∏ —Å–µ—Å—Ç—å, –¥–∞–∂–µ —É—Å–ª—É–∂–ª–∏–≤–æ –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏ –∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –º–æ—é –Ω–æ–≥—É –Ω–∞ –ø–æ—Ä–æ–∂–µ–∫ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ü–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –ø–æ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä—É –∑–∞–¥–Ω–µ–≥–æ —Å–∏–¥–µ–Ω—å—è. –°–ª–µ–≤–∞ –∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –º–µ–Ω—è —Ç—É—Ç –∂–µ —Å–µ–ª–∏ –µ—â–µ –¥–≤–æ–µ. –¢—Ä–æ–Ω—É–ª–∏—Å—å. –ò —Ç—É—Ç —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —Ç–æ, —á—Ç–æ –∏—Ö —Å—Ä–∞–∑—É –≤—ã–¥–∞–ª–æ. –¢–æ—Ç, —á—Ç–æ —Å–∏–¥–µ–ª —Å–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç –º–µ–Ω—è, –ø–æ–ª–µ–∑ –∫–æ –º–Ω–µ –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω –∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏, –æ–±—Ä–∞—â–∞—è—Å—å –∫–æ –≤—Å–µ–º:
— –ì–¥–µ —Ç—É—Ç —É –Ω–µ–≥–æ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã?
–Ø –Ω–∞ –æ—â—É–ø—å –¥–æ—Å—Ç–∞–ª —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã –∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –µ–º—É.
–û–Ω, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –≤–∑—è–ª –æ–¥–Ω—É –∏ —Å—É–Ω—É–ª –º–Ω–µ –ø–∞—á–∫—É –≤ —Ä—É–∫—É.
— –í–æ–∑—å–º–∏, —Ç–µ–±–µ –µ—â–µ –ø–æ–Ω–∞–¥–æ–±—è—Ç—Å—è.
–ï—Ö–∞–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–æ. –î–≤–∞–∂–¥—ã –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–∂–∞–ª–∏ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–µ –ø—É—Ç–∏. –î–≤–∞–∂–¥—ã –≤—ä–µ–∑–∂–∞–ª–∏ –≤ –≥—É—Å—Ç—É—é —Ä–∞—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–Ω—É—Ç. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ —à–µ–ø–æ—Ç–æ–º. –ü–æ –º–æ–∏–º –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è–º, –º–µ–Ω—è –≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞ —é–≥. –£–∂–µ —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ —Å–µ–ª–æ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–ª—ã—à–Ω–æ –ø–æ –æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–º –æ—Ç –¥–æ–º–æ–≤ –∏ –∑–∞–±–æ—Ä–æ–≤ –∑–≤—É–∫–∞–º –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ü–æ –∫—É–¥–∞—Ö—Ç–∞–Ω—å—é –∫—É—Ä –∏ —Å–ø–µ—Ü–∏—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –¥–µ—Ä–µ–≤–µ–Ω—Å–∫–∏–º –∑–∞–ø–∞—Ö–∞–º.
–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å.
— –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∏—Ö–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –º–Ω–µ, –∏ –ø–æ–≤–µ–ª–∏ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤–¥–æ–ª—å –∑–∞–±–æ—Ä–∞, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ —Å–∞–¥—É. –Ø –µ—â–µ –≤–∏–¥–µ–ª –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ –∏ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫—É, –∏ –≥—Ä—è–¥–∫–∏, –∏ –≤–∏—à–Ω–µ–≤—ã–µ –ª–∏—Å—Ç—å—è. –Ø —É–∂–µ –Ω–µ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç. –ü—Ä–æ–≤–µ–ª–∏ –≤ –¥–æ–º, –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ —Ä–∞–∑—É—Ç—å—Å—è –∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø—É—Å—Ç—É—é –ø–∞–Ω—Ü–∏—Ä–Ω—É—é —Å–µ—Ç–∫—É –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏. –ù–∞ –ª–µ–≤—É—é —Ä—É–∫—É –æ–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫. –í—Ç–æ—Ä—É—é –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É –µ–≥–æ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –∫ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏.
— –ù–∞–¥–µ—é—Å—å, —Å–∞–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—à—å, —á—Ç–æ —Å —Ç–æ–±–æ–π –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ?
— –ü–æ–Ω–∏–º–∞—é, — –≥–ª—É—Ö–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è –∏–∑-–ø–æ–¥ –Ω–∞–ø—è–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞ –ª–∏—Ü–æ –∂–∏–ª–µ—Ç–∫–∏. –°–µ—Ä–¥—Ü–µ –∑–∞—à–ª–æ—Å—å –æ—Ç –æ—Ç—á–∞—è–Ω–∏—è.
— –ú–æ–∂–µ—à—å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –≥–ª–∞–∑–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–µ–∫—Ç–æ –∏ –ø–æ–º–æ–≥ –º–Ω–µ –ø–æ–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å –∂–∏–ª–µ—Ç–∫—É –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É. — –ù–µ –±–æ–π—Å—è. –ù–∏–∫—Ç–æ —Ç–µ–±—è –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –Ω–µ —Ç—Ä–æ–Ω–µ—Ç. –¢—ã –Ω–∏ –≤ —á–µ–º –Ω–µ –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç. –ê –≤–æ—Ç –≤–∞—à–µ –ø—Ä–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–æ –ø—É—Å—Ç—å –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç –Ω–∞–º –∑–∞ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–æ–º–∞ –∏ –Ω–∞—à–∏—Ö –ø–æ–≥–∏–±—à–∏—Ö –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –∏ —Å–µ—Å—Ç–µ—Ä.
–Ø —Å–ª—É—à–∞–ª. –ì–ª–∞–∑–∞, –ø—Ä–∏–≤—ã–∫—à–∏–µ –∫ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ, –Ω–∞—Ä–∏—Å–æ–≤–∞–ª–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é —Ñ–∏–≥—É—Ä—É —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –±–µ–∑ –∞–∫—Ü–µ–Ω—Ç–∞.
— –ï—Å—Ç—å —Ö–æ—á–µ—à—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω –º–µ–Ω—è.
— –ù–µ—Ç.
–ö–∞–∫–æ–π —Ç–∞–º –µ—Å—Ç—å…
— –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, —Å–∏–¥–∏ —Ç–∏—Ö–æ. –ü–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –æ –≤–∞—à–µ–º –≤—ã–∫—É–ø–µ —É–∂–µ –∏–¥—É—Ç.
–í –≥–æ–ª–æ–≤–µ –º–æ–µ–π, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –±—ã–ª–∞ –∫–∞—à–∞. –ù–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ —É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å.
–ü–ª–µ–Ω –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è.
–ü–æ–∫–∞ –≤–µ—Ä–∑–∏–ª–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, –∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω –≥–ª–∞–¥–∫–æ –∏ –∫–∞–∫-—Ç–æ —É–±–µ–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —è —É—Å–ø–µ–ª —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É. –ë–æ–ª—å—à–∞—è. –î–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–µ, –¥–æ—â–∞—Ç—ã–µ –ø–æ–ª—ã. –î–ª–∏–Ω–Ω–∞—è. –ú–µ—Ç—Ä–æ–≤ 20. –®–∏—Ä–æ–∫–∞—è. –ù–∞ —É–ª–∏—Ü—É –≤—ã—Ö–æ–¥—è—Ç 3 –æ–∫–Ω–∞. –í—Å–µ –æ–Ω–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã –±—É–º–∞–≥–æ–π, –Ω–æ —à—É–º—ã —Å–µ–ª—å—Å–∫–æ–π —É–ª–∏—Ü—ã —Å–ª—ã—à–Ω—ã –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ. –°–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –≥–¥–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç –º–æ—è –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, –æ–∫–æ–Ω –Ω–µ—Ç. –î–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–≥–æ — –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å. –ù–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–µ –≤–∏—Å–∏—Ç –∫–æ–≤–µ—Ä.
–ï—Å–ª–∏ –æ–∫–Ω–∞ —Å–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç –º–µ–Ω—è, —Ç–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ —Å—Ç–µ–Ω—ã –¥–≤–µ—Ä—å –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É. –¢–∞–º –≥–æ—Ä–∏—Ç —Å–≤–µ—Ç. –¢–∞–º —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç –µ—â–µ –¥–≤–æ–µ. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –∏ –æ–Ω–∏ –≤—ã—Ö–æ–¥—è—Ç –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä—è—Ç –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –Ω–æ –ø–æ –≤—Å–µ–º—É –≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π –∑–¥–µ—Å—å –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ—Ç –±–æ–ª—å—à–æ–π, —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω—ã–π –º–æ–ª–æ–¥–æ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫.
— –ú–µ–Ω—è –º–æ–∂–µ—à—å –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –ê–±–¥—É–ª–ª–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
— –ê –º–µ–Ω—è –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞, — —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –∏–¥–∏–æ—Ç—Å–∫–æ–π —É–ª—ã–±–∫–æ–π, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≤—Ç–æ—Ä–æ–π. –ú–æ–∂–µ—Ç, –æ–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∏ –Ω–µ «–ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞», –Ω–æ –º–Ω–µ —Ç–∞–∫ –ø–æ—Å–ª—ã—à–∞–ª–æ—Å—å. –¢—Ä–µ—Ç–∏–π –ø—Ä–æ–º–æ–ª—á–∞–ª.
–ú–Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –∫–∞–∫—É—é-—Ç–æ –ø–æ–¥—É—à–∫—É, –Ω–µ—á—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ —Ç–æ–Ω–∫–æ–≥–æ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü–∞, –∏ –¥—Ä–∞–Ω–æ–µ –æ–¥–µ—è–ª–æ.
–°–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏, –Ω–µ —Ö–æ—á—É –ª–∏ —è –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç. –•–æ—á—É. –û—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –í—ã–≤–µ–ª–∏ –≤ —Ç—É –¥–≤–µ—Ä—å, —á—Ç–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞. –≠—Ç–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä—á–∏–∫. –ù–∞–ª–µ–≤–æ –≤ –Ω–µ–º –¥–≤–µ—Ä—å –≤ –∫—É—Ö–æ–Ω—å–∫—É, –Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ — –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∫—É. –¢–∞–º —É —Å—Ç–æ–ª–∏–∫–∞, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–Ω–∞—è –ª–∞–º–ø–∞, —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –µ—â–µ –¥–≤–æ–µ –º—É–∂—á–∏–Ω. –¢–µ –∂–µ, —á—Ç–æ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É. –ú–µ–Ω—è –ø—Ä–æ–≤–µ–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ, –∫ –¥–≤–µ—Ä–∏ –≤ –ø—Ä–∏—Ö–æ–∂—É—é. –Ø —É–∑–Ω–∞–ª —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–∏, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è. –¢—Ä–∏ —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–∏ –≤–Ω–∏–∑. –ò —Å—Ä–∞–∑—É –Ω–∞–ª–µ–≤–æ –±—ã–ª–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ —Å–ª–∏–≤–∞. –ú–Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –≤—Å–µ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç—É–¥–∞. –ê –ø–æ–∫–∞ —è –¥–µ–ª–∞–ª, –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Å –∫–æ–Ω—Å–ø–∏—Ä–∞—Ü–∏–µ–π —Ä–µ–±—è—Ç–∞ –Ω–µ –≤ –ª–∞–¥–∞—Ö. –ü—Ä—è–º–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –º–æ–∏–º –ª–∏—Ü–æ–º –≤–∏—Å–µ–ª–∞ –∫–≤–∏—Ç–∞–Ω—Ü–∏—è –æ–ø–ª–∞—Ç—ã –∑–∞ —Å–≤–µ—Ç. –Ø –Ω–µ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª, –∑–∞ –∫–∞–∫–æ–π –º–µ—Å—è—Ü. –°–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — –Ω–∞ –∫–≤–∏—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –±—ã–ª –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω –∞–¥—Ä–µ—Å: —É–ª–∏—Ü–∞ –ì—Ä–µ–π–¥–µ—Ä–Ω–∞—è, 43. –ü–æ—Ç–æ–º —è –µ—â–µ –∑–∞–ø–æ–º–Ω—é –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –º–µ–ª–æ—á–µ–π, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º–æ–∂–Ω–æ –æ–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å –∏ —Å–µ–ª–æ, –∏ –¥–æ–º, –∏ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞. –ù–∞ –º–µ–Ω—è —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏.
–ü–æ—Ç–æ–º –≤—Å–µ —É—à–ª–∏, –Ω–æ –¥–≤–µ—Ä—å –Ω–µ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª–∏. –Ø –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ª–µ—á—å. –≠—Ç–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ —Ç–∞–∫–∏–º –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–º –¥–µ–ª–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä—É–∫–∞ –ø—Ä–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–∞ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∫ –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω–µ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏. –£–∂–∞—Å–Ω–æ –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ. –ù–æ —É–ª–µ–≥—Å—è –Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤—ã–π –±–æ–∫. –ù–∞ –ª–µ–≤—ã–π, –∫–∞–∫ –Ω–∏ –∫—Ä—É—Ç–∏, –ª–æ–∂–∏—Ç—å—Å—è –±–µ—Å–ø–æ–ª–µ–∑–Ω–æ. –ï—Å–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ—á—å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –Ø —É–∂–µ –ø–æ–¥—É–º—ã–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å, –Ω–æ –∂–µ–ª–µ–∑–∫–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –∑–≤–µ–Ω–µ–ª–∏ –æ –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω—É. –°–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π.
— –¢–∏—à–µ.
–Ø –ª–µ–≥. –°—Ç–∞–ª –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—Ç—å –∫–æ–ª—å—Ü–æ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –∑–≤–µ–Ω–µ–ª–æ. –° –≥–æ—Ä—å–∫–æ–π —É–ª—ã–±–∫–æ–π –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –∞–Ω–µ–∫–¥–æ—Ç –ø—Ä–æ –≤–∏—Å–µ–ª—å–Ω–∏–∫–∞ —Å–æ —Å–≤–æ–µ–π –≤–µ—Ä–µ–≤–∫–æ–π –∏ –º—ã–ª–æ–º. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª —Ç–∞—â–∏—Ç—å –∫–∏—Å—Ç—å –∏–∑ –∫–æ–ª—å—Ü–∞ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤. –ë–∞—Ö–∞–ª–∞–π. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ –º–æ–∏—Ö –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ —É—à–µ–ª. –ö–∞–∫-—Ç–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –≤–æ—Ä–æ—á–∞–Ω–∏—è –∏ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–∞ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ–º —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –ø–æ—Ä–∞ —ç—Ç–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –∫–∞–∫ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –æ—Å–º—ã—Å–ª–∏—Ç—å. –ù—É –∏, –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω–æ, –Ω–∞—á–∞–ª –º—ã—Å–ª–∏—Ç—å. –ò –¥–æ–º—ã—Å–ª–∏–ª—Å—è –¥–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —É –º–µ–Ω—è —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–æ –∫–∏—à–µ—á–Ω–∏–∫–∞. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –≤—Å–µ —É–ª–µ–≥–ª–æ—Å—å, –Ω–æ –µ–µ —Ç—É—Ç-—Ç–æ –±—ã–ª–æ. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ –≤—ã–π—Ç–∏.
— –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞, — —Ç–∏—Ö–æ–Ω—å–∫–æ –ø–æ–∑–≤–∞–ª —è.
–ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –æ—Ç–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª—Å—è. –Ø –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è. –ò–∑-–∑–∞ –¥–≤–µ—Ä–∏ –¥–æ–Ω–æ—Å–∏–ª—Å—è —Ö—Ä–∞–ø. –Ø –ø–æ–∑–≤–∞–ª –≥—Ä–æ–º—á–µ. –ù–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–π. –ú–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —è –∑–≤–∞–ª –ì–∞–±–¥—É–ª–ª—É –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –ø–æ–ª—É—á–∞—Å–∞. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –æ–Ω –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è. –Ø –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –º–Ω–µ –Ω—É–∂–Ω–æ. –û–Ω —Å–Ω—è–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏, –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –∏ –ø–æ–≤–µ–ª –º–µ–Ω—è –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –Ø –¥—É–º–∞–ª, –ø–æ–≤–µ–¥–µ—Ç –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç. –ß–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –æ—á–µ–Ω—å —Ä–µ–≤–Ω–æ—Å—Ç–Ω–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—Ç—Å—è –∫ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é –Ω—É–∂–¥—ã, –Ω–æ —Ç–æ—Ç –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥ –≤–∏—à–Ω—é, –Ω–æ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –≤–æ–¥—ã –≤ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–∫–æ–≤–æ–π –±—É—Ç—ã–ª–∫–µ, –∞ –∫–æ–≥–¥–∞ —è –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è, –ø–æ–º–æ–≥ –º–Ω–µ –ø–æ–º—ã—Ç—å —Ä—É–∫–∏ —Å –º—ã–ª–æ–º — –ø–æ–ª–∏–ª –∏–∑ —Ç–æ–π –∂–µ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏. –£–∂–µ –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—à–ª–∏, –∏ –æ–Ω –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è –∫ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏, –¥–æ–ª–≥–æ —Å–º–µ—è–ª—Å—è —Ç–æ–º—É, –∫–∞–∫ —è –µ–≥–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª.
— –•–∞, –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞! –¢–∞–∫–æ–≥–æ –∏–º–µ–Ω–∏-—Ç–æ –Ω–µ—Ç!
— –ù—É, —Ç–∞–∫ –∫–∞–∫ –∂–µ —Ç–µ–±—è –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å, — –¥–æ–ø—ã—Ç—ã–≤–∞–ª—Å—è —è.
–•–∞-—Ö–∞-—Ö–∞, –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞! — —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤–µ—Å–µ–ª–∏–ª—Å—è –æ–Ω, –Ω–æ –∏–º–µ–Ω–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª. –ü—É—Å—Ç—å –æ–Ω —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–æ–π.
–£—Ç—Ä–æ–º –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –±—ã–ª –æ–¥–∏–Ω. –ê–±–¥—É–ª–ª–∞, —Ç–æ—Ç, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±–æ–ª—å—à–æ–π –∏ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π, –ø–æ—à–µ–ª –≤ –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–≤ –ø—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∫–∞–∫–∏–µ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã —è –∫—É—Ä—é. –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª –∏–Ω–≤–µ–Ω—Ç–∞—Ä–∏–∑–∞—Ü–∏—é –º–æ–∏—Ö –≤–µ—â–µ–π. –ï–º—É –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å —á–∞—Å—ã — —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã–µ, —Å —Ü–∏—Ñ—Ä–æ–≤—ã–º –∏ —Å—Ç—Ä–µ–ª–æ—á–Ω—ã–º —Ü–∏—Ñ–µ—Ä–±–ª–∞—Ç–∞–º–∏. –û–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —á–∞—Å—ã –º–Ω–µ –Ω–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω—ã –∏ —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –æ–¥–µ–ª –∏—Ö —Å–µ–±–µ –Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É. –ü–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –∑–µ—Ä–∫–∞–ª—É. –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª—Å—è. –ï–º—É –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å. –ù–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º —É–∂ –æ–Ω –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è –º–æ–µ–º—É –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω—É —Å–æ –≤—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä–∏–µ–º–Ω–∏–∫–æ–º. –Ø –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –µ–º—É –∫–∞–∫ –∏–º –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è, –æ—Ç—á–µ–≥–æ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –≤ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥, –∞ —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Å –≤–µ—â–∞–º–∏ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è —Ä–∞—Å—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –û —Å—É–¥—å–±–µ –≤–∏–¥–µ–æ–∫–∞–º–µ—Ä—ã, –ª—É—á—à–µ–π —Å—É–ø–µ—Ä–≤—ç—Ö–∞—ç—Å–∫–∏ —Ç–µ–ª–µ–∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏ «–¢–µ—Ä—Ä–∞», —è –∏ –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª.
–ß—Ç–æ–±—ã –º–Ω–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å–∫—É—á–Ω–æ, –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –¥–∞–ª –º–Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—Å—Ç—É—é, –∫—Ä–∞—Å–æ—á–Ω–æ –∏–ª–ª—é—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—É—é –∫–Ω–∏–≥—É –ø–æ –æ—Ä—É–∂–∏—é. –ß–µ—á–µ–Ω—Ü—ã —Å —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–æ–º –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—Ç—Å—è –∫ –æ—Ä—É–∂–∏—é. –ü–æ–º–Ω—é, –µ—â–µ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –ø–æ—Å–µ—â–µ–Ω–∏—è –ß–µ—á–Ω–∏ –≤ 1994 –≥–æ–¥—É –•–∞–≤–∞—à –∏–∑ –ò—â–µ—Ä—Å–∫–æ–π —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –ø—Ä–æ —Å–ª—É—á–∞–π –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º. –û–¥–∏–Ω —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º –∏ –≤ –¥—É–ø–µ–ª—å –ø—å—è–Ω—ã–π —à–µ–ª –Ω–æ—á—å—é –∏ –ø–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–æ –∏ –Ω–∞–ª–µ–≤–æ. –ï–≥–æ –∑–∞–±—Ä–∞–ª–∏ –≤ –º–∏–ª–∏—Ü–∏—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç–æ–≥–¥–∞ –≤ –ß–µ—á–Ω–µ –µ—â–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∞. –ù—É –∏, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –≤—ã—Ç—Ä–µ–∑–≤–∏—Ç–µ–ª—å. –Ý–æ–∂–æ–∫ –æ—Ç –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞ –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏, –∞ —Å–∞–º –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –ø—å—è–Ω–æ–º—É –ø–æ–¥ –≥–æ–ª–æ–≤—É. –Ý–∞–∑–ª—É—á–∞—Ç—å —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞ —Å –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º –Ω–µ–ª—å–∑—è. –≠—Ç–æ –ø–æ–ø–∞—Ö–∏–≤–∞–µ—Ç –∫—Ä–æ–≤–Ω–æ–π –º–µ—Å—Ç—å—é. –£—Ç—Ä–æ–º, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –æ—à—Ç—Ä–∞—Ñ–æ–≤–∞–ª–∏, –Ω–æ –±–æ–µ–∑–∞–ø–∞—Å –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏.
–ï—â–µ –±–æ–ª–µ–µ –Ω–µ–ª–µ–ø—ã–π, —Å –Ω–∞—à–µ–π —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è, —Å–ª—É—á–∞–π —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –≥–ª–∞–≤–∞ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–∏ —Ç–æ–π –∂–µ –ò—â–µ—Ä—Å–∫–æ–π. –¢–æ–≥–¥–∞, –æ—Å–µ–Ω—å—é 1994 –≥–æ–¥–∞, –ß–µ—á–Ω—è –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º–æ–≥–æ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—è. –ò –≤–æ—Ç –∫–∞–∫-—Ç–æ —Ç–∞–Ω–∫ –ø–æ–¥ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –ê–≤—Ç—É—Ä—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –¥—É–¥–∞–µ–≤—Ü–µ–≤, —á—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –≤ –ò—â–µ—Ä—Å–∫–æ–π. –ö–æ–≥–¥–∞ —Ç–∞–Ω–∫ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ –∏ –æ—Ç–æ–±—Ä–∞–ª–∏, (–ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–∞ —Ç–∞–Ω–∫–∞ –Ω–µ –æ–ø–∏—Å—ã–≤–∞—é — –æ–Ω–∏ –µ—â–µ —Å–º–µ—à–Ω–µ–µ), –≤–æ—è–∫ –ê–≤—Ç—É—Ä—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ–∂—é—Ä–∏–ª–∏ –∏ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¢–µ—Ä–µ–∫–∞, –∫ —Å–≤–æ–∏–º. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –∏–º –æ—Ç–¥–∞–ª–∏ –ª–∏—á–Ω—ã–µ –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç—ã, –ø—Ä–µ–¥–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑—Ä—è–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ. –Ø –∫–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –ø–ª–µ–Ω–µ–Ω–∏—è —É–∂–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–Ω–∞–ª —ç—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∫ –ø—Ä–æ—Å–º–æ—Ç—Ä—É —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–π –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –∫–Ω–∏–∂–∫–∏ –æ—Ç–Ω–µ—Å—Å—è —É–≤–∞–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ.
–ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –∏–∑ –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–∞ «–ó–æ–ª–æ—Ç—É—é –Ø–≤—É». –ü–æ–∂–∞–ª—É–π, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—è—è –ø–∞—á–∫–∞ –∏–∑ —á–∏—Å–ª–∞ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏—Ö —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç –≤ –ø–ª–µ–Ω—É. –ü–æ—Ç–æ–º — —Ç–æ–ª—å–∫–æ «–ü—Ä–∏–º–∞».
–ß–∞—Å–∞–º –∫ 11 –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ —Å–≤–∞—Ä–∏–ª –Ω–µ—Å—ä–µ–¥–æ–±–Ω—É—é –ø–æ—Ö–ª–µ–±–∫—É. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ–Ω–∞ –ø–∞—Ö–ª–∞. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Å—ä–µ—Å—Ç—å. –ü–æ—Ö–ª–µ–±–∫–∞, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –ø–æ–Ω—è–ª, –Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å –∏ –ê–±–¥—É–ª–ª–µ.
— –í —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —Ä–∞–∑ —è —Å–∞–º —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–ª—é, — –∫–∞–∫ –±—ã –Ω–µ–≤–∑–Ω–∞—á–∞–π —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –º–Ω–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –ø–æ—á–∏—Ç–∞—Ç—å —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—É—é –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—É. –ü–æ –∏—Å–ª–∞–º—É, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ.
–ù–∞–≤—Ä—è–¥ –ª–∏ —Å–∞–º –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ —á–∏—Ç–∞–ª —ç—Ç—É –∫–Ω–∏–≥—É. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ —É–∂–µ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞—É—á–Ω–æ-–ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–æ–π, –¥–∞ –µ—â–µ –∏ –∞—Ç–µ–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π. –ò—Å–ª–∞–º –≤ –Ω–µ–π —Ä–∞–∑–≤–µ–Ω—á–∏–≤–∞–ª—Å—è, –Ω–æ —Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä–∞ –±—ã–ª–∞ –∏–∑–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ –¥–æ–±—Ä–æ—Å–æ–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ. –ß–∏—Ç–∞–ª–∞—Å—å –∫–Ω–∏–∂–∫–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, –∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –º–µ—Å—Ç —è –Ω–∞—à–µ–ª —Ñ—Ä–∞–∑—É –∏–∑ –ö–æ—Ä–∞–Ω–∞: «–û—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏ –Ω–µ–≤–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞».
–ê–±–¥—É–ª–ª–∞ —á–∞—Å—Ç–æ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É, –∏, —É–≤–∏–¥–µ–≤, —á—Ç–æ —è —á–∏—Ç–∞—é –∫–Ω–∏–≥–∏ –ø–æ –ö–æ—Ä–∞–Ω—É, —Ç–∏—Ö–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª. –û–Ω –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è —Å–ø–æ—Ä—Ç—Å–º–µ–Ω–æ–º. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑, –∫–æ–≥–¥–∞ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –≤—ã–≤–æ–¥–∏–ª –º–µ–Ω—è –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç, –∏ —è –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –º–∏–º–æ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã, –≥–¥–µ –æ–Ω–∏ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–∏—Å—å, —è –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –æ–Ω –æ—Ç–∂–∏–º–∞–ª—Å—è –æ—Ç –ø–æ–ª–∞. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –Ω–æ–≥–∏ –µ–≥–æ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω–∫–µ –∫—Ä–µ—Å–ª–∞. –ë—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω —É—Å—Ç–∞–ª, –ø–æ—Ç —Å—Ç–µ–∫–∞–ª —Å–æ —Å–ø–∏–Ω—ã –Ω–∞ –ø–æ–¥–±–æ—Ä–æ–¥–æ–∫ –∏ –∫–∞–ø–∞–ª –Ω–∞ –ø–æ–ª. –ù–æ —Å–∞–º–æ–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–µ — –æ–Ω –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —à–µ–ø–æ—Ç–æ–º —Å—á–∏—Ç–∞–ª –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –æ—Ç–∂–∏–º–∞–Ω–∏–π: «–ß–µ—Ç—ã—Ä–µ—Å—Ç–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –¥–≤–∞, —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Å—Ç–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Ç—Ä–∏…». –ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è, —Å—á–µ—Ç –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∏–ª –∑–∞ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç.
–ö–∞–∫-—Ç–æ –æ–Ω –∑–∞—à–µ–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –æ —Å–≤–æ–µ–π –ø–æ–µ–∑–¥–∫–µ –≤ –°–∞—É–¥–æ–≤—Å–∫—É—é –ê—Ä–∞–≤–∏—é. –¢–∞–º –æ–Ω –±—ã–ª –≤ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–µ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω–æ–π —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–π –¥–µ–ª–µ–≥–∞—Ü–∏–∏. «–ö –Ω–∞–º –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ª—é–¥–∏, — —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –æ–Ω, — —á—Ç–æ–±—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç—Ä–æ–≥–∞—Ç—å –Ω–∞—Å. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã –≤ –Ω–∞—à–µ–π —Å–≤—è—Ç–æ—Å—Ç–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ê–ª–ª–∞—Ö —Å–ø–æ—Å–æ–±–µ–Ω –ø–æ–º–æ—á—å –≤ –±–æ—Ä—å–±–µ –∑–∞ –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å –æ—Ç –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∞–∫–∏–º —Ä–µ–±—è—Ç–∞–º». –ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –ø–∞—Ä–µ–Ω—å –æ–Ω –±—ã–ª –Ω–∞ —Ä–µ–¥–∫–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π. –í–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞ –î—É–¥–∞–µ–≤–∞ —Å–ª—É–∂–∏–ª –≤ —Å–ø–µ—Ü–Ω–∞–∑–µ.
–ü–æ–∑–¥–Ω–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ, –º–µ–Ω—è –≤—ã–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –ù–∞ —Ñ–æ–Ω–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–∏—Ö –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏—Ö —Å—É–º–µ—Ä–µ–∫, –Ω–∞ —é–≥–µ –≤—ã–¥–µ–ª—è–ª–∞—Å—å —á–µ—Ä–Ω—ã–º –≥–æ—Ä–Ω–∞—è –≥—Ä—è–¥–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –í–¥–æ–ª—å –µ–≥–æ –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è –≥—É—Å—Ç–æ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å —Å–æ–∑–≤–µ–∑–¥–∏—è —Å–µ–ª.
–ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ—Å–º–µ–∏–≤–∞–ª—Å—è.
— –ß—Ç–æ, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ö–æ—á–µ—à—å –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å, –≥–¥–µ —Ç—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—à—å—Å—è?
— –ù–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è. — –í –ß–µ—á–Ω–µ —è –∑–Ω–∞—é —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π.
— –•–∞-—Ö–∞-—Ö–∞! –≠—Ç–æ –ú—É–∂–∏—á–∏, –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏–º!
–ü—Ä–∏–∫–∏–Ω—É–≤, –≥–¥–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –ú—É–∂–∏—á–∏, —è –±—ã–ª —Å–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω –¥—É–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –æ–Ω–∏ –∏ –±—ã–ª–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –ø–æ—Å–ª–µ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–Ω–µ—Ç-–∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–∞, –∫–∞–∫ GOOGLE, —Ç–æ—á–Ω–æ –∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ –±—ã–ª –≤ –®–∞–ª–∞–∂–∞—Ö.
–ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–æ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –≥—Ä—É—à–∏. –ì—Ä—É—à–∞ –±—ã–ª–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π, –Ω–æ –ø–ª–æ–¥—ã –º–µ–ª–∫–∏–µ, –∂–µ—Å—Ç–∫–∏–µ –∏ —Ç–µ—Ä–ø–∫–∏–µ. –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –æ—Å–µ–Ω—å—é —ç—Ç–æ –±—É–¥—É—Ç –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ —Å–æ—á–Ω—ã–µ –∏ —Å–ª–∞–¥–∫–∏–µ –≥—Ä—É—à–∏. –ë–ª–∏–∑–∫–æ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∫ –∑–∞–±–æ—Ä—É, –æ—Ç–¥–µ–ª—è–≤—à–µ–º—É —ç—Ç–æ—Ç –¥–≤–æ—Ä –æ—Ç –¥–≤–æ—Ä–∞ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –¥–æ–º–∞, –Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–ª–æ—Å—å. –ì—Ä–æ–º–∫–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–ª–æ—Å—å.
–ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ–±—ã —è —Å–µ–ª –Ω–∞ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫—É—é —Å–∫–∞–º–µ–µ—á–∫—É. –¢–∞–∫–∏–µ —Å–∫–∞–º–µ–µ—á–∫–∏ –µ—Å—Ç—å –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–º —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–º –¥–æ–º–µ. –Ø —Ç–∏—Ö–æ —Å–∏–¥–µ–ª. –û–Ω –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞–º –∏–ª–∏ –∑–∞–±–æ—Ä—É –∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—ã—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª. –í–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–æ–≥—É–ª–æ–∫ –æ–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –¥–æ–º –µ–≥–æ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤. –ö–æ–≥–¥–∞ –∑–∞ –º–µ–Ω—è –∑–∞–ø–ª–∞—Ç—è—Ç –≤—ã–∫—É–ø, –æ–Ω –∫—É–ø–∏—Ç —ç—Ç–æ—Ç –¥–æ–º. –ó–∞ –º–æ—é –æ—Ö—Ä–∞–Ω—É –æ–Ω –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å 20 —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤.
–ö–∞–∫-—Ç–æ –æ–Ω —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å—Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å –æ–±–æ –º–Ω–µ, –∏ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –∑–∞—à–µ–ª –æ–± –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ. –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ—Ö–≤–∞—Å—Ç–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç –ø—è—Ç—å —è–∑—ã–∫–æ–≤: —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π, —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π, –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–π, –Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏–π –∏ –∏—Å–ø–∞–Ω—Å–∫–∏–π. «–í–æ—Ç —ç—Ç–æ –¥–∞! — –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è. — –ê –≤–µ–¥—å –¥—É—Ä–∞–∫ –¥—É—Ä–∞–∫–æ–º!» –ù–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–Ω—É—Ç –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ø–æ-–∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏ –æ–Ω –∑–Ω–∞–µ—Ç –¥–≤–∞ —Å–ª–æ–≤–∞, –∞ –ø–æ-–Ω–µ–º–µ—Ü–∫–∏ — —á–µ—Ç—ã—Ä–µ. –ß—Ç–æ-—Ç–æ –æ–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∏ –ø–æ-–∏—Å–ø–∞–Ω—Å–∫–∏, –Ω–æ —á—Ç–æ — —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–Ω –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª. –£–º—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª—ã –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã —è –µ–≥–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —á–∞—Å. –û–Ω –¥–æ–ª–≥–æ—Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –º–æ–∏ —á–∞—Å—ã –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–π —Ä—É–∫–µ –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å: «–î–≤–∞, –¥–µ—Å—è—Ç—å, –ø—è—Ç—å…». –ë—ã–ª–æ –æ–∫–æ–ª–æ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ —É—Ç—Ä–∞. –ù–∞ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –¥–Ω—è –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –Ω–µ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ. –û–Ω –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –º–æ–µ –Ω–µ–¥–æ—É–º–µ–Ω–∏–µ –∏ –µ—â–µ —Ä–∞–∑ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ —Ü–∏—Ñ–µ—Ä–±–ª–∞—Ç. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ–∫—Ä—É—Ç–∏–ª —Ä—É–∫–æ–π —Å —á–∞—Å–∞–º–∏, –ø–æ–¥—Å—É–Ω—É–ª –∏—Ö –º–Ω–µ –ø–æ–¥ –Ω–æ—Å –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: «–ù—É –≤–æ—Ç, —Å–∞–º –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏». –ë—ã–ª–æ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç –æ–¥–∏–Ω–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–æ–≥–æ.
— –ù–∞–¥–æ –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∞—É—á–∏—Ç—å—Å—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –£ –º–µ–Ω—è –≤ –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ –±—ã–ª–∏ —á–∞—Å—ã. –û—Ç—Ü–æ–≤—Å–∫–∏–µ.
–ü–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –æ—Ç—Ü–∞ –æ–Ω –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. –ü—å—é—â–∞—è –º–∞—Ç—å –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –µ–≥–æ, –∏ –≤ 12 –ª–µ—Ç –æ–Ω —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª —É–±–æ—Ä—â–∏–∫–æ–º –∏ –æ—Ñ–∏—Ü–∏–∞–Ω—Ç–æ–º –≤ –±–∞—Ä–µ. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∏–ª –Ω–∞—Ä–∫–æ—Ç–∏–∫–∏ –ø–æ –ß–µ—á–Ω–µ. –ö–∞–∫ –æ–Ω —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª—Å—è —Å —ç—Ç–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π –ø—Ä–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö —É–º—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö, –æ–¥–Ω–æ–º—É –ê–ª–ª–∞—Ö—É –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ. –í —à–∫–æ–ª—É –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–µ —Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞.
–ù–∞ —à–µ—Å—Ç—ã–µ —Å—É—Ç–∫–∏ –ø–ª–µ–Ω–∞ –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –∫–∞–∫ –¥–µ–ª–∞. –ö–∞–∫ —É—Å–ø–µ—Ö–∏ –≤ –¥–µ–ª–µ –∏–∑—É—á–µ–Ω–∏—è –ö–æ—Ä–∞–Ω–∞ –∏ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª –º–Ω–µ –º–æ–π –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã–π –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–∫.
— –¢—ã –µ–≥–æ —Å–ø—Ä—è—á—å –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ. –≠—Ç–æ –∂–µ —Ç–≤–æ—è –≤–µ—Ä–∞. –≠—Ç–æ — —Å–≤—è—Ç–æ–µ, –∞ –ª—é–¥–∏ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∞—é—Ç—Å—è.
–ê–±–¥—É–ª–ª–∞ —Å –±–æ–ª—å—à–∏–º —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª—Å—è –∫ –≤–µ—Ä—É—é—â–∏–º –ª—é–¥—è–º, –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –≤–µ—Ä–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –∏—Å–ª–∞–º—Å–∫–æ–≥–æ —Ç–æ–ª–∫–∞. –Ø —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —É –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–æ –≤–∞—Ö—Ö–∞–±–∏–∑–º.
— –ï—Å—Ç—å —Ç—É—Ç –ø—Ä–∏–¥—É—Ä–∫–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, — –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, —á—Ç–æ –∂–∏—Ç—å –Ω–∞–¥–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ –∏–º—è –ê–ª–ª–∞—Ö–∞. –ò —É–º–∏—Ä–∞—Ç—å –≤–æ –∏–º—è –ê–ª–ª–∞—Ö–∞. –ù–æ —É –Ω–∏—Ö —Ç–∞–º –∫–æ–Ω—Ü—ã —Å –∫–æ–Ω—Ü–∞–º–∏ –Ω–µ —Å—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞—á–∞—Ç—å —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è.
— –ù—É, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞—á–∞—Ç—å —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —è, — —Ç–æ –∏ —É –≤–∞—Å –Ω–µ —Å—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è –∫–æ–Ω—Ü—ã —Å –∫–æ–Ω—Ü–∞–º–∏.
— –í —á–µ–º –∂–µ?
— –ê –≤–æ—Ç –≤ —á–µ–º: —Ç—ã –∂–µ —Å–∞–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ —è –Ω–∏ –≤ —á–µ–º –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç–æ–±–æ–π –Ω–µ –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç. –¢–∞–∫?
— –¢–∞–∫, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞.
— –ò, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —è –≤ –Ω–µ–≤–æ–ª–µ.
— –¢—ã –≤ –Ω–µ–≤–æ–ª–µ.
— –ú–æ–∂–Ω–æ –ª–∏ –º–µ–Ω—è –Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å –Ω–µ–≤–∏–Ω–Ω—ã–º –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–∏–∫–æ–º?
— –≠—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ —Ç–æ—á–Ω–æ–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω–µ–º—É —Ç–≤–æ–µ–º—É –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞.
–ò —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–¥—Å—É–Ω—É–ª –µ–º—É —Ç—É —Å–∞–º—É—é —Ñ—Ä–∞–∑—É –∏–∑ –ö–æ—Ä–∞–Ω–∞: «–û—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏ –Ω–µ–≤–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞». –Ø –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–ª —Ñ—Ä–∞–∑—É. –û–Ω –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª. –°—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –∫–Ω–∏–≥—É –∏ —Å—Ç–∞–ª —á–∏—Ç–∞—Ç—å. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –∫—Ä–∞—Å–Ω–µ–ª–∏ –µ–≥–æ —É—à–∏ –∏ —â–µ–∫–∏. –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –±—ã–ª —Å–º—É—â–µ–Ω. –ß—Ç–æ–±—ã –∏ –¥–∞–ª—å—à–µ –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å–º—è—Ç–µ–Ω–∏—è, –æ–Ω —É—à–µ–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∫–Ω–∏–≥–æ–π.
–í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∂–∏ —è –µ–º—É —ç—Ç–∏—Ö —Å—Ç—Ä–æ—á–µ–∫, –º–æ–π —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π –ø–ª–µ–Ω —Å–ª–æ–∂–∏–ª—Å—è –±—ã –ø–æ-–¥—Ä—É–≥–æ–º—É. –ù–æ —è —Å—á–∏—Ç–∞—é, —á—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –æ–Ω–∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ê–±–¥—É–ª–ª—É –ø–µ—Ä–µ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å —Å–≤–æ–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ –º–æ–µ–π –æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ.
28 –∏—é–Ω—è 1999 –≥–æ–¥–∞, –ø–æ–Ω–µ–¥–µ–ª—å–Ω–∏–∫. –®–µ–ª –¥–µ–≤—è—Ç—ã–π –¥–µ–Ω—å –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞—Ö. –Ý–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—á–∏–≤—ã–π –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —É–¥–∏–≤–ª—è—Ç—å —Å–≤–æ–∏–º –Ω–µ–≤–µ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ–º. –ö –≤–µ—á–µ—Ä—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞, –æ–Ω–∏ –¥–æ–ª–≥–æ —Å–æ–≤–µ—â–∞–ª–∏—Å—å, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫–æ –º–Ω–µ.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ç—ã –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∑–≤—É–∫–æ–≤ –Ω–æ—á—å—é?
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è. — –ï—Å–ª–∏ –≤—ã —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç–µ, —á—Ç–æ –Ω–∞ —Å–≤–∞–¥—å–±–µ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ –ø–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—Ç—å –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞, —Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–æ—á—å—é –º–∏–º–æ –¥–æ–º–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –ø—Ä–æ–Ω–æ—Å–∏–ª–∞—Å—å –º–∞—à–∏–Ω–∞, –∫–∞–∫ —è –ø–æ–Ω—è–ª, –∑–∞–±–∏—Ç–∞—è –ø—å—è–Ω—ã–º–∏ –º—É–∂–∏–∫–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –∏–∑ –ª–∏—á–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è. –£—Ç—Ä–æ–º –º—ã —É–∂–µ –æ–±—Å—É–∂–¥–∞–ª–∏ —ç—Ç—É —Ç–µ–º—É –∏ –∫–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–µ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –Ω–∞ —Å–≤–∞–¥—å–±–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø—å—è–Ω—ã–µ –µ–∑–¥—è—Ç –Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞—Ö –∏ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—é—Ç, —è –±—ã–ª —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω.
— –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –±–µ—Å—Ç–æ–ª–∫–æ–≤—ã–π –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞.
–ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ —Å –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω—ã–º –æ—Ç—á–∞—è–Ω–∏–µ–º.
— –ö–∞–∫ –∂–µ, –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞, — –¥–µ–ª–∞–Ω–æ –∏–∑—É–º–∏–ª—Å—è —è, — –≤–µ–¥—å —Ç—ã –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –≤—Å–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª?
–ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–µ –¥–∞–ª –µ–º—É –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏—Ç—å.
— –ù–µ –≤ —ç—Ç–æ–º –¥–µ–ª–æ, — —Å –¥–æ—Å–∞–¥–æ–π —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –¢—É—Ç –¥–∞–≤–Ω–æ –∫—Ä—É—Ç–∏—Ç—Å—è –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –º–∞—à–∏–Ω–∞. –û—á–µ–Ω—å –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, —á—Ç–æ —Ç–µ–±—è —Ö–æ—Ç—è—Ç –ø–µ—Ä–µ—Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å —É –Ω–∞—Å.
— –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ «–ø–µ—Ä–µ—Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å»? — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —è.
— –û—á–µ–Ω—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ. –ù–∞—Å –ø–æ–≤—è–∂—É—Ç –∏–ª–∏ «–∑–∞–º–æ—á–∞—Ç», –∞ —Ç–µ–±—è —É–≤–µ–∑—É—Ç. –ù–µ –¥—É–º–∞—é, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –±—É–¥—É—Ç –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å —Ç–µ–±—è –ª—É—á—à–µ.
–í–µ—á–µ—Ä–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –≤—ã–≤–µ–ª –º–µ–Ω—è –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –Ω–∞ –ø—Ä–æ–≥—É–ª–∫—É, –∏–∑ –¥–æ–º–∞ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ —Å –ø—É–ª–µ–º–µ—Ç–æ–º. –û–Ω —Å—É–Ω—É–ª –ø—É–ª–µ–º–µ—Ç –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–µ –∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª. –¢–æ—Ç –ø–æ–≤–µ–ª –º–µ–Ω—è –≤–≥–ª—É–±—å —Å–∞–¥–∞. –¢–∞–º –≤–µ–ª–µ–ª –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å –∑–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–∞–º–∏, –∞ —Å–∞–º —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å –ø—É–ª–µ–º–µ—Ç, –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è—è —Å—Ç–≤–æ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–æ–º–∞. –ü–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º.
— –°–∏–¥–∏—Ç–µ —Ç–∏—Ö–æ, —è –ø–æ–ø—ã—Ç–∞—é—Å—å —Å –Ω–∏–º–∏ –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω–∏ –¥–æ–≥–∞–¥–∞—é—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –º—ã –¥–æ–º–∞.
— –ê –µ—Å–ª–∏ –∏—Ö –º–Ω–æ–≥–æ, –ê–±–¥—É–ª–ª–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ù–∏—á–µ–≥–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω —Å —É–ª—ã–±–∫–æ–π, — –∏ –Ω–µ —Ç–∞–∫–æ–µ –≤–∏–¥–∞–ª–∏. –ü—Ä–æ–¥–µ—Ä–∂–∏–º—Å—è.
–°–∏–¥–µ–ª–∏ –º—ã –¥–æ–ª–≥–æ. –ù–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∑–≤—É–∫–æ–≤ —è –Ω–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª. –°–ø—Ä–æ—Å–∏–ª, –º–æ–∂–Ω–æ –ª–∏ –ø–æ–∫—É—Ä–∏—Ç—å. –ö—É—Ä–∏. –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ —Ç–∏—Ö–æ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –Ω–∞–º –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª.
–ß–∞—Å–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –¥–æ–º. –î–æ —É—Ç—Ä–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ê –≤–æ—Ç —Ä–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥–Ω—è–ª –∏ –≤—ã–≤–µ–ª –Ω–∞ –±–µ–∑–ª—é–¥–Ω—É—é —É–ª–∏—Ü—É. –¢–∞–º —É–∂–µ –∂–¥–∞–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞. –û–Ω –¥–µ—Ä–∂–∞–ª —Ç—è–∂–µ–ª—ã–π —Ä—É—á–Ω–æ–π –ø—É–ª–µ–º–µ—Ç –ö–∞–ª–∞—à–Ω–∏–∫–æ–≤–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –Ý–µ–º–±–æ. –í —Ä—É–∫–µ —É –ì–∞–±–¥—É–ª–ª—ã –±–ª–µ—Å—Ç–µ–ª–∞ –∏—Ç–∞–ª—å—è–Ω—Å–∫–∞—è «–ë–µ—Ä–µ—Ç—Ç–∞». –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π –æ–Ω –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –º–æ—é –ª–µ–≤—É—é —Ä—É–∫—É –∫ —Å–≤–æ–µ–π –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ. –í —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–µ –º—ã –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –Ω–∏ –±–µ–∂–∞—Ç—å, –Ω–∏ –∏–¥—Ç–∏. –í—ã—à–µ–¥—à–∏–π –∫ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∫—É –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –º–∞—Ö–Ω—É–ª –Ω–∞–º —Ä—É–∫–æ–π. –ú—ã –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–±–µ–∂–∞—Ç—å, –Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ —Å—Ç–∞–ª —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –º–µ–Ω—è, –≤—ã–±–∏—Ä–∞—è –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –ª–µ–≥—á–µ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è. –¢–∞–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å. –ù–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ –∏–¥—Ç–∏ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∞—Å —à–µ–ª —Å–ø–∏–Ω–æ–π –≤–ø–µ—Ä–µ–¥. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ —Å–º–µ–µ—Ç—Å—è –∏ –ø–æ–¥–º–∏–≥–∏–≤–∞–µ—Ç –º–Ω–µ –ê–±–¥—É–ª–ª–∞. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –æ–Ω –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –Ω–∞ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª—É, –∏ —Ç–æ—Ç –≤–æ–æ–±—â–µ —Å–Ω—è–ª —Å –º–µ–Ω—è –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ, —ç—Ç–æ —è —Å–Ω—è–ª –∏—Ö —Å –Ω–µ–≥–æ. –û–¥–Ω–æ–π —Ä—É–∫–æ–π –æ–Ω –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –∏—Ö –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å.
–ü–µ—Ä–µ–±–µ–∂–∫–∞–º–∏, –æ—Ç –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∫–∞ –∫ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∫—É, –º—ã —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∫ –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–æ–π –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ —Å–µ–ª–∞. –ü–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ —Ä–µ—á–∫–µ. –ó–∞ —Ä–µ—á–∫–æ–π, —á—É—Ç—å —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –≤–∑–ª–µ—Ç–∞–ª –º–∏–Ω–∞—Ä–µ—Ç –±–µ–ª–æ–π –º–µ—á–µ—Ç–∏. –ö –Ω–µ–π –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏, —Ö–æ—Ç—è –ø—Ä—è–º–æ –∫ –º–µ—á–µ—Ç–∏ –±—ã–ª –ø–µ—Ä–µ–∫–∏–Ω—É—Ç –º–æ—Å—Ç–∏–∫. –ü–µ—Ä–µ—à–ª–∏ —Ä–µ—á–∫—É –≤ –±—Ä–æ–¥. –í–æ–¥–∞ –µ–¥–≤–∞ –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –¥–æ –∫–æ–ª–µ–Ω–∞, —Ö–æ—Ç—è –ø–æ—Ç–æ–∫ –±—ã–ª –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π. –î–æ—à–ª–∏ –¥–æ –ª–µ—Å–∞ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞—Å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–µ–ª–∞. –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –æ–ø—è—Ç—å —É—à–µ–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥. –í–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –Ω–µ —Å–∫–æ—Ä–æ.
— –¢–∞–º –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –Ω–∞—Å –∏—â—É—Ç. –ë—É–¥–µ–º —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å.
–¢–æ–≥–¥–∞ —è –µ—â–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ «–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ–º» —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç –≤—Å—è–∫–∏–µ –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –∏–ª–∏ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è. «–î–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ» –æ—á–µ–Ω—å –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–æ –≤ –∏—Ö –ª–µ–∫—Å–∏–∫–æ–Ω–µ –∏ –º–æ–∂–µ—Ç –æ–∑–Ω–∞—á–∞—Ç—å —Å–∞–º—ã–µ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤–µ—â–∏, –≤–ø–ª–æ—Ç—å –¥–æ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥–∞. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É —Ç–æ–≥–¥–∞ —è —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª:
— –ö—Ç–æ —Ç–∞–º –¥–≤–∏–∂–µ—Ç—Å—è?
— –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ë—É–¥–µ–º –æ—Ç—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è.
–•–æ—Ç—è —è –∏ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∏–≥—Ä–∞—é—Ç –≤ –Ω–∞–ø–∞–¥–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞—à–∏—Ö —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª, –µ—Å–ª–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –æ–Ω–∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å, –ª–∏—á–Ω–æ –º–µ–Ω—è –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–æ –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º –ì–∞–±–¥—É–ª–ª—É. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –∏ –º–µ–Ω—è –Ω–µ «–∑–∞–º–æ—á–∏–ª–∏» –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º–∏.
— –ï—Å–ª–∏ –≤–¥—Ä—É–≥ —É–±—å—é—Ç –∏ –º–µ–Ω—è, –∏ –ê–±–¥—É–ª–ª—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞, — –±–µ–≥–∏ –≤ —Å–µ–ª–æ, –∫ –ª—é–¥—è–º. –Ý—É—Å—Å–∫–∏–µ —Ç–µ–±—è –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ —É–±—å—é—Ç.
–Ø –∫–∏–≤–Ω—É–ª –Ω–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π –∏ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫–æ–π —É–∂ —è –¥—É—Ä–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –±–µ–∂–∞—Ç—å –æ—Ç —Å–≤–æ–∏—Ö. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞—é—â–∏–π—Å—è –∑–≤—É–∫ –º–∞—à–∏–Ω –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏ —Å–∏–≥–Ω–∞–ª –ê–±–¥—É–ª–ª—ã — —Ç–æ—Ç —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –Ω–∞–º –æ—Ç—Ö–æ–¥–∏—Ç—å — —è –≤–æ–æ–±—â–µ –±—ã–ª –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω. –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç, —Å—É–Ω—É–ª –º–Ω–µ —Å–≤–æ—é «–ë–µ—Ä–µ—Ç—Ç—É»! –ú—ã –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏.
–ö—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤ –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫—É, —è –ø–æ–Ω—è–ª, –∫–∞–∫ –ª–µ–≥–∫–æ –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å—Å—è. –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –¥—É—Ä–∞–∫–æ–º –Ω–µ –ø—Ä–∏—Ç–≤–æ—Ä—è–ª—Å—è. –ï–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã—á–∏—Å–ª–∏—Ç—å –Ω–µ–≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–º –≥–ª–∞–∑–æ–º. –ù–æ –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –º–æ–≥ –æ—Ç—Å–ª–µ–∂–∏–≤–∞—Ç—å –º–æ–∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è, —Ä—è–¥–æ–º –º–æ–≥ –±—ã—Ç—å —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∞ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –∏ –±–æ–ª—à–µ. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è –æ—Ä—É–∂–∏—è —è –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª –∫–∞–∫ –Ω–∏–∑–∫–æ—ç—Ñ—Ñ–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω—É—é. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, —á—Ç–æ —Å «–ë–µ—Ä–µ—Ç—Ç–æ–π» –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ —É–º–µ–ª, –∞ –±—ã–ª–∞ –ª–∏ –æ–Ω–∞ –∑–∞—Ä—è–∂–µ–Ω–∞ — –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å, —è –≤–∑—è–ª –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –∑–∞ —Å—Ç–≤–æ–ª –∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–µ.
— –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞, —Ç—ã, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –æ—à–∏–±—Å—è?
–¢–æ—Ç —à–∏—Ä–æ–∫–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –≥–ª–∞–∑–∞, —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –∏ —Å—É–Ω—É–ª –≤ –∫–æ–±—É—Ä—É. –•–æ—Ä–æ—à–æ –µ—â–µ, —á—Ç–æ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–∞–º –º–Ω–µ –µ–≥–æ —Å—É–Ω—É–ª. –Ý—è–¥–æ–º —Å –∫–æ–±—É—Ä–æ–π –Ω–∞ —Ä–µ–º–Ω–µ –≤–∏—Å–µ–ª –º–æ–π –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω. –ü–æ–¥–æ—à–µ–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞.
— –ï—Å—Ç—å —Ç—É—Ç –æ–¥–Ω–∞ —Ç—Ä–æ–ø–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –í –ø—Ä–æ—à–ª—É—é –≤–æ–π–Ω—É –º—ã –ø–æ –Ω–µ–π —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –æ—Ç —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–æ–≤. –ù–æ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–∞–¥–æ —Ç–æ—á–Ω–æ —Å–ª–µ–¥ –≤ —Å–ª–µ–¥ — —Ç—Ä–æ–ø–∞ –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∞.
–¢—Ä–æ–ø–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –Ω–µ–≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º –æ–≤—Ä–∞–≥–æ–º. –®–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –∑–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–º: –ê–±–¥—É–ª–ª–∞, —è –∏ –∑–∞–º—ã–∫–∞—é—â–∏–º –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞. –Ø –Ω–µ –≤–µ—Ä–∏–ª —ç—Ç–æ–º—É —Å–ø–µ–∫—Ç–∞–∫–ª—é –∏ —Ö–æ—Ç–µ–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ — –ø–æ–±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ –∫—É–¥–∞-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–∏–π—Ç–∏. –í–¥—Ä—É–≥ –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏, — –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –≤–ª–µ–≤–æ –≤–Ω–∏–∑. — –í–æ–Ω, –ø–æ–¥ –ª–æ–ø—É—Ö–æ–º.
–Ø —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, –Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. –õ–æ–ø—É—Ö, –∫–∞–∫ –ª–æ–ø—É—Ö.
–ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª —Ç—É–¥–∞, –ø—Ä–∏—Å–µ–ª, –ø—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω—è–ª –ª–æ–ø—É—Ö –∏ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –∂–µ—Å—Ç–æ–º –ø–æ–¥–æ–π—Ç–∏ –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ. –Ø –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–π –Ω–∞ –ª–µ–ø–µ—Å—Ç–∫–∏ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞—Ç–µ–ª—å –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–µ—Ö–æ—Ç–Ω–æ–π –º–∏–Ω—ã.
— –í–æ—Ç —Ç–∞–∫ —Å 1996 –≥–æ–¥–∞ –∏ –ª–µ–∂–∏—Ç –∑–¥–µ—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞. — –≠—Ç–∞ —Ç—Ä–æ–ø–∞ –±—ã–ª–∞ –¥–ª—è –Ω–∞—Å —Ç—Ä–æ–ø–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã —É–∑–Ω–∞–ª–∏ –æ –µ–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ — –∑–∞—Å—ã–ø–∞–ª–∏ –º–∏–Ω–∞–º–∏ –ø—Ä—è–º–æ —Å –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª–µ—Ç–æ–≤.
— –Ý–∞–∑–≤–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è —Ä–∞–∑–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ö—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –¥–µ–ª–∞—Ç—å? — –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –Ω–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞. — –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–∞–º — –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ. –û–Ω–∏ –≤ –ª–µ—Å–∞ –Ω–µ —Å—É—é—Ç—Å—è. –ê —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤ –Ω–µ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏—à—å.
— –ù–æ –≤–µ–¥—å –∑–¥–µ—Å—å –º–æ–≥—É—Ç –±–µ–≥–∞—Ç—å –¥–µ—Ç–∏!
— –ú–æ–≥—É—Ç, — —Å –≥–æ—Ä–µ—á—å—é –≤ –≥–æ–ª–æ—Å–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–±–¥—É–ª–ª–∞.
–Ø —à–µ–ª —É–∂–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–µ–µ –∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–ª–µ–¥ –≤ —Å–ª–µ–¥. –í—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –æ–ø—É—à–∫—É –ª–µ—Å–∞. –î–∞–ª—å—à–µ –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª–µ, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —Å–Ω–æ–≤–∞ –±—ã–ª –≤–∏–¥–µ–Ω –ª–µ—Å. –ú–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–ª–µ –æ–±–æ–π—Ç–∏ –ø–æ –ª–µ—Å—É, –Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –∫—Ä—é–∫, –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤ –ø—è—Ç—å. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ø–æ–ª—è –∫ –Ω–∞–º –ø—Ä–∏—à–µ–ª —Ç–æ—Ç —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —è –≤–∏–¥–µ–ª –µ—â–µ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å. –°–ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–π, –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–Ω—ã–π.
–ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –µ–º—É —á—Ç–æ-—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏. –¢–æ—Ç —Å–ª—É—à–∞–ª –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ —É—Å–º–µ—Ö–∞—è—Å—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ —Å—Ç–∞–ª —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–µ—Ö–æ—Ç–Ω—ã–µ –º–∏–Ω—ã, —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –Ω–∞—á–∞–ª –≤–µ—Ä—Ç–µ—Ç—å —É–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º —É –≤–∏—Å–∫–∞.
–ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, —ç—Ç–∏ –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –¥—Ä—É–≥–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞, —Ç–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞—á–∏—Å—Ç–æ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—Ç –≤ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ, –±—ã–ª–∏ –∑–∞–∏–º—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω—ã –∏–∑ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ –¥–æ–≥–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è, –æ —á–µ–º –∏–¥–µ—Ç —Ä–µ—á—å.
–ü—Ä—è–º–æ –ø–æ –ø–æ–ª—é –º—ã –¥–æ—à–ª–∏ –¥–æ –∫–∞–∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –æ–≤—Ä–∞–≥–∞. –¢—É–¥–∞ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è, –∞ —Å—Ç–µ–Ω—ã –æ–≤—Ä–∞–≥–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω—ã–µ. –¢—É—Ç –∏ –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —è –±—ã–ª –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ª—É—á—à–µ –∏—Ö –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω. –Ø –ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª –∏ —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –±–µ–∑ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º. –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫—É–±–∞—Ä–µ–º –∏ –∑–∞—Å—Ç—Ä—è–ª –≤ –∫–æ—Ä–Ω—è—Ö –±—É–∫–∞. –î–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω —Å–ª–µ—Ç–µ–ª —É –Ω–µ–≥–æ —Å –ø–æ—è—Å–∞ –∏ –≥—Ä–æ—Ö–Ω—É–ª—Å—è –æ –∫–∞–º–µ–Ω—å –ø—Ä—è–º–æ —É –º–æ–∏—Ö –Ω–æ–≥. –í–¥—Ä–µ–±–µ–∑–≥–∏. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –≤—Å–µ –∂–µ —Å–æ–±—Ä–∞–ª –≤—Å–µ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏ –≤ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–µ –ø–æ—á–∏–Ω–∏—Ç—å.
–ü–æ –æ–≤—Ä–∞–≥—É –º—ã —à–ª–∏ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ø–æ–ª—è–Ω–µ. –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–∞—Ä–µ–∑–∞–ª –≤–µ—Ç–æ–∫ –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞ –∏ —Å–æ–æ—Ä—É–¥–∏–ª —Å–µ–±–µ –Ω–µ—á—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ –ª–µ–∂–∞–Ω–∫–∏. –î–≤–µ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–µ –≤–µ—Ç–∫–∏ — –≤–¥–æ–ª—å —Ç—É–ª–æ–≤–∏—â–∞, –º–µ–ª–∫–∏–µ — –ø–æ–ø–µ—Ä–µ–∫. –õ–µ–∂–∞—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ, –Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—á–µ–Ω—å —Å–º–∏—Ä–Ω–æ. –ò–Ω–∞—á–µ — –ª–µ–∂–∞–Ω–∫–∞ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∑–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ–¥ —Ç–æ–±–æ–π. –ü–æ–¥ –≤–µ—Å–æ–º –ê–±–¥—É–ª–ª—ã –≤—Å–µ —Ä–∞–∑—ä–µ—Ö–∞–ª–æ—Å—å –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –û–Ω –Ω–∞—Ä—É–±–∏–ª –≤–µ—Ç–æ–∫ –µ—â–µ –∏ —Å—Ç–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–≤—è–∑—ã–≤–∞—Ç—å –∏—Ö –ª—ã–∫–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –¥—Ä–∞–ª —Å —Ç–æ–≥–æ –∂–µ –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å.
–Ø —Ç–æ–∂–µ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è —É –∫–∞–º–µ—à–∫–∞.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏, –Ω–µ –≤–∑–¥—É–º–∞–π –±–µ–∂–∞—Ç—å! — –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ, –Ω–æ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ç–æ—Ç —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ —è —É–∂–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª, –∑–≤–∞–ª–∏ –Ý–∞–º–∑–∞–Ω–æ–º, —É—à–µ–ª –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é, —á—Ç–æ–±—ã —Ç–∞–º –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è –Ω–∞ –Ω–æ—á—å.
–ñ–¥–∞–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–æ. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –≤–∑—è—Ç—å –ø–æ–µ—Å—Ç—å, –≤–º–µ—Å—Ç–æ –ø–∏—Ä–æ–∂–∫–æ–≤ –≤–∑—è–ª –¥—Ä–æ–∂–∂–µ–≤–æ–µ —Ç–µ—Å—Ç–æ. –ß—Ç–æ–±—ã –µ–≥–æ –∑–∞–ø–µ—á—å, –∫–æ—Å—Ç–µ—Ä —Ä–∞–∑–∂–∏–≥–∞—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏, –¥–∞–±—ã –Ω–µ –¥–µ–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å–µ–±—è. –ù–∞–∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∏ –≤ –ª–∞–¥–æ–Ω—è—Ö —à–∞—Ä–∏–∫–∏, —Ä–∞—Å–ø–ª—é—â–∏–ª–∏ –∏—Ö –≤ –ª–µ–ø–µ—à–∫–∏ –∏ —Ä–∞–∑–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ. –ï—Å—Ç—å —ç—Ç—É –≥–∞–¥–æ—Å—Ç—å —Ç–∞–∫ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª.
–Ý–∞–º–∑–∞–Ω –ø—Ä–∏—à–µ–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É. –°–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±–µ—Ä–µ—Ç. –ù—É–∂–Ω–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è. –ü–æ—à–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ –ø–æ–ª—è–º.
–ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ –ø—É—Ç–∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –ª–µ—Ç–æ–º 1995 –≥–æ–¥–∞ –≤–æ–µ–≤–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å —Å —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º–∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞–º–∏.
— –í–æ–Ω —Ç–∞–º, — –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –æ–Ω, — —Å—Ç–æ—è–ª–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã. –ê—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏—è –±–∏–ª–∞ –æ—á–µ–Ω—å –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ.
–ù–∞–º –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–∏ –æ—Ç —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤, –∞ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –∏ –æ—Ç –∞–≤–∏–∞–±–æ–º–±. –ù–æ –º–µ–Ω—è –±–æ–ª—å—à–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–æ —Ç–æ, –≥–¥–µ –º—ã —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è. –¢–æ –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –º—ã —à–ª–∏, –±—ã–ª–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã—à–µ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É. –¢–∞–º –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç, —Å–µ–ª–∞ —É –µ–≥–æ –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è –∏ —Ñ–∞–∫–µ–ª—ã –ø–æ–ø—É—Ç–Ω–æ–≥–æ –≥–∞–∑–∞ –Ω–µ—Ñ—Ç—è–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–π.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —à–ª–∏ –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –ø—Ä–æ—Å–µ–ª–æ—á–Ω—ã—Ö –¥–æ—Ä–æ–≥, –≤–¥–∞–ª–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ–≤–æ–∑–∫–∞ —Å –¥–≤—É–º—è –ª—é–¥—å–º–∏ –∏ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –∫–æ–ø–Ω–æ–π —Å–µ–Ω–∞. –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ —Ç—É—Ç –∂–µ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –º–æ–ª—á–∞—Ç—å, –≤–∑—è—Ç—å —Ä—É–∫–∞ –≤ —Ä—É–∫—É –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –æ–Ω –º–µ–Ω—è –ø–æ–π–º–∞–ª –∏ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–µ—Ç. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –º–æ—è –∫—Ä—É–≥–ª–∞—è —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è —Ä–æ–∂–∞ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –≤–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â—É—é –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –∏ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –≤—ã–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Ö–æ—Ç—è –±—ã –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã.
–Ý–∞–º–∑–∞–Ω –ø–æ—à–µ–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏, –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Ä–æ–≤–µ–Ω—å —Å–æ –º–Ω–æ–π, —á—É—Ç—å –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∞—è. –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –∑–∞–º—ã–∫–∞–ª –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–∏—é —Å –ø—É–ª–µ–º–µ—Ç–æ–º –Ω–∞–ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Å. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–≤–æ–∑–∫–∞ –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ –±–ª–∏–∂–µ, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–µ—é, –¥–µ—Ä–∂–∞ –≤–æ–∂–∂–∏, –∏–¥–µ—Ç —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –º–æ–µ–≥–æ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞ –∏–ª–∏ –ø–æ–º–ª–∞–¥—à–µ. –î–ª—è –Ω–∏—Ö, –≤ —Å–≤–æ–∏ 44 –≥–æ–¥–∞, —è –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏–ª–µ—Ç–Ω–∏–º. –ù–∞ –ø–æ–≤–æ–∑–∫–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∞ –¥–µ–≤—É—à–∫–∞, –ª–µ—Ç –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–æ—Ä–∞–≤–Ω—è–ª–∏—Å—å, –º—É–∂—á–∏–Ω–∞ —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –¥–µ–≤—É—à–∫–µ. –¢–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—É –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥—è—â–∏–π –≤–∑–≥–ª—è–¥. –ü—Ä–æ–µ–∑–∂–∞—è –º–∏–º–æ, –¥–µ–≤—É—à–∫–∞ –ø–ª—é–Ω—É–ª–∞ –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –Ω–æ –ø–æ–ø–∞–ª–∞ –≤ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª—É. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ –æ–Ω –≤–∑–≤–∏–ª—Å—è –∏ –∑–∞–æ—Ä–∞–ª. –Ý–∞–º–∑–∞–Ω —Å –ê–±–¥—É–ª–ª–æ–π —Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å, –∞ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ–¥–±–µ–∂–∞–ª –∫ –ø–æ–≤–æ–∑–∫–µ –∏, –≤–∏–¥–∏–º–æ, —Å—Ç–∞–ª —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞—Ç—å –æ—Ç –¥–µ–≤—É—à–∫–∏, —á—Ç–æ–±—ã —Ç–∞ –≤—ã—Ç–µ—Ä–ª–∞ –µ–º—É —Å–ª—é–Ω—É –Ω–∞ —Ä—É–±–∞—à–∫–µ. –ù–æ —Ç–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å, –∞ –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –≤–æ–∂–∂–∞–º–∏ –æ—Ç –º—É–∂–∏–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –µ—â–µ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –µ–º—É —á—Ç–æ-—Ç–æ. –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞ —Å—Ä–∞–∑—É —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª—Å—è, —Ö–≤–∞—Ç–∞–Ω—É–ª –æ—Ö–∞–ø–∫—É —Ç—Ä–∞–≤—ã —Å –ø–æ–≤–æ–∑–∫–∏ –∏ —Å—Ç–∞–ª —Ç–µ—Ä–µ—Ç—å –µ—é –ª–µ–≤—ã–π —Ä—É–∫–∞–≤ —Ä—É–±–∞—à–∫–∏ —á—É—Ç—å –ø–æ–Ω–∏–∂–µ –ª–æ–∫—Ç—è.
–ö –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –ø–æ–∑–¥–Ω–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º. –í —Ç–æ –∂–µ –º–µ—Å—Ç–æ, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏, –∫ –º–µ—á–µ—Ç–∏. –Ý–∞–º–∑–∞–Ω —É—à–µ–ª –≤ —Å–µ–ª–æ –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É. –ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Ä–µ–∫–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –¥–≤–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ú—ã —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤–±—Ä–æ–¥ –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ —Ä–µ—á–∫—É –∏ –¥–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ –Ω–∏—Ö. –ù–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞—Ö –∏ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –∫ –¥–æ–º—É –ì–∞–±–¥—É–ª–ª—ã.
–ù–∏–∫—Ç–æ –∏ –Ω–µ –¥—É–º–∞–ª –∑–∞–≤—è–∑—ã–≤–∞—Ç—å –º–Ω–µ –≥–ª–∞–∑–∞, —Ö–æ—Ç—è, –ø–æ–∫–∞ –µ—Ö–∞–ª–∏, –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–∞–∫–ª–æ–Ω–∏—Ç—å –≥–æ–ª–æ–≤—É. –ù–æ —ç—Ç–æ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π –Ω–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª –º–µ–Ω—è.
–Ø –±—ã–ª –≤–Ω–æ–≤—å –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É—Ç –∫ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏. –î–∞–ª–∏ –ø–æ–µ—Å—Ç—å. –¢–∞–∫ –≤–æ –≤—Å–µ–º –º–æ–∫—Ä–æ–º –∏ –∑–∞—Å–Ω—É–ª, –¥—É–º–∞—è —á—Ç–æ –≤—Å–µ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å. –ù–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ —á–∞—Å–∞, –º–µ–Ω—è —Ä–∞–∑–±—É–¥–∏–ª–∏, –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –æ—Ç –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏, –æ–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –æ–±–µ —Ä—É–∫–∏, –Ω–∞—Ö–ª–æ–±—É—á–∏–ª–∏ –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ —á–µ—Ä–Ω—É—é –≤—è–∑–∞–Ω—É—é —à–∞–ø–æ—á–∫—É –∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É.
–í–µ–∑–ª–∏ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –°–Ω–æ–≤–∞ –∫–∞–ª–∏—Ç–∫–∞, —Å–∞–¥ –∏ –¥–æ–º. –ó–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ —Å–Ω—è—Ç—å –æ–±—É–≤—å. –Ø –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –º–Ω–æ–≥–æ –ª—é–¥–µ–π. –Ø —Å—Ç–æ—è–ª –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ.
— –°–Ω–∏–º–∏—Ç–µ —Å –Ω–µ–≥–æ —à–∞–ø–æ—á–∫—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö.
–®–∞–ø–æ—á–∫—É —Å–Ω—è–ª–∏. –Ø —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ –≤–µ—Ä–∞–Ω–¥–µ –¥–æ–º–∞. –¢—É—Å–∫–ª–æ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –ª–∞–º–ø–æ—á–∫–∞, –≤–∞—Ç—Ç –Ω–∞ 30. –í–æ–∫—Ä—É–≥ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ 12 — 15.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –Ω—É –∫–∞–∫ —Ç–µ–±–µ –Ω–æ–≤–æ–µ –∂–∏–ª–∏—â–µ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∏—Ö. –¢–µ–ø–µ—Ä—å-—Ç–æ —è –∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –ë–∞—Ä–∞–µ–≤. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –º–æ–ª—á–∞–ª–∏. –Ø –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –∏–º–µ–ª –≤ –≤–∏–¥—É –∏ —Å–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–Ω–æ –æ–∑–∏—Ä–∞–ª—Å—è.
— –ü–æ–ª–µ–∑–∞–π —Ç—É–¥–∞, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ø–∞—Ä–µ–Ω—å —Å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã–º –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º.
–¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ —â–µ–ª—å –≤ –ø–æ–ª—É. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª —Ç—É–¥–∞ —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è. –ù–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å. –¢–æ–≥–¥–∞ –ø–∞—Ä–µ–Ω—å –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –º–Ω–µ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ —Å –æ–¥–Ω–æ–π —Ä—É–∫–∏. –Ø –ø–æ–ª–µ–∑ –≤ –ø–æ–¥–ø–æ–ª. –ö–æ–≥–¥–∞ –≥–æ–ª–æ–≤–∞ –±—ã–ª–∞ —É–∂–µ –Ω–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ –ø–æ–ª–∞, –∫—Ç–æ-—Ç–æ –ø–∏—Ö–Ω—É–ª –µ–µ —Ç—É–¥–∞ –Ω–æ–≥–æ–π. –ö—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: «–ù–µ –Ω–∞–¥–æ».
–í–Ω–∏–∑—É —è –æ–≥–ª—è–¥–µ–ª—Å—è –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ «–Ω–æ–≤—ã–π –¥–æ–º» –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ö—É–∂–µ —Å—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –±—ã–ª–∏ –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–µ, –º–æ–Ω–æ–ª–∏—Ç–Ω—ã–µ —Å—Ç–µ–Ω—ã —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞ — —è—á–µ–π–∫–∞ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –Ω–∞ –¥–≤–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞ –∏ –º–µ—Ç—Ä –≤ –≤—ã—Å–æ—Ç—É. –®–∏—Ä–æ–∫–∏–µ –¥–æ—Å–∫–∏ –ø–æ–ª–∞ –≤–µ—Ä–∞–Ω–¥—ã, —Å—Ç–∞–≤—à–∏–µ –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –ø–æ—Ç–æ–ª–∫–æ–º, –±—ã–ª–∏ –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ –ø—Ä–∏–≥–Ω–∞–Ω—ã –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É. –û–¥–Ω–∞ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∞ –≤—ã—Ä–µ–∑–∞–Ω–∞ –∏ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ª—é–∫–æ–º.
–ö–æ –º–Ω–µ —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è, –∫–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º —è –ø–æ–Ω—è–ª, –ú—É—Å–ª–∏–º — –æ–Ω –∂–µ –ò–≤–∞–Ω. –ü—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –≤—Ç–æ—Ä—É—é —á–∞—Å—Ç—å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –∫ –≤–∏—Ç–æ–º—É –º–µ—Ç–∞–ª–ª–∏—á–µ—Å–∫–æ–º—É —Ç—Ä–æ—Å—É, –¥–ª–∏–Ω–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–∞, –∞ –µ–≥–æ — –∫ —Å–∫–æ–±–µ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–æ–π –∂–µ–ª–µ–∑–∫–∏ –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–º –æ—Ç –ª—é–∫–∞ —É–≥–ª—É –ø–æ–¥–ø–æ–ª–∞. –ù–∞ –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–π –ø–æ–ª –±—ã–ª –±—Ä–æ—à–µ–Ω –ø—É—á–æ–∫ —Å–æ–ª–æ–º—ã.
— –Ý–∞—Å–ø—Ä–∞–≤–∏—à—å —Å–æ–ª–æ–º—É, — –ª—è–∂–µ—à—å, — —Å —ç—Ç–∏–º–∏ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏ –ò–≤–∞–Ω –≤—ã–ª–µ–∑ –∏ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –∫—Ä—ã—à–∫—É.
–Ø –¥–æ–ª–≥–æ –∞–¥–∞–ø—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è –∫ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ. –ù–∞ –≤–µ—Ä–∞–Ω–¥–µ —Å–≤–µ—Ç –Ω–µ –≤—ã–∫–ª—é—á–∏–ª–∏ –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Å–º–æ–≥ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å—Å—è. –í —â–µ–ª–∏ –º–µ–∂–¥—É –ø–æ–ª–æ–º –∏ —Ç–æ–π –µ–≥–æ —á–∞—Å—Ç—å—é, —á—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –∫—Ä—ã—à–∫–æ–π, –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–ª —Å–≤–µ—Ç. –ë–ª–∞–≥–æ, —á—Ç–æ –∏ –ª–∞–º–ø–æ—á–∫–∞ –≤–µ—Ä–∞–Ω–¥—ã –±—ã–ª–∞ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –Ω–∞–¥ —Ç–µ–º –º–µ—Å—Ç–æ–º, –≥–¥–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–π «–¥–æ–º-—Å—Ö—Ä–æ–Ω». –ë—ã–ª–æ —É–∂–∞—Å–Ω–æ –¥—É—à–Ω–æ.
–ü—Ä–∏–≥–ª—è–¥–µ–≤—à–∏—Å—å, –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –∂–µ–ª–µ–∑—è–∫–∞ —É –º–µ–Ω—è –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–∞—Ö, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è –∏ –±—ã–ª –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É—Ç, — —ç—Ç–æ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—å –æ—Ç –º–∞—à–∏–Ω—ã. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –æ—Ç –ó–ò–õ–∞. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Å–≤–æ–±–æ–¥—É –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π —è –≤—Å–µ –∂–µ –∏–º–µ–ª. –ú–æ–≥ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ —Å–∏–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ –ø–æ–ª—É, –∞ –≤–æ—Ç –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å –Ω–∞ –∫–æ—Ä—Ç–æ—á–∫–∏ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º — —É–ø–∏—Ä–∞–ª—Å—è –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏ –ø–ª–µ—á–∞–º–∏ –≤ –¥–æ—Å–∫–∏ –ø–æ–ª–∞.
–ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª —Ä–∞—Å–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å –ø–æ–¥ —Å–æ–±–æ–π —Å–æ–ª–æ–º—É, –Ω–æ –µ–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å —Ç–∞–∫ –º–∞–ª–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞ –±–µ—Ç–æ–Ω. –£–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —É–¥—É—à—å–µ.
–ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Å–Ω—è—Ç—å –∂–∏–ª–µ—Ç–∫—É —Å –æ–¥–Ω–æ–π —Ä—É–∫–∏ –∏ –ø–ª–µ—á–∞. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –µ–µ –ø–æ–¥ –≥–æ–ª–æ–≤—É. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å. –ü–æ—Ç–æ–º –∑–∞—Å–Ω—É–ª –∏ —Å–ø–∞–ª –≤ –∫–∞–∫–æ–º-—Ç–æ –±—Ä–µ–¥—É. –ë—ã–ª–æ –µ—â–µ —Ç–µ–º–Ω–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –ª—é–∫ –ø—Ä–∏–æ—Ç–∫—Ä—ã–ª—Å—è, –∏ –º–Ω–µ –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –∑–∞—Å–∞–ª–µ–Ω–Ω—É—é –ø–æ–¥—É—à–∫—É –∏ –Ω–µ–∫–æ–µ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ –æ–¥–µ—è–ª–∞. –ü–æ–¥—É—à–∫—É —è –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª –ø–æ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—é, –∞ –æ–¥–µ—è–ª–æ, –æ–∫–∞–∑–∞–≤—à–µ–µ—Å—è —Å—Ç–∞—Ä—ã–º –ø–∞–ª—å—Ç–æ, –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª –ø–æ–¥ —Å–µ–±—è. –°—Ç–∞–ª–æ –ø–æ–º—è–≥—á–µ.
–£—Ç—Ä–æ–º –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª —Ö–æ–∑—è–∏–Ω. –û–ø—É—Å—Ç–∏–ª –º–Ω–µ –µ–¥—É –∏ –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª, —á—Ç–æ –º–∞–ª—É—é –Ω—É–∂–¥—É —è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –≤ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–∫–æ–≤—ã–µ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏ —Å –ø—Ä–æ–±–∫–∞–º–∏, –∞ —É–∂ –µ—Å–ª–∏ –±–æ–ª—å—à—É—é, —Ç–æ –ø–æ–¥–∞–¥—É—Ç –≤–µ–¥—Ä–æ.
–¢–∞–∫ –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –º–æ–π –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —ç—Ç–∞–ø –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤ –ø–ª–µ–Ω—É.
29 –∏—é–Ω—è 1999 –≥–æ–¥–∞, –≤—Ç–æ—Ä–Ω–∏–∫. –£—Ç—Ä–æ–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ –µ—Å—Ç—å —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –æ–±–æ—Ä–≤–∞–Ω—ã, —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –∑–∞—Å–∞–ª–µ–Ω—ã, –Ω–æ –º–µ—Å—Ç–∞–º–∏ –∏—Ö –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —á–∏—Ç–∞—Ç—å.
–ö –º–æ–µ–º—É –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é, —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –Ω–∞ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–µ –≤ –ø–æ–¥–ø–æ–ª –º–æ–∏ —á–∞—Å—ã. –í–∏–¥–∏–º–æ –ê–±–¥—É–ª–ª–∞, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è —á–∏—Å—Ç—ã–º –ø–µ—Ä–µ–¥ –ê–ª–ª–∞—Ö–æ–º, –≤–µ–ª–µ–ª –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–µ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å –º–Ω–µ –∏—Ö. –¢–∞–º –∂–µ, –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ, —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤–∑—è–ª—Å—è –≤–µ—Å—Ç–∏ –∫–∞–ª–µ–Ω–¥–∞—Ä—å. –°—Ç–∞–ª –ø–æ–¥—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –¥–Ω–∏ –∏, –∫–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏—Ç—Å—è, –æ–¥–∏–Ω –¥–µ–Ω—å –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª. –ü–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ —è –ø–æ—Å—á–∏—Ç–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞—Å –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ –Ω–µ 19 –∏—é–Ω—è, –∞ 20-–≥–æ.
–¢—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—Å–µ –ø–æ–¥—Å—á–∏—Ç–∞–≤, —è —Å–¥–µ–ª–∞–ª –æ—Ç–º–µ—Ç–∫–∏ –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–∞. –•–æ—Ç—è –±—ã –≤ —á–µ–º-—Ç–æ –Ω–∞–≤–µ–ª –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫.
–ù–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –¥–µ–Ω—å —Ö–æ–∑—è–∏–Ω —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª –º–Ω–µ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –µ–¥–æ–π –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫—É—é —Å–∫–∞–º–µ–µ—á–∫—É. –ù–∞ –Ω–µ–µ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ—à—å. –ì–æ–ª–æ–≤–∞, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ —É–ø–∏—Ä–∞–ª–∞—Å—å –≤ –ø–æ—Ç–æ–ª–æ–∫, –Ω–æ –∑–∞—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä—è–º–∏—Ç—å –Ω–æ–≥–∏. –õ–µ–≤–∞—è —Ä—É–∫–∞ –º–æ—è –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –±—ã–ª–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç–∞ –≤–ª–µ–≤–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ –∏ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤–æ–≥–æ —Ç—Ä–æ—Å–∞. –í—Å–µ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ –ø—Ä–∏–¥–≤–∏–Ω—É—Ç—å –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—å –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ –ª—é–∫—É –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ —É–≤–µ–Ω—á–∞–ª–∏—Å—å.
–°–æ —Å–∫–∞–º–µ–µ—á–∫–æ–π —Å—Ç–∞–ª–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–¥–æ–±–Ω–µ–µ —á–∏—Ç–∞—Ç—å, –≤–µ–¥—å —Å–≤–µ—Ç –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–ª –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ —É–∑–∫–∏–º–∏ –ø—É—á–∫–∞–º–∏. –Ø —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ —Ç–∞–±—É—Ä–µ—Ç–∫–µ –∏ –¥–≤–∏–≥–∞–ª –≥–∞–∑–µ—Ç—É –ø–æ–¥ –ª—É—á–æ–º —Å–≤–µ—Ç–∞. –í–æ—Ç –∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ –¥–æ—Å—Ç–æ–∏–Ω—Å—Ç–≤—É –æ—Ü–µ–Ω–∏–ª —Å–ø–æ—Å–æ–± –≤–µ—Ä—Å—Ç–∫–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç–Ω—ã—Ö –ø–æ–ª–æ—Å, —Ä–∞–∑–±–∏—Ç—ã—Ö –Ω–∞ —É–∑–∫–∏–µ –∫–æ–ª–æ–Ω–∫–∏ —Ç–µ–∫—Å—Ç–∞. –û—á–µ–Ω—å —É–¥–æ–±–Ω–æ —á–∏—Ç–∞—Ç—å –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–∞–º –≤ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö –ø–æ–¥–≤–∞–ª–∞—Ö. –í —á–∞—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏, —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ –ê–∏–§. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–æ–º–µ—Ä–æ–≤ —è –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–ª –æ—Ç –∫–æ—Ä–∫–∏ –¥–æ –∫–æ—Ä–∫–∏. –ù–æ –≤–æ—Ç –∫–∞–∫–æ–π –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω–æ–º–µ—Ä, —è –Ω–µ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª. –¢–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∑–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –∏ –¥–∞–∂–µ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç—ã—â—É —ç—Ç–æ—Ç –Ω–æ–º–µ—Ä. –ù–∞ –ø–∞–º—è—Ç—å. –ù–æ –ø–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –∑–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å –∫—É–¥–∞ –±–æ–ª–µ–µ —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω—ã–µ –≤–µ—â–∏.
–Ø —Ä–∞–∑–º—ã—à–ª—è–ª –æ —Å–≤–æ–µ–º –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏. –ü—Ä–æ—à–ª–æ —É–∂–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞—Å —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —á—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—é—Ç —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã, –ø–æ–Ω—è—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥. –£–µ–∑–∂–∞—è –∏–∑ –°–∞–º–∞—Ä—ã, —è –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∂–µ–Ω–µ —Å –¥–æ—á–µ—Ä—å—é 300 —Ä—É–±–ª–µ–π. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∏ —Ç—ã—Å—è—á–∏ —Å–µ–º—å—Å–æ—Ç –∏–∑ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —Ç—ã—Å—è—á, –≤—ã–¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö –º–Ω–µ —Ç–µ–ª–µ–∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–µ–π «–¢–µ—Ä—Ä–∞», –µ–¥–≤–∞ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –ü–æ–ª—Ç–æ—Ä—ã —Ç—ã—Å—è—á–∏, —á—Ç–æ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–æ –Ω–∞ –±–∏–ª–µ—Ç –¥–æ –°–∞–º–∞—Ä—ã, –∑–∞–±—Ä–∞–ª –ì–∞–±–¥—É–ª–ª–∞. –ê–±–¥—É–ª–ª–∞ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –ø–æ–π–¥—É—Ç –Ω–∞ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã –∏ –ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ.
–Ø —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ –ø–∞—É–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∂–∏–ª –∑–¥–µ—Å—å –µ—â–µ –¥–æ –º–µ–Ω—è. –¢–æ—Ç –ø–ª–µ–ª –ø–∞—É—Ç–∏–Ω—É, –∞ —è —Ä–∞—Å–ø—É—Ç—ã–≤–∞–ª –º—ã—Å–ª–∏. –ù–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ –≤ –Ω–µ—Ä–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö –±–µ—Ç–æ–Ω–∞ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∏ —Ñ–∏–≥—É—Ä—ã. –í –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö —è –≤–¥—Ä—É–≥ —É–∑–Ω–∞–ª —Å–≤–æ–µ –ª–∏—Ü–æ. –ü–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ —á–∏—Å–ª–æ 45. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ —è –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–Ω–∞–∫ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ 45 –ª–µ—Ç –æ—Ç–º–µ—á—É –Ω–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥–µ. –ê –ø–æ—Ç–æ–º —É–∂–∞—Å–Ω—É–ª—Å—è: –≤–¥—Ä—É–≥ —ç—Ç–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤ 45 –ª–µ—Ç –º–µ–Ω—è –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥—è—Ç? –î–æ 8 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è –±—ã–ª–æ –µ—â–µ –ø–æ–ª–≥–æ–¥–∞ –∏ —è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∑–∞–≥—Ä—É—Å—Ç–∏–ª. –ù–æ, –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –ø–æ–≥—Ä—è–∑–Ω—É–≤ –≤ –º–∏—Å—Ç–∏–∫–µ, —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –∏ —É–º–æ–º —Ç—Ä–æ–Ω—É—Ç—å—Å—è.
–°—Ç–∞–ª –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å —Ñ–∏–∑–∏–∫—É. –°—Ä–∞–∑—É –∑–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å —Ñ–æ—Ä–º—É–ª—ã –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –î–∞–≤–Ω–æ –Ω–µ –∑–∞–ø–∏—Å—ã–≤–∞–ª. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤—ã–≤–æ–¥–∏—Ç—å –∑–∞–Ω–æ–≤–æ, –±–ª–∞–≥–æ —Ä—É—á–∫–∞ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–∞.
–ù–∞ –ø–æ–ª—è—Ö –ê–∏–§ –ø—Ä–∏—Ä–∞–≤–Ω—è–ª –∫–æ–º–ø—Ç–æ–Ω–æ–≤—Å–∫—É—é –¥–ª–∏–Ω—É –≤–æ–ª–Ω—ã –∫ –≥—Ä–∞–≤–∏—Ç–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–º—É —Ä–∞–¥–∏—É—Å—É –∏ –æ–¥–Ω—É –∑–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–π –≤—ã–≤–µ–ª –≤—Å–µ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–∏—Å—Ç–∏–∫–∏ –∫—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—ä–µ–∫—Ç–∞ — —Ñ–æ—Ç–æ–Ω–∞ —Å–æ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤–∞–º–∏ —á–µ—Ä–Ω–æ–π –¥—ã—Ä—ã. –û–±—ä–µ–∫—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–µ—Ä—è–µ—Ç –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–º–µ—â–∞—Ç—å—Å—è –≤ –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–µ. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø—É—Å—Ç—è 5 –ª–µ—Ç —è —É–∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ –í–∏—Ç—å–∫–∞ –ö–æ—Ä—É—Ö–æ–≤, –º–æ–π –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—å –∏–∑ –ù–æ–≤–æ—Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–∞, –ø–æ–¥–æ–π–¥–µ—Ç –∫ —ç—Ç–æ–π –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–µ —Å —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–∏ –∏ –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–µ –¥–æ–∫–∞–∂–µ—Ç, —á—Ç–æ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –∑–∞—â–∏—Ç–∏—Ç –∏ –∫–∞–Ω–¥–∏–¥–∞—Ç—Å–∫—É—é, –∏ –¥–æ–∫—Ç–æ—Ä—Å–∫—É—é –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –¥–µ–ª–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª –∞—Å–ø–∏—Ä–∞–Ω—Ç—É—Ä—É, –≤ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–µ —Ñ–∏–ª–æ—Å–æ—Ñ–∏–∏ –∏ –ø—Ä–∞–≤–∞ –°–û –Ý–ê–ù –ù–æ–≤–æ—Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–∞, –∏ —É–∂–µ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥–∑–∞—â–∏—Ç–∞, –≤—Å—è –∂–∏–∑–Ω—å –º–æ—è –ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å. –ú–æ–∏ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏—è—Ç–∏—è –ø–æ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –ª–∞–∑–µ—Ä–æ–≤ —Ä—É—Ö–Ω—É–ª–∏. –ú–µ–Ω–µ–¥–∂–µ—Ä—ã –∑–Ω–∞–ª–∏ —É–∂–µ –≤—Å–µ —Ö–æ–¥—ã –∏ –≤—ã—Ö–æ–¥—ã, –Ω–æ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ –∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å —Ñ–∏–∑–∏–∫–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ 80. –≠—Ç–æ –ø–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, –∞ –≤ –°–∞–º–∞—Ä–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è –∏ –û–ª–µ–≥ –ë–æ—Ä–∏—Å–æ–≤.
–ù–∞ –Ω–æ–≤–µ–Ω—å–∫–æ–º, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –∫—É–ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–º «–ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Ü–µ» —è –µ–∑–¥–∏–ª –ø–æ –Ω–æ—á–∞–º –∑–∞ —Ç–∞–∫—Å–∏—Å—Ç–∞. –ê –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –¥–Ω–µ–º –ø–µ—Ä–µ–¥ «–ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Ü–µ–º» –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏ —Ä—É–∫–∏ –Ω–µ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª. –ù–æ—á—å—é, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–∞–¥–∏–ª–∏—Å—å –∏ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –∫—É–¥–∞ —Å–µ–ª–∏, –≤—Å–µ –∫–∞–∫ –æ–¥–∏–Ω —É–¥–∏–≤–ª—è–ª–∏—Å—å:
— –í–æ—Ç —ç—Ç–æ –¥–∞! «–ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂–µ—Ü»! –ü–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ –≤ «–ó–∞–ø–æ—Ä–æ–∂—Ü–µ»!
–ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ–¥–º–µ—á–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –∫—É–¥–∞ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É—Ç—å –Ω–æ–≥–∏. –ò –≤–æ–æ–±—â–µ, –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –¥–µ–Ω–µ–≥ –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –≠—Ç–∏–º —Å–µ–º—å—è –∏ –∂–∏–ª–∞ –ø–æ–ª–≥–æ–¥–∞, –ø–æ–∫–∞ «–ó–∞–ø–æ—Ä» –Ω–µ —É–≥–Ω–∞–ª–∏. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∏ –æ –∫–∞–∫–æ–π –∑–∞—â–∏—Ç–µ, –¥–∞ –µ—â–µ –≤ –ù–æ–≤–æ—Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–µ, –Ω–µ –º–æ–≥–ª–æ –±—ã—Ç—å –∏ —Ä–µ—á–∏.
–ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –õ–µ—à–∫–∞ –Ý–∞–∑–ª–∞—Ü–∫–∏–π –∏ –ø–æ–∑–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è –≤ «–°–∞–º–∞—Ä—Å–∫—É—é –ì–∞–∑–µ—Ç—É» –∑–∞–º–µ—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª–µ–º –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ä—è, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –õ–µ—à–∫–∏. –ò –≤–æ—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–µ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ 38 –ª–µ—Ç, —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏–∫—É. –ò –ø–æ–ø–∞–ª –ø–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á–µ—Ç—É. –ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –µ—â–µ –∏ –≤–ª–∏–ø.
–ù–∞ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π –¥–µ–Ω—å –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –∑–∞–≥—Ä–µ–º–µ–ª–∞ –≥—Ä–æ–∑–∞. –ë—ã–ª–æ —É–∂–∞—Å–Ω–æ –¥—É—à–Ω–æ. –Ø –∑–∞–¥—ã—Ö–∞–ª—Å—è. –ù–æ—á—å—é —Å—Ç–∞–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ–≤—ã–Ω–æ—Å–∏–º–æ. –î–∞–≤–∏–ª–æ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ, —è –¥—ã—à–∞–ª —á–∞—â–µ –∏ –Ω–µ –º–æ–≥ –Ω–∞–¥—ã—à–∞—Ç—å—Å—è. –¢–∏—Ö–æ–Ω—å–∫–æ –ø–æ–∑–≤–∞–ª —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞. –¢–æ—Ç –¥–æ–ª–≥–æ –≤–æ—Ä—á–∞–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—à–µ–ª, –Ω–æ, –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–≤ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –±–ª–æ–∫ –≤–µ–Ω—Ç–∏–ª—è—Ç–æ—Ä–æ–≤ –æ—Ç –≠–í–ú «–ú–∏–Ω—Å–∫-32». –Ø –∏—Ö —Å—Ä–∞–∑—É —É–∑–Ω–∞–ª. –ë–ª–æ–∫ –æ–Ω –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —É–≥–ª–æ–º —Å –∫—Ä—ã—à–∫–æ–π –∏ –≤–∫–ª—é—á–∏–ª. –Ø —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –ø—Ä–∏–ª–∏–≤ —Å–≤–µ–∂–µ–≥–æ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞. –°–µ–ª –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥ –≤–µ–Ω—Ç–∏–ª—è—Ç–æ—Ä, –Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å —Å–º–æ–≥ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–∞—Ç—å. –ü–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏–∑–º—É—á–∏–ª—Å—è. –°–∏–¥—è —Ç–∞–º, –∏ —É—Å–Ω—É–ª.
–£–∂–µ, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –≤–æ —Å–Ω–µ, –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–∑ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –∏ –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–ª—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã—Ç—å. –ê –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –æ–ø—è—Ç—å –æ—Ç –¥—É—Ö–æ—Ç—ã. –í–µ–Ω—Ç–∏–ª—è—Ç–æ—Ä —É–±—Ä–∞–ª–∏, –∫—Ä—ã—à–∫—É –∑–∞–∫—Ä—ã–ª–∏, –∏ –≤—Å–µ –Ω–∞—á–∞–ª–æ—Å—å —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞: —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ, –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç, –ø–µ—Ä–µ–±–∏—Ä–∞—é—Å—å –ø–æ–¥ –∫—Ä—ã—à–∫—É, –ø—ã—Ç–∞—é—Å—å –¥—ã—à–∞—Ç—å —á–µ—Ä–µ–∑ —â–µ–ª–∏.
–ö–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫, –≤–∏–¥–æ–∫ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å. –•–æ–∑—è–∏–Ω –æ–ø—è—Ç—å –ø–µ—Ä–µ–ø—É–≥–∞–ª—Å—è –∏ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –≤–µ–Ω—Ç–∏–ª—è—Ç–æ—Ä. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —è –µ–≥–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é: –∫—Ç–æ –±—ã –Ω–∏ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –≤ –¥–æ–º, –ø–µ—Ä–≤—ã–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –±—ã–ª–æ –±—ã: «–ß—Ç–æ —ç—Ç–æ —Ç—ã –ø–æ–¥–ø–æ–ª –ø—Ä–æ–≤–µ—Ç—Ä–∏–≤–∞–µ—à—å?» –ù–æ –º–æ–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –∏–∑ –¥–æ–≥–∞–¥–ª–∏–≤—ã—Ö. –ù–∞ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ –≤ –ø–æ–ª—É –æ–Ω –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ø—É—Å—Ç—É—é –∫–æ—Ä–æ–±–∫—É –∏–∑-–ø–æ–¥ —Ö–æ–ª–æ–¥–∏–ª—å–Ω–∏–∫–∞ —Å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º –Ω–∏–∑–æ–º. –ü–æ—Ç–æ–º —è –µ–≥–æ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Å–Ω—è—Ç—å —Å –∫–æ—Ä–æ–±–∫–∏ –∏ –≤–µ—Ä—Ö, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞ —Å–≤–µ—Ç –∏ –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ç—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –ø–æ–¥–≤–∞–ª. –í–µ–Ω—Ç–∏–ª—è—Ç–æ—Ä –ø–æ–¥ –∫–æ—Ä–æ–±–∫–æ–π –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª, –∏ —è –ø—Ä–∏—à–µ–ª –≤ —Å–µ–±—è –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å —è –º–æ–≥ –µ—â–µ –∏ –≤—ã–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—Ç—å –∏–∑ –ø–æ–¥–ø–æ–ª–∞, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –±—ã–ª –∑–∞—Å–ª–æ–Ω–µ–Ω –∫–æ—Ä–æ–±–∫–æ–π. –°–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª–∏ –≤ –Ω–µ–π –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –∫–∞–∫ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ. –í–µ—Ä–∞–Ω–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª—É–∫—Ä—É–≥–ª–æ–π. –î–æ –ø–æ—Ä–æ–≥–∞ –Ω–∞—Ä—É–∂–Ω–æ–π –¥–≤–µ—Ä–∏ –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–∞ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ. –°–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç –Ω–µ–µ —Å—Ç–æ—è–ª–æ –Ω–µ—á—Ç–æ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ–µ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª —Å —è—â–∏–∫–∞–º–∏ –ø–æ–¥ —Å—Ç–æ–ª–µ—à–Ω–∏—Ü–µ–π, –µ—â–µ –ª–µ–≤–µ–µ — –≤—Ö–æ–¥ –≤–æ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–µ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏—è –¥–æ–º–∞.
–ù–∞—Ä—É–∂–Ω–∞—è –¥–≤–µ—Ä—å –≤–µ–ª–∞ –≤ —Å–∞–¥. –î–æ –∑–∞–±–æ—Ä–∞ –∏ —É–ª–∏—Ü—ã –±—ã–ª–æ –Ω–µ –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –≠—Ç–æ —è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª –ø–æ –∑–≤—É–∫–∞–º –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–≤—à–∏—Ö —Ç–∞–º –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –º–∞—à–∏–Ω.
–ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∏ –≤—Å–µ—Ä—å–µ–∑ —Å—Ç–∞–ª –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –∫ –ø–æ–±–µ–≥—É. –•–æ—Ç—è, –Ω–µ –ø—Ä–∏–ø–æ–º–Ω—é –∏ –º–∏–Ω—É—Ç—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –±—ã –æ–± —ç—Ç–æ–º –∑–∞–±—ã–ª. –ù–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –µ—â–µ –º–æ–∏ –º—ã—Å–ª–∏ –Ω–µ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –æ—Ñ–æ—Ä–º–∏–ª–∏—Å—å, –∏ —è –µ—â–µ –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è –Ω–∞ —á—É–¥–µ—Å–Ω–æ–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ.
–ö–∞—Ä—Ç–æ–Ω–Ω–∞—è –∫–æ—Ä–æ–±–∫–∞ –∏–∑-–ø–æ–¥ —Ö–æ–ª–æ–¥–∏–ª—å–Ω–∏–∫–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∞ –º–µ–¥–Ω—ã–º–∏ —Å–∫—Ä–µ–ø–∫–∞–º–∏, –æ–¥–Ω–∞ –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∏ —É–ø–∞–ª–∞ –º–Ω–µ –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—É. –ü–æ–≤–µ—Ä—Ç–µ–ª –µ–µ –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –∏ —Ä–µ—à–∏–ª –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–∏—Ç—å. –°–¥–µ–ª–∞–ª –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –∫—Ä—é—á–æ–∫ –∏ —Å—Ç–∞–ª –∏–º –ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –ù–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–∏–Ω—É—Ç, –∫–∞–∫ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å. –Ø –ø–æ—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è, —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–¥–µ–ª –∏—Ö –∏ –æ–ø—è—Ç—å –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª. –û—Ç–∫—Ä—ã–ª –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ. –í —ç—Ç–æ–º –¥–µ–ª–µ –Ω–∞–¥–æ —É–ª–æ–≤–∏—Ç—å —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É. –°–µ–ª –∫ —Å–≤–µ—Ç—É –∏ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, —á—Ç–æ –∂–µ —Ç–∞–º –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å — –≤—Å–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ. –ù–∞–¥–æ —á—É—Ç—å –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å —Å–æ–±–∞—á–∫—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∑–∞—Ö–ª–æ–ø—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –∑—É–±—á–∏–∫–∞—Ö –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤. –Ø –Ω–∞—É—á–∏–ª—Å—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è—Ç—å –µ–µ –Ω–∞ –æ—â—É–ø—å –∏ –¥–æ–≤–µ–ª —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫—É —Å—ä–µ–º–∞ –¥–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–∞.
–ù–∞ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—è—Ö —Å–Ω—è–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ —Å –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–∏, —Å–Ω—è–ª —Å –Ω–µ–µ –∂–µ –∂–∏–ª–µ—Ç–∫—É. –ü–æ—Ç–æ–º –æ –Ω–µ–π, –∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å –Ω–∞ —Ä—É–∫–µ, —Å–æ–≤—Å–µ–º –∑–∞–±—ã–ª. –ú–µ–¥–Ω—É—é –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ—á–∫—É –Ω–∞–¥–µ–∂–Ω–æ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª –≤ –º–æ—Ç–æ—Ä–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –ø–æ–µ—Å—Ç—å, —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –¥–æ–ª–≥–æ –º–µ–Ω—è —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª –∏ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª –≤ —á–µ–º –¥–µ–ª–æ. –ò —è –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –æ–Ω —Ç–∞–∫ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç. –ò –≤–¥—Ä—É–≥ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Å–∏–Ω—è—è –∂–∏–ª–µ—Ç–∫–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±–æ–ª—Ç–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞ —Ä—É–∫–µ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –µ–µ —Ç–∞–º –Ω–µ—Ç. –°–µ—Ä–¥—Ü–µ —É—à–ª–æ –≤ –ø—è—Ç–∫–∏. –ê –≤–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç? –ù–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω —É—à–µ–ª, —è —Ç—É—Ç –∂–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ—á–∫—É, —Ä–∞—Å—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏, –∏ –Ω–∞–¥–µ–ª –Ω–∞ –ª–µ–≤—É—é —Ä—É–∫—É –∂–∏–ª–µ—Ç–∫—É. –ò –æ—á–µ–Ω—å –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª. –ù–µ —É—Å–ø–µ–ª —è –ø–æ–µ—Å—Ç—å, —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ —Å —Ñ–æ–Ω–∞—Ä–∏–∫–æ–º.
— –ù—É-–∫–∞, –Ω–∞—Ç—è–Ω–∏ —Ç—Ä–æ—Å, — –≤–µ–ª–µ–ª —Ö–æ–∑—è–∏–Ω.
–Ø –Ω–∞—Ç—è–Ω—É–ª. –ñ–∏–ª–µ—Ç–∫–∞ –±–æ–ª—Ç–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞ —Ç—Ä–æ—Å–µ. –õ—É—á —Ñ–æ–Ω–∞—Ä–∏–∫–∞ –≤—ã—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ, —Ç–∞–º, –≥–¥–µ —Ç—Ä–æ—Å –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª —Å–∫–≤–æ–∑—å –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ –≤ –∂–∏–ª–µ—Ç–∫–µ –¥–ª—è —Ä—É–∫–∏. –•–æ–∑—è–∏–Ω –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞. –¢–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∂–∞–ª –ø–ª–µ—á–∞–º–∏, –º–æ–ª, –≤—Å–µ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ. –•–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –Ω–µ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –º–µ–Ω—è –æ–¥–µ—Ç—å –∂–∏–ª–µ—Ç–∫—É. –≠—Ç–æ–≥–æ –±—ã —è —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ —Å–º–æ–≥. –Ø –ø—Ä–æ–¥–µ–ª —Ç—Ä–æ—Å –≤ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ –¥–ª—è –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–∏.
–ù–∞ –ø—è—Ç—ã–π –¥–µ–Ω—å –æ—Ç—Å–∏–¥–∫–∏ –≤ —ç—Ç–æ–º –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–æ–º –º–µ—à–∫–µ —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –∑–∞—Ä–∞—Å—Ç–∞—é –≥—Ä—è–∑—å—é. –Ý–µ—à–∏–ª –ø–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞—Ç—å —Ç—Ä—É—Å—ã. –ù–∞–ª–∏–ª –≤ –ø–æ–ª–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤—É—é –±–∞–Ω–æ—á–∫–µ –≤–æ–¥—ã –∏ –∑–∞–ø–∏—Ö–Ω—É–ª –∏—Ö —Ç—É–¥–∞. –ü–æ–∂–∞–º–∫–∞–ª –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—É—é –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—É: –≤–æ–¥–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ —Ç–∞–∫–æ–π –º—É—Ç–Ω–æ–π –∏ –≥—Ä—è–∑–Ω–æ–π, —á—Ç–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–ø—É—Å–∫–∞–ª–∞ —Å–≤–µ—Ç. –û—Ç–∂–∞–ª —Ç—Ä—É—Å—ã, —Å–º–µ–Ω–∏–ª –≤–æ–¥—É, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª –ø—Ä–æ—Ü–µ–¥—É—Ä—É — —Ç–æ—Ç –∂–µ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç. –¢—Ä–µ—Ç—å—è –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∞. –û—Ç —Ç—Ä—É—Å–æ–≤ –¥—É—Ä–Ω–æ –ø–∞—Ö–ª–æ –∏ –æ–Ω–∏ –Ω–µ —Å–æ—Ö–ª–∏. –ß–µ—Ä–µ–∑ —Å—É—Ç–∫–∏ —è –∏—Ö –æ–¥–µ–ª, —á—Ç–æ–±—ã –≤—ã—Å–æ—Ö–ª–∏ –Ω–∞ –º–Ω–µ.
2 –∏—é–ª—è 1999 –≥–æ–¥–∞, –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞. –° —É—Ç—Ä–∞ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –∫—É—Ä–∏—Ç—å, –Ω–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º —è –¥–∞–∂–µ –∏ –Ω–µ –∑–∞–∏–∫–∞–ª—Å—è. –ö–æ –º–Ω–µ –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª —Ö–æ–∑—è–∏–Ω. –°–¥–µ–ª–∞–≤ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–µ –ª–∏—Ü–æ, —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –°–∏–¥–∏ —Ç–∏—Ö–æ! –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –≤ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–º –¥–æ–º–µ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω—ã. –ù–µ –≤–∑–¥—É–º–∞–π —á–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å! –Ø –≤–µ–¥—å –Ω–µ –æ–¥–∏–Ω. –¢—É—Ç –µ—â–µ —Ç—Ä–æ–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤.
–Ø —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–∏–≤–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –•–æ–∑—è–∏–Ω–∞ —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—É—Ç–∫–∏. –ï–¥—É –º–Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏. –û–¥–∏–Ω, –∫–∞–∫ —è –¥–æ–≥–∞–¥–∞–ª—Å—è, —Å—ã–Ω —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞. –ï—â–µ –¥–≤–æ–∏—Ö –æ–Ω —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –º–µ–Ω—è.
–ú–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, –æ—Ç –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–π –¥—É—Ö–æ—Ç—ã —É –º–µ–Ω—è —Å—Ç–∞–ª–∞ –≤—Å–µ —á–∞—â–µ –±–æ–ª–µ—Ç—å –≥–æ–ª–æ–≤–∞. –Ý–∞–Ω—å—à–µ —Ç–∞–∫–æ–µ –±—ã–≤–∞–ª–æ, –Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç—Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª –∏ –º–∞–ª–æ —Å–ø–∞–ª. –¢–µ–ø–µ—Ä—å — –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ—Ç –¥—É—Ö–æ—Ç—ã.
–ú–Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –ª–µ–∫–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞. –í –¥–æ–º–µ –∏—Ö –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ò –≤–æ–æ–±—â–µ, —è –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω —Ö–æ—á–µ—Ç –ø–æ—Å–∫–æ—Ä–µ–µ –∏–∑–±–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç –º–µ–Ω—è. –ê –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –¥—É—à–∏ —è –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è, —á—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã —É–∂–µ –∏–¥—É—Ç –∏ –æ —á–µ–º-–Ω–∏–±—É–¥—å –æ–Ω–∏ —Ç–∞–º –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å.
–ó–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤—Ç–æ—Ä–∞—è –Ω–µ–¥–µ–ª—è –º–æ–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –ø–æ–¥–ø–æ–ª–µ. –ù–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ª–µ–∫–∞—Ä—Å—Ç–≤, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ –¥–∞–ª–∏. –ì–æ–ª–æ–≤–∞ –∫–∞–∫-—Ç–æ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ —Å–∞–º–∞ —Å–æ–±–æ–π.
4 –∏—é–ª—è 1999 –≥–æ–¥–∞, –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ. –î–Ω–µ–º –∫–æ –º–Ω–µ —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫ –ò–≤–∞–Ω. –°—Ç–∞–ª —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å –∑–∞–º–æ–∫, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç—å —Ç—Ä–æ—Å. –°—Ä–∞–∑—É –µ–º—É —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –û–Ω –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —É —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞ –∫—É–≤–∞–ª–¥—É –∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å—Ç—É —Å–±–∏–ª –∑–∞–º–æ–∫. –ü–æ—Ç–æ–º –≤–µ–∂–ª–∏–≤–æ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ –Ω–∏–º.
–ú—ã –≤–æ—à–ª–∏ –≤ –¥–≤–µ—Ä—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–µ–ª–∞ —Å –≤–µ—Ä–∞–Ω–¥—ã –≤–Ω—É—Ç—Ä—å –¥–æ–º–∞, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –∑–∞—à–ª–∏ –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É –Ω–∞–ª–µ–≤–æ. –ö–æ–º–Ω–∞—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏. –û–∫–Ω–æ –æ–¥–Ω–æ. –í–æ –¥–≤–æ—Ä. –£ –æ–∫–Ω–∞ — –±–∞—Ç–∞—Ä–µ—è –æ—Ç–æ–ø–ª–µ–Ω–∏—è –∏ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü.
–Ø —Å–µ–ª –Ω–∞ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü, –∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª —Ç—Ä–æ—Å –∫ —Ç—Ä—É–±–µ –±–∞—Ç–∞—Ä–µ–∏. –ü–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è, —É–¥–æ–±–Ω–æ –ª–∏ –º–Ω–µ. –°–ø–∞—Å–∏–±–æ, –æ—á–µ–Ω—å —É–¥–æ–±–Ω–æ.
–û–Ω –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –∫–Ω–∏–≥—É. –î–µ—Ç–µ–∫—Ç–∏–≤ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ 20 –≤–µ–∫–∞. –Ø —Å –∂–∞–¥–Ω–æ—Å—Ç—å—é –Ω–∞—á–∞–ª —á–∏—Ç–∞—Ç—å. –û—á–µ–Ω—å –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω—ã–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –æ—Ç–≤–ª–µ—á—å—Å—è –æ—Ç –≤—Å–µ–≥–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –æ–∫—Ä—É–∂–∞–µ—Ç. –ë–ª–∏–∂–µ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ò–≤–∞–Ω–æ–º –ø—Ä–∏—à–µ–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –í—Å—Ç–∞–ª–∏ –≤ –¥–≤–µ—Ä—è—Ö, –æ —á–µ–º-—Ç–æ —Ç–∏—Ö–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏. –ü–æ—Ç–æ–º —É—à–ª–∏. –ü–æ—Å–ª–µ –¥—É—à–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–¥–ø–æ–ª—å—è —è –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞–ª. –ò –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è—Ç—å –º–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ, –∞ —Å–∫–æ—Ä–æ –∑–∞–±–µ—Ä–µ—Ç –º–µ–Ω—è –Ω–∞ –æ–±–º–µ–Ω.
–ß–∏—Ç–∞–ª —è –¥–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ç–µ–º–Ω–æ, –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–º –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –¥–≤–æ–µ. –° –º–µ–Ω—è —Å–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏, –Ω–æ —Ç—É—Ç –∂–µ –Ω–∞–¥–µ–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ, —Ç–∞–∫ —á—Ç–æ —Ä—É–∫–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞—Å—Ç–µ–≥–Ω—É—Ç—ã–º–∏ –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π. –í—ã–≤–µ–ª–∏ –∏–∑ –¥–æ–º—É –∏ –≤—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª–∏ –≤ «–ù–∏–≤—É», –≤–µ–ª–µ–≤ –ª–µ—á—å –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ –≤–Ω–∏–∑ –ª–∏—Ü–æ–º. –ë—ã–ª–æ —É–∂–∞—Å–Ω–æ –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å —è –ø–æ –∑–∞–ø–∞—Ö—É –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –≤—ã–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –ø–æ–ª–µ.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –º–æ–∂–µ—à—å —Å–µ—Å—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ —Ç–æ—Ç, —á—Ç–æ —Å–∏–¥–µ–ª —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è. — –ö—É—Ä–∏—Ç—å —Ö–æ—á–µ—à—å?
–ù–∞–¥–æ –ª–∏ –±—ã–ª–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å? –ú–Ω–µ —Å—É–Ω—É–ª–∏ –≤ —Ä–æ—Ç —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É –∏ –ø–æ–¥–Ω–µ—Å–ª–∏ –∑–∞–∂–∏–≥–∞–ª–∫—É. –ê —è –ø–æ–¥—É–º–∞–ª: «–ï—Å–ª–∏ –±—ã –≤—ã –∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Ä—É–∫–∏ —É –º–µ–Ω—è –∏ —Ç–∞–∫ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã…» –û–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª –∑–∞—Å—Ç–µ–≥–Ω—É—Ç –Ω–µ –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ, –∏ –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤—ã—Ç–∞—â–∏—Ç—å –ª–µ–≤—É—é —Ä—É–∫—É.
–ü–æ–∫–∞ –µ—Ö–∞–ª–∏, —è –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ø—Ä—è–º–æ —É –º–µ–Ω—è –ø–µ—Ä–µ–¥ –º–æ—Ä–¥–æ–π –º–∞—è—á–∏—Ç –∫–æ–±—É—Ä–∞ —Å –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–æ–º –ü–ú. –¢–µ–ø–µ—Ä—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –µ—Ö–∞–ª–∏ –ø–æ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –≤ —á–∏—Å—Ç–æ–º –ø–æ–ª–µ, –¥–∞ –µ—â–µ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Ç–µ–º–Ω–æ, –ø–ª–∞–Ω —Å–æ–∑—Ä–µ–ª —Å–∞–º —Å–æ–±–æ–π.
–Ý—É–∫–∏ —è –¥–µ—Ä–∂–∞–ª, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π. –ú—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è. –ü–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –≤–∏—Å–µ–ª —É —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è. –£ –º–µ–Ω—è —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–∞ –ª–µ–≤–∞—è —Ä—É–∫–∞. –ü—Ä–∞–≤–æ–π –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è — –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –º–æ–≥—É—Ç –∑–∞ —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∑–∞—Ü–µ–ø–∏—Ç—å—Å—è –∏ –∑–∞–∑–≤–µ–Ω–µ—Ç—å. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –±–æ–ª—å—à–∏–º –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–∏ –æ—Ç–≤–æ–∂—É —Ä–µ–º–µ—à–æ–∫ –∑–∞—Å—Ç–µ–∂–∫–∏ –∏ –≤—ã—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞—é –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç. –î–∞–ª—å—à–µ —É–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–∏ —Å–Ω–∏–º–∞—é —Å –ø—Ä–µ–¥–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—è –∏ –ª–∞–¥–æ–Ω—å—é –ø–µ—Ä–µ–¥–µ—Ä–≥–∏–≤–∞—é –∑–∞—Ç–≤–æ—Ä. –ò —Å—Ä–∞–∑—É — –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª. –ñ–∞–ª–∫–æ. –û–Ω–∏ –º–Ω–µ –¥–∞–ª–∏ –∑–∞–∫—É—Ä–∏—Ç—å. –í–µ–∂–ª–∏–≤–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç…
–í—Ç–æ—Ä–æ–π –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª — –≤ —à–æ—Ñ–µ—Ä–∞. –¢–∏—Ö–æ–Ω–µ—á–∫–æ –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞–∑–∞–¥. –ú–∞—à–∏–Ω –Ω–µ—Ç, –µ–¥–µ–º –æ–¥–Ω–∏. –°–ª–µ–≤–∞ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –û–¥–∏–Ω–æ–∫–∏–π –æ–≥–æ–Ω–µ–∫ —É —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –∏–∑ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞. –ü–æ—Ö–æ–∂–µ –Ω–∞ –∫–æ—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é, –Ω–æ —Ç—Ä—É–±—ã –Ω–µ—Ç. –Ø –¥–æ–∫—É—Ä–∏–≤–∞—é —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É. –°–µ–π—á–∞—Å –ø–æ–ø—Ä–æ—à—É –µ–≥–æ –≤—ã–∫–∏–Ω—É—Ç—å –±—ã—á–æ–∫, –æ–Ω –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω–µ—Ç—Å—è, –∞ —è –≤ —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç…
–í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –º—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –í–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –≤—ã–∫–ª—é—á–∏–ª –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—å –∏ —Ñ–∞—Ä—ã. –°—Ç–∞–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç–∏—Ö–æ, –Ω–æ —Ç–∏—à–∏–Ω—É –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–∏ –∑–≤—É–∫–∏ —Å—Ç–µ–ø–∏: —à—É–º —Ç—Ä–∞–≤—ã, –ø–æ—Ä—ã–≤—ã –≤–µ—Ç—Ä–∞, —Ü–∏–∫–∞–¥—ã. –≠—Ç–æ –æ—Å–ª–æ–∂–Ω–∏–ª–æ –∑–∞–¥–∞—á—É. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ —è –µ—â–µ –∏ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è –≤ –µ–µ —Ü–µ–ª–µ—Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ—Å—Ç–∏. –Ý–∏—Å–∫ –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –≤–µ–ª–∏–∫, –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å –±–æ–ª—å—à–∞—è –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –æ–±–º–µ–Ω. –ò–ª–∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –∫ –æ–±–º–µ–Ω—É.
–í–¥–∞–ª–µ–∫–µ, –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞, –≤–∏–¥–Ω–∞ –∞–≤—Ç–æ–º–æ–±–∏–ª—å–Ω–∞—è —Ç—Ä–∞—Å—Å–∞. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–∞—à–µ–π –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏ —Å —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ –¥–≤–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã –∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –Ω–∞—à—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –í–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å «–ù–∏–≤—ã» –º–æ—Ä–≥–Ω—É–ª —Ñ–∞—Ä–∞–º–∏. –í –æ—Ç–≤–µ—Ç —Ç–æ–∂–µ –º–∏–≥–Ω—É–ª–∏ –¥–∞–ª—å–Ω–∏–º —Å–≤–µ—Ç–æ–º. –ü–æ—Ä–∞–≤–Ω—è–≤—à–∏—Å—å —Å «–ù–∏–≤–æ–π», –º–∞—à–∏–Ω—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –¥–≤–∞ –¥–∂–∏–ø–∞ «Grand Cherokee». –ò–∑ –º–∞—à–∏–Ω –≤—ã—à–ª–∏ –¥–≤–æ–µ. –û–¥–∏–Ω — —Ä–æ—Å—Ç–æ–º –≤—ã—à–µ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≥–æ, –≤—Ç–æ—Ä–æ–π — –ª—ã—Å–æ–≤–∞—Ç—ã–π –∫–æ—Ä–æ—Ç—ã—à–∫–∞. –û–Ω–∏ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ «–ù–∏–≤–µ» –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—Ç—å. –ü–æ—Ç–æ–º –≤–µ–ª–µ–ª–∏ –≤—ã–π—Ç–∏ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —è —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å—É–Ω—É–ª –∫–∏—Å—Ç—å –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–∏ –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –í—ã—à–µ–ª.
— –ù—É –≤–æ—Ç, –ú—É—Å–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–æ—Ç, —á—Ç–æ –ø–æ–≤—ã—à–µ, — –≤–∏–¥–∏—à—å, –∫–∞–∫–æ–π –æ—Ä–µ–ª!
–ú—É—Å–∞ –∑–∞–∏—Å–∫–∏–≤–∞—é—â–µ —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è, –Ω–æ –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏–ª–æ –±—ã —Ç–∞–∫ —Å–∫–æ—Ä–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –µ–≥–æ –∏–º—è.
–ú–Ω–µ –æ–ø—è—Ç—å –¥–∞–ª–∏ –∑–∞–∫—É—Ä–∏—Ç—å –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –∏—Å–∫–∞—Ç—å –∫–ª—é—á –æ—Ç –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤, —á—Ç–æ–±—ã –∏—Ö —Å–Ω—è—Ç—å. –ù–æ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –Ω–∞—à–ª–∏. –°–∞–º —è —Å–Ω—è—Ç—å –∏—Ö –Ω–µ –º–æ–≥, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –ú—É—Å—Å–∞ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Å–Ω—è—Ç—å –∏—Ö —Å –º–æ–µ–π –ª–µ–≤–æ–π –∫–∏—Å—Ç–∏ –ø—Ä—è–º–æ —Ç–∞–∫, –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç–µ–≥–∏–≤–∞—è, —è –Ω–µ —Å–∏–ª—å–Ω–æ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª—è–ª—Å—è. –ù–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –±–æ–ª—Ç–∞—Ç—å—Å—è.
–ë–æ–ª—å—à–µ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –º–µ–Ω—è —Ö–æ–¥–∏–ª —Ö—É–¥–æ–π –ø–∞—Ä–µ–Ω—å –ª–µ—Ç –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ø—è—Ç–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ä–∞—Å—Å–∞–∂–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –º–∞—à–∏–Ω–∞–º, –º–µ–Ω—è –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –¥–∂–∏–ø–∞. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ —Å–µ–ª –ú—É—Å–∞, —Å–ª–µ–≤–∞ — —Ö—É–¥–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª—Å—è –ê–ª–∏–∫–æ–º. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è —Å–µ–ª –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–π –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. –¢–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π, —á—Ç–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª –ú—É—Å—É –ø–æ –∏–º–µ–Ω–∏. –ü–æ—Ç–æ–º —è —É–∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ –µ–≥–æ –∫–ª–∏—á–∫–∞ — –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π. –°–∏–¥–µ–ª –æ–Ω –≤–∞–ª—å—è–∂–Ω–æ, –±—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤–æ –≤—Å–µ–π —ç—Ç–æ–π –±–∞–Ω–¥–µ –æ–Ω –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –æ–Ω –∫–æ –º–Ω–µ, — –∫—É—Ä–∏—Ç—å —Ö–æ—á–µ—à—å?
— –•–æ—á—É, –∞ –º–æ–∂–Ω–æ?
— –ú–æ–∂–Ω–æ, — –æ—Ö–æ—Ç–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –¢–µ–±–µ –≤—Å–µ –º–æ–∂–Ω–æ. –í–æ—Ç –µ–º—É, — –æ–Ω –∫–∏–≤–Ω—É–ª –∑–∞—Ç—ã–ª–∫–æ–º –Ω–∞ –ú—É—Å—É, — –µ–º—É –Ω–µ–ª—å–∑—è, — –æ–Ω –∫–∞—á–Ω—É–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ê–ª–∏–∫–∞, — —ç—Ç–æ–º—É —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ê —Ç–µ–±–µ –≤—Å–µ –º–æ–∂–Ω–æ.
— –ï—Å–ª–∏ –º–Ω–µ –≤—Å–µ –º–æ–∂–Ω–æ, — —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è, — —Ç–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è –ª–∏ –º–µ–Ω—è –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å?
— –í–æ—Ç –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è, — —Ç–∞–∫ –∂–µ —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å, –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π. — –í–∏–¥–∏—à—å –ª–∏, —Ç–æ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–µ–±—è –ø–æ—Ö–∏—Ç–∏–ª, –±—ã–ª –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –¥—Ä—É–≥–∏–º –ª—é–¥—è–º –±–æ–ª—å—à–∏–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏. –¢–µ –ª—é–¥–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –Ω–∞–º. –í–æ—Ç –Ω–∞–º –∏ –æ—Ç–¥–∞–ª–∏ —Ç–µ–±—è. –ó–∞ –¥–æ–ª–≥–∏.
— –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –º–µ–Ω—è –±—É–¥—É—Ç –ø—Ä–æ–¥–∞–≤–∞—Ç—å?
— –ö–∞–∫ –Ω–∏ –ø—Ä–∏—Å–∫–æ—Ä–±–Ω–æ, –Ω–æ —ç—Ç–æ —Ç–∞–∫. –ù–∞–º –∂–µ –Ω–∞–¥–æ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –¥–µ–Ω—å–≥–∏? –ü—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ?
–≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ — –±—ã—Ç—å —Ç–æ–≤–∞—Ä–æ–º. –ó–∞–ª–æ–≥–æ–≤–æ–π —Å—Ç–æ–∏–º–æ—Å—Ç—å—é.
— –ê –µ—Å–ª–∏ –º–µ–Ω—è –æ–±–º–µ–Ω—è—Ç—å?
— –û–±–º–µ–Ω—è—Ç—å? — –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π –Ω–∞ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É –∑–∞–¥—É–º–∞–ª—Å—è. — –≠—Ç–æ –±—ã–≤–∞–µ—Ç, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–æ –º—ã –æ–±–º–µ–Ω–æ–º –Ω–µ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ–º—Å—è. –í–æ–æ–±—â–µ, –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º –æ–±–º–µ–Ω–∞, —Ç–∞–∫ –∏–ª–∏ –∏–Ω–∞—á–µ, –ø–æ–¥—Ä–∞–∑—É–º–µ–≤–∞–µ—Ç –¥–µ–Ω—å–≥–∏.
— –ù–æ –≤—ã –∂–µ –æ—Ç–¥–∞–µ—Ç–µ —Å–µ–±–µ –æ—Ç—á–µ—Ç, —á—Ç–æ –º–æ—è —Å–µ–º—å—è –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ—Ç, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –¥–∞–∂–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤.
–í—Å–µ —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å.
— –¢—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã–ª–æ–∂–∏–ª –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∏–Ω –ë–µ—Ä–µ–∑–æ–≤—Å–∫–∏–π –∑–∞ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–æ–≤ –ù–¢–í? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –ú—É—Å–∞.
— –≠—Ç–æ –∑–∞ –≥—Ä—É–ø–ø—É –ú–∞—Å—é–∫? — —É—Ç–æ—á–Ω–∏–ª —è.
— –ú–∞—Å—é–∫-—Å—é—Å—é–∫ — –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, — —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è –ú—É—Å–∞. — –ë–∞–±–∞ —Ç–∞–º –±—ã–ª–∞ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–π.
— –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –ú–∞—Å—é–∫, — –≤—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —è.
— –¢–∞–∫ –≤–æ—Ç, –∑–∞ —ç—Ç—É –ú–∞—Å—é–∫—É –æ–Ω –æ—Ç–¥–∞–ª —Ç—Ä–∏ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤.
— –í–æ—Ç –ø–æ—á–µ–º—É, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ç–µ–±–µ –º–æ–∂–Ω–æ –≤—Å–µ. –ï—à—å, –ø–µ–π, –∫—É—Ä–∏, –¥—É—Ä–∏… — –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π –æ–ø—è—Ç—å —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª—Å—è.
— –ò –¥–æ–ª–≥–æ –º–Ω–µ —Ç–∞–∫… –¥—É—Ä–∏—Ç—å?
— –¢—ã –ø–æ–π–º–∏, — –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ, — –µ—Å—Ç—å –ª—é–¥–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —ç—Ç–∏–º –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞—é—Ç—Å—è. –ú–∞–π–æ—Ä–∞ –ò–∑–º–∞–π–ª–æ–≤–∞ –∑–Ω–∞–µ—à—å?
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é.
— –£ –Ω–µ–≥–æ –±–æ–ª—å—à–∏–µ –ø–æ–ª–Ω–æ–º–æ—á–∏—è. –°–µ–π—á–∞—Å –º—ã –µ–¥–µ–º –≤ –ê—Ö–º–µ—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ä–∞–π–æ–Ω –ì—Ä—É–∑–∏–∏. –ñ–∏–≤—É—Ç —Ç–∞–º, –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏, –æ–¥–Ω–∏ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã. –¢–∞–º —Ç—ã —É–∂–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ—à—å —Å–∏–¥–µ—Ç—å –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–∞—Ö. –ë—É–¥–µ—à—å –∂–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ –≤—Å–µ –Ω–µ —É—Ç—Ä—è—Å–µ—Ç—Å—è.
— –ê –¥–æ–ª–≥–æ –±—É–¥–µ—Ç —É—Ç—Ä—è—Å–∞—Ç—å—Å—è?
— –ù—É, –º–æ–∂–µ—Ç, –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ –¥–≤–µ, — –ø–æ–¥—É–º–∞–≤, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π, — –º–æ–∂–µ—Ç –º–µ—Å—è—Ü.
–ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å–æ–º–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ö–º—ã–∫–Ω—É–ª.
— –Ø –æ–±—ä—è—Å–Ω—é, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π, — –µ—Å–ª–∏ —Ç–µ–±—è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—É—é—Ç –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º—ã –æ–±–º–µ–Ω–∞…
— –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—É—é—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –í –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –µ—Å—Ç—å –ª—é–¥–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–∏–¥—è—Ç –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ…
— –ê–≥–∞, –∏–Ω–≥—É—à–∏, — –≤—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ú—É—Å–∞.
— –î–∞, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π. — –ò–Ω–≥—É—à–∏ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç—ã–µ –¥–æ–±—ã—Ç—á–∏–∫–∏. –ü—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—Å–µ –∑–æ–ª–æ—Ç–æ –°–∏–±–∏—Ä–∏ — –≤ –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏. –ó–∞ —Ç–æ –∏ —Å–∏–¥—è—Ç.
— –ê –ø—Ä–∏ —á–µ–º –∑–¥–µ—Å—å –∏–Ω–≥—É—à–∏? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ê –ø—Ä–∏—Ç–æ–º, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ —Å–µ–º—å—è —Ö–æ—á–µ—Ç –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –¥–æ–º–æ–π —Å–≤–æ–µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞, –æ—Ç—Ü–∞, –º—É–∂–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–∏–¥–∏—Ç –≤ –í–æ—Ä–∫—É—Ç–µ, — –ø—É—Å—Ç—å –ø–æ–¥–µ–ª–∏—Ç—Å—è –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π —á–∞—Å—Ç—å—é –∑–æ–ª–æ—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç, –∫—É–¥–∞ –¥–µ–≤–∞—Ç—å.
— –¢–æ –µ—Å—Ç—å, –æ–Ω–∏ –ø–æ–∫—É–ø–∞—é—Ç —É –≤–∞—Å –º–µ–Ω—è…
— –ü—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ, — –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π, — –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–±–º–µ–Ω–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è —Å –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∑—ç–∫–∞.
— –ù–æ –≤–µ–¥—å –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏—è — —Ç–æ–∂–µ –Ý–æ—Å—Å–∏—è.
–í–æ—Ç —Ç—É—Ç –∑–∞—Ä–∂–∞–ª–∏ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –≤—Å–µ.
— –û—Ç—á–∞—Å—Ç–∏ —Ç—ã –ø—Ä–∞–≤, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π, — –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É —Ç–∞–∫–∏–µ –æ–±–º–µ–Ω—ã –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥—è—Ç —Å–ª–æ–∂–Ω–æ. –õ—É—á—à–µ, –µ—Å–ª–∏ —Ç—ã –ø–æ–∫–∞ –ø–æ—Å–∏–¥–∏—à—å –¥–∞–ª–µ–∫–æ…
— –í—ã—Å–æ–∫–æ, — –≤—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ú—É—Å–∞.
— –ò –≤—ã—Å–æ–∫–æ, — –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π.
–Ø –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è –Ω–µ –∏–º–µ–ª, –∫—É–¥–∞ –º—ã –µ—Ö–∞–ª–∏. –£–∂–µ –¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å –≥–æ—Ä–Ω—ã–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –ó–∞ –±–æ–ª–µ–µ —á–µ–º –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –º—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç–∞. –£–∂–µ –ø–æ –≥—Ä–æ—Ö–æ—Ç—É –∫–∞–º–Ω–µ–π –ø–æ–¥ –∫–æ–ª–µ—Å–∞–º–∏ –∏ —à—É–º—É –≤–æ–¥—ã –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –º—ã –µ—Ö–∞–ª–∏ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –ü–æ—Ç–æ–º –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø–æ—à–ª–∞ —É—Å—Ç–æ–π—á–∏–≤–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –ê—Ö–º–µ—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ä–∞–π–æ–Ω –ì—Ä—É–∑–∏–∏, –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ —Ç–∞–º –∂–∏–≤—É—Ç –æ–¥–Ω–∏ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –ø–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞, –∞ —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç –µ—â–µ –Ω–∞–¥–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∏—Ç—å. –ù–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–æ–≤ –Ω–µ —Ç–∞–∫ –º–Ω–æ–≥–æ –∏ –≤—Å–µ –æ–Ω–∏ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è!
–û–±–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –≥–æ—Ä–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ — –∂—É—Ç–∫–∏–π —á–µ—Ä–Ω—ã–π –æ–±—Ä—ã–≤. –°–ª–µ–≤–∞ — –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω–∞—è –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–∞—è —Å—Ç–µ–Ω–∞. –í –ª—É—á–∞—Ö —Ñ–∞—Ä –±–ª–µ—Å—Ç–µ–ª –≤–æ–¥–æ–ø–∞–¥. –í—Å–µ –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω. –í–µ–ª–µ–ª–∏ –≤—ã–π—Ç–∏ –∏ –º–Ω–µ. –Ø —É–∂–µ –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ –æ–±—Ä—ã–≤, –∏ –ø—Ä–∏–∫–∏–¥—ã–≤–∞–ª, –æ—Å—Ç–∞–Ω—É—Å—å –ª–∏ –∂–∏–≤, –µ—Å–ª–∏ —Ç—É–¥–∞ –ø—Ä—ã–≥–Ω—É. –ü–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Ç–µ–º–Ω–æ–π, –∫–∞–∫ –∏ —Å–∞–º–∞ –±–µ–∑–¥–Ω–∞ –æ–±—Ä—ã–≤–∞.
— –≠—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø–ª–∞—á—É—â–µ–π –≥–æ—Ä–æ–π, — –æ–±—Ä–∞—â–∞—è—Å—å –∫–æ –º–Ω–µ, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π.
–í–æ–¥–æ–ø–∞–¥ –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤ –¥–∞–∂–µ –Ω–æ—á—å—é. –Ø –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–µ–±–µ, –∫–∞–∫ —Ç—É—Ç –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ –¥–Ω–µ–º. –ú–Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏ –≤—ã–º—ã—Ç—å —Ä—É–∫–∏. –ù–∞ –∫–∞–ø–æ—Ç–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –¥–∂–∏–ø–æ–≤ —Ä–∞–∑–ª–æ–∂–∏–ª–∏ —Å—Ç–æ–ª. –ü—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∏ –∫ —Å—Ç–æ–ª—É, –∫–∞–∫ —Ä–∞–≤–Ω–æ–≥–æ. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ —É –º–µ–Ω—è –±–æ–ª—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –ê –≤–æ –≤—Å–µ–º –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞: –µ—à—å, –ø–µ–π… –í–æ–¥–∫–∞ «–ë–∞–ª—Ç–∏–∫–∞» –≤ –±—É—Ç—ã–ª–æ—á–∫–∞—Ö –ø–æ 0,25. –ö—Ä–æ—Ö–æ—Ç–Ω—ã–µ —Ä—é–º–æ—á–∫–∏ –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –µ–µ —Ä–∞—Å–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å. –°–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –∑–∞–∫—É—Ä–∏—Ç—å. –ü–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞. –í –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ —Ç–æ—Å—Ç–æ–≤ –≤—ã–ø–∏–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –∑–∞ –¥—Ä—É–∂–±—É –Ω–∞—Ä–æ–¥–æ–≤.
–ï—â–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —á–∞—Å–∞ –º—ã –∑–∞–µ—Ö–∞–ª–∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º —É–∂ –≤ –¥–µ–±—Ä–∏. –ú–∞—à–∏–Ω–∞, —à–µ–¥—à–∞—è –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞–º–∏, –ø—Ä–æ–∫–æ–ª–æ–ª–∞ –∫–æ–ª–µ—Å–æ. –ü–æ–∫–∞ –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –º–µ–Ω—è–ª –µ–≥–æ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞—Å–∫—É, —è –∫—É—Ä–∏–ª –∏ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª, —á—Ç–æ —Å –Ω–∞–º–∏ –µ–¥—É—Ç –¥–≤–µ –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã. –ù–æ –æ–Ω–∏ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –æ—Ç –º—É–∂—á–∏–Ω, —Ö–æ—Ç—è –ø–æ –ø–æ–≤–∞–¥–∫–∞–º –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∫–∏.
–ú—ã —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –≤ –æ–≤—Ä–∞–≥–µ. –í–¥—Ä—É–≥, –Ω–∞ –∫—Ä–∞—é –æ–≤—Ä–∞–≥–∞ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ú—É—Å–∞. –ü–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏ –æ–Ω –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–ª, –∫–∞–∫ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞—Ç—å —Ç—É–¥–∞ –∫ –Ω–µ–º—É –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö –≤ –æ–±—ä–µ–∑–¥ –∫—Ä—É—Ç–æ–≥–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞. –î–∂–∏–ø—ã –ø–æ—à–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –Ø –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –º—ã –ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Ä–Ω–µ–º—Å—è. –ï—Ö–∞–ª–∏ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ù–æ –≤—ã–µ—Ö–∞–ª–∏, –∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–∞—Ä—É –º–∏–Ω—É—Ç –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –í—Å–µ –ø–æ—à–ª–∏ –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É. –ú—ã —Å –ê–ª–∏–∫–æ–º –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å. –°–Ω–∏–∑—É –ø—Ä–∏—à–µ–ª –ú—É—Å–∞ —Å –∫–ª—é—á–∞–º–∏ –∏ –ø–æ–≤–µ–ª –Ω–∞—Å –∫ –¥–≤–µ—Ä–∏ —Å–∞—Ä–∞—è. –û–Ω –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω –ø—Ä—è–º–æ –≤ —Å–∫–∞–ª–µ. –í–æ—à–ª–∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä—å. –¢–∞–º —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, –∫ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º–µ–Ω—è –∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –ú—É—Å–∞ —É—à–µ–ª –∫ –≥–æ—Å—Ç—è–º. –ö–∞–∫ –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, –º—ã –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –¥–æ–º–æ–π –∫ –ú—É—Å–µ.
5¬Ý–∏—é–ª—è 1999 –≥–æ–¥–∞,¬Ý–ø–æ–Ω–µ–¥–µ–ª—å–Ω–∏–∫.¬Ý–Ø –ø—Ä–∏–ª–µ–≥ –Ω–∞ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –î–æ —É—Ç—Ä–∞ —Å–æ –º–Ω–æ—é —Å–∏–¥–µ–ª –ê–ª–∏–∫.
— –Ø —Å–∫–æ—Ä–æ —É–µ–¥—É –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞—é—Å—å —É–∑–Ω–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –∏–¥—É—Ç –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –°–∫–æ—Ä–æ –Ω–∞—á–Ω–µ—Ç—Å—è –≤–æ–π–Ω–∞. –ö–∞–∫ –Ω–∞–º —Å—Ç–∞–ª–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –æ–Ω–∞ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ 25 –∏—é–ª—è.
— –í–æ–π–Ω–∞ –≤—Å–µ –æ—Å–ª–æ–∂–Ω–∏—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –ê –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —É –≤–∞—Å —Ç–∞–∫–∏–µ —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è?
— –°–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è —Ç–æ—á–Ω—ã–µ, –Ω–æ –¥–æ 25-–≥–æ —è –≤–µ—Ä–Ω—É—Å—å.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è, –ê–ª–∏–∫–∞ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –º–Ω–µ –∫–Ω–∏–≥—É.
— –°–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ —Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –ø–æ—Å–µ–ª–æ–∫ –∑–∞ –∫–Ω–∏–≥–æ–π. –ß–∏—Ç–∞–π, –µ—Å–ª–∏ —Ö–æ—á–µ—à—å. –ü—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–µ—à—å, –µ—â–µ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å—É. –Ø —Ç—É–¥–∞ –∫–∞–∂–¥—É—é –Ω–µ–¥–µ–ª—é —Ö–æ–∂—É.
— –ú—É—Å–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –µ–º—É, — —ç—Ç–∞ –∫–Ω–∏–≥–∞ –º–Ω–µ –Ω–∞ –æ–¥–∏–Ω –¥–µ–Ω—å.
–û–Ω —Å–¥–µ–ª–∞–ª –∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ –≥–ª–∞–∑–∞.
–ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–∂–∞—Ç—å. –ß—Ç–æ–±—ã —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –∫—É–¥–∞ –º–µ–Ω—è –≤–µ–¥—É—Ç, –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—É –Ω–∞–¥–µ–ª–∏ —á–µ—Ä–Ω—É—é —à–∞–ø–æ—á–∫—É. –ù–æ —Å–∫–≤–æ–∑—å –µ–µ —Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä—É —è –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ –≤–∏–¥–µ–ª, –∫—É–¥–∞ –º—ã –∏–¥–µ–º, –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–µ–ª–∞–ª –≤–∏–¥, —á—Ç–æ –Ω–µ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω –≤ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è—Ö –∏ —Å–ø–æ—Ç—ã–∫–∞—é—Å—å.
–°–∫–≤–æ–∑—å —à–∞–ø–æ—á–∫—É, –∫–∞–∫ —Å–∫–≤–æ–∑—å –¥–∏—Ñ—Ä–∞–∫—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–µ –æ—á–∫–∏, —è –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –æ—Ç –º–æ–µ–π —Ö–∏–∂–∏–Ω—ã –º—ã —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤—É—é –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∏ –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä—É—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥—É. –°–ø—Ä–∞–≤–∞, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –¥–æ–º. –û–±—ã—á–Ω—ã–π –æ–¥–Ω–æ—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–π —Å–µ–ª—å—Å–∫–∏–π –¥–æ–º. –î—Ä—É–≥–∏—Ö —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–π –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –¥–∞ –∏ –Ω–µ –º–æ–≥ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –≤–∏–¥–Ω–µ–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫—Ä—ã—à–∏ —Å–∞–∫–ª–∏ –∏ —Å–∞—Ä–∞—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –±—ã–ª–∏ –≤—ã—Å–æ—Ç–æ—é –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—Ä–æ–≤–µ–Ω—å —Å –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º. –ò —Ç–æ, –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –∫—Ä—ã—à–∏, —è –¥–æ–≥–∞–¥–∞–ª—Å—è –ø–æ–∑–∂–µ. –ü–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è–º —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –±—ã–ª –æ–±—Ä—ã–≤. –ê –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –µ–≥–æ –∫—Ä–∞—é –º—ã –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–±–æ—à–ª–∏ —ç—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏—è —Å–ª–µ–≤–∞.
–ó–∞—Å–∫—Ä–∏–ø–µ–ª–∞ –¥–≤–µ—Ä—å. –Ø –ø–æ–¥–Ω—è–ª –≥–ª–∞–∑–∞ –∏ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤–¥–æ–ª—å —É—â–µ–ª—å—è. –≠—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è —Å–ø—É—Ç–∞—Ç—å –Ω–∏ —Å –∫–∞–∫–∏–º –¥—Ä—É–≥–∏–º. –ì–ª–∞–≤–Ω—ã–π –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –û–Ω –±—ã–ª —Å–ª–µ–≤–∞, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å —á—É—Ç—å —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–µ–µ –Ω–µ–≥–æ. –≠—Ç–æ –≤—Å–µ –∂–µ –±—ã–ª–∞ –ß–µ—á–Ω—è. –í–¥–∞–ª–µ–∫–µ –±–ª–µ—Å—Ç–µ–ª —Å–Ω–µ–∂–Ω–æ–π –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–æ–π –ö–∞–∑–±–µ–∫. –î–æ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Å–µ–º—å–¥–µ—Å—è—Ç. –Ø –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –ö–∞–∑–±–µ–∫–∞, —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –∏ –ú–∞–≥–∞—Å, –∏ –¥–≤–æ—Ä –ú–∞–≥–æ–º–µ–¥–∞ –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω–∏. –°–µ–º—å–¥–µ—Å—è—Ç –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í—Å–µ–≥–æ —Å–µ–º—å–¥–µ—Å—è—Ç –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤! –°—É—Ç–∫–∏ –ø–µ—à–∫–æ–º! –ö–∞–∫ –ø–æ–¥–≤–µ–¥—É—Ç –æ–Ω–∏ –º–µ–Ω—è, —ç—Ç–∏ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–Ω—ã–µ —Ä–∞—Å—Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è.
–ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏–≥–Ω—É–ª –º–Ω–µ –≥–æ–ª–æ–≤—É –∏ –ø—Ä–æ–≤–µ–ª –≤ —Å–∞—Ä–∞–π. –û —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Å–∞—Ä–∞–π, —è –¥–æ–≥–∞–¥–∞–ª—Å—è –ø–æ –∑–∞–ø–∞—Ö—É. –ü–æ—Ç–æ–º –±—ã–ª–∞ –µ—â–µ –æ–¥–Ω–∞ –¥–≤–µ—Ä—å, —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π, –±—å—é—â–∏–π –≤ –Ω–æ—Å –∑–∞–ø–∞—Ö –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞ –∏ –≤—Å–µ… –ü—Ä–∏—à–ª–∏. –®–∞–ø–æ—á–∫—É —Å –≥–ª–∞–∑ —Å–Ω—è–ª–∏. –ú—ã –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–µ. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –¥–≤—É—Ö —á–µ—Ä–Ω–æ-–∫–æ—Ä–∏—á–Ω–µ–≤—ã—Ö –Ω–∞—Å–µ–¥–æ–∫ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª —Å—Ä–∞–∑—É.
–≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–æ —Å—Ç–µ–Ω–∞–º–∏ –∏–∑ –Ω–µ–æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã—Ö –∫–∞–º–Ω–µ–π, —Å–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ü–µ–º–µ–Ω—Ç–æ–º. –ü–æ–ª –∑–µ–º–ª—è–Ω–æ–π, —Å–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º —É–∫–ª–æ–Ω–æ–º. –°—Ç–µ–Ω—ã –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ. –ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ –º–æ–π —Ä–æ—Å—Ç. –°–≤–µ—Ä—Ö—É — –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–∞—è –¥–æ—â–∞—Ç–∞—è –∫—Ä—ã—à–∞. –° –∑–∞–ø–∞–¥–∞, –Ω–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ –≥—Ä—É–¥–∏, –æ–∫–æ—à–∫–æ, –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –Ω–∞ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –û—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–µ, –±–µ–∑ –∫–∞–∫–∏—Ö-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–æ–≤ –æ–±–ª–∏—Ü–æ–≤–∫–∏. –í –æ–∫–æ—à–∫–æ –∑–∞–ª–µ—Ç–µ–ª–∞ –∫—É—Ä–∏—Ü–∞, –Ω–æ –ú—É—Å–∞ –µ–µ —à—É–≥–∞–Ω—É–ª.
–ü—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫ –∫ –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ. –î–µ–ª–æ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω–æ–µ. –î–∞–ª–µ–µ — —Ç—Ä–æ—Å, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∫—Ä–µ–ø–∏–ª—Å—è –ø–µ—Ç–ª–µ–π –∫ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏ –≤ —Å–µ–≤–µ—Ä–æ-–≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–æ–º —É–≥–ª—É –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞. –í —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ –ª–µ–∂–∞–ª–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–∞—è —à–ø–∞–ª–∞ —Å —É–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –Ω–∞ –Ω–µ–π —Å–ª–µ—Å–∞—Ä–Ω—ã–º–∏ —Ç–∏—Å–∫–∞–º–∏. –ü–æ–¥ –æ–∫–Ω–æ–º –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç—É –æ–∫–æ–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–∞ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–∞—è –∑–∞–≤–∞–ª–∏–Ω–∫–∞, –≤–µ—Ä–Ω–µ–µ, –µ–µ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –º–µ—Å—Ç–∞ –¥–ª—è –Ω–µ—Å—É—à–µ–∫.
–ê–ª–∏ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å —Ü–µ–ø—å. –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –µ–µ –∫ —Ç–∏—Å–∫–∞–º. –í—Ç–æ—Ä–æ–π –∫–æ–Ω–µ—Ü, –∫ –º–æ–µ–º—É —É–∂–∞—Å—É, —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–∞–±–ª–∏–≤–∞—Ç—å –º–Ω–µ –∫ –ª–µ–≤–æ–π –Ω–æ–≥–µ –ø–æ–≤—ã—à–µ —Å—Ç—É–ø–Ω–∏. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —è –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –µ—â–µ –∏ –≤ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª–∞—Ö.
–ê–ª–∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–æ–æ–±—â–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –ø—Ä–∏–µ–¥–µ—Ç —Å —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–º–∏ –≤–µ—Å—Ç—è–º–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —É—à–µ–ª, —è —Å—Ç–∞–ª –∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—å—Å—è —Å –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –º–Ω–µ –∫—É—Å–æ—á–∫–æ–º –º–∏—Ä–∞.
–°–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª–∏ –≤ –¥–æ—Å–∫–∞—Ö —Å—Ç–µ–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –æ—Ç–≥–æ—Ä–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∞ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫ –æ—Ç —Å–∞—Ä–∞—è, –¥–∞ –µ—â–µ —Å–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª–∏ –≤ –¥–≤–µ—Ä–∏ —Å–∞–º–æ–≥–æ —Å–∞—Ä–∞—è, —è —Å–º–æ–≥ —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å, —á—Ç–æ –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —É—â–µ–ª—å—è –≥–æ—Ä–∞ —Å –∫—Ä—É—Ç—ã–º –∫–∞–º–µ–Ω–∏—Å—Ç—ã–º —Å–∫–ª–æ–Ω–æ–º. –î–æ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏. –ò–∑ –æ–∫–æ—à–∫–∞ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –¥—Ä—É–≥—É—é –≥–æ—Ä—É, –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏. –≠—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ —Å—É–¥–∏—Ç—å –ø–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞–º —Ç—Ä–µ—Ö –¥–æ–º–∏—à–µ–∫, –ø—Ä–∏–∂–∞–≤—à–∏—Ö—Å—è –∫ –≥–æ—Ä–µ –≤ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π –µ–µ —á–∞—Å—Ç–∏.
–ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª–∏ —Ç—Ä–æ—Å –∏ —Ü–µ–ø—å, –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –æ–∫–æ—à–∫—É. –Ø –º–æ–≥ –¥–æ—Ç—è–Ω—É—Ç—å—Å—è —Ä—É–∫–æ–π –¥–æ –ø–æ–¥–æ–∫–æ–Ω–Ω–∏–∫–∞. –í —Ç–∞–∫–æ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –¥–æ—Ä–æ–≥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç–µ—Ä—è–ª–∞—Å—å –≤ –≥–æ—Ä–Ω—ã—Ö —Å–∫–ª–∞–¥–∫–∞—Ö –ø–æ–∫–∞—Ç–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞ –∫–æ–Ω—á–∞–ª–∞—Å—å –æ–±—Ä—ã–≤–æ–º. –°–ª–µ–≤–∞, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Ç—Ä–µ—Ö—Å—Ç–∞—Ö, –∫—Ä—É—Ç–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö —É—Ö–æ–¥–∏–ª —Å–∫–ª–æ–Ω –≥–æ—Ä—ã, —Ä–∞–∑—Ä–µ–∑–∞–Ω–Ω—ã–π –æ–≤—Ä–∞–≥–æ–º. –°–∫–æ—Ä–µ–µ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª –Ω–µ –æ–≤—Ä–∞–≥, –∞ –ª–æ—â–∏–Ω–∞.
–¢–æ, —á—Ç–æ –º–Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –ø–æ–µ—Å—Ç—å, —Å –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å –µ–¥–æ–π. –≠—Ç–∞–∫–∞—è –ø—ã–ª—å–Ω–æ-–∫–æ—Ä–∏—á–Ω–µ–≤–∞—è –ø–æ—Ö–ª–µ–±–∫–∞ —Å —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–º –∑–∞–ø–∞—Ö–æ–º. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —ç—Ç–æ –±—ã–ª —Ñ–∞—Å–æ–ª–µ–≤—ã–π —Å—É–ø —Å —Å—É—à–µ–Ω–æ–π –±–∞—Ä–∞–Ω–∏–Ω–æ–π. –ö–∞–∫ —Ä–∞–∑ –±–∞—Ä–∞–Ω–∏–Ω–∞ –∏ –¥–∞–≤–∞–ª–∞ —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –ø—Ä–∏–≤–∫—É—Å.
–ü–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞ –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –ø–æ—á–∏—Ç–∞—Ç—å. –í –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–µ —á–∏—Ç–∞–ª –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ä–æ–º–∞–Ω–æ–≤, –∞ —Ç—É—Ç, —Å –≥–æ–ª–æ–¥—É—Ö–∏ –ø–æ —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∏ —á—Ç–æ–±—ã –æ—Ç–≤–ª–µ—á—å—Å—è, –∑–∞–≥–ª–∞—Ç—ã–≤–∞–ª —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É –∑–∞ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ–π. –ü–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª —á–∏—Ç–∞—Ç—å –æ—Ç—Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —É—Å—Ç–∞–ª–∏ –≥–ª–∞–∑–∞. –ù–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∏, —Ö–æ—Ç—è –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ–≥–æ –æ–∫–æ–ª–æ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö —á–∞—Å–æ–≤ –¥–Ω—è. –ò –≤–¥—Ä—É–≥ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–∞—é—â–µ–µ –∑—Ä–µ–ª–∏—â–µ. –ó–∞ –æ–∫–æ—à–∫–æ–º — –≥—É—Å—Ç–æ–π —Ç—É–º–∞–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ß–∞—Å—Ç—å –∫–ª—É–±–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ç—É–º–∞–Ω–∞ –∑–∞–ø–æ–ª–∑–ª–∞ –≤ –æ–∫–æ—à–∫–æ. –¢—É–º–∞–Ω –Ω–µ —Ä–∞—Å—Ç–≤–æ—Ä—è–ª—Å—è, –∞ –≤—ã—Ç–µ–∫–∞–ª —Å–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª–∏ —Å—Ç–µ–Ω –∏ –∫—Ä—ã—à–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –∑–∞–ª–µ—Ç–µ–ª –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω –∫–ª—É–± –∏ —Ç–∞–∫ –∂–µ –≤—ã—à–µ–ª. –ì—Ä—è–Ω—É–ª –≥—Ä–æ–º, –Ω–æ –Ω–µ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É, –∫–∞–∫ –æ–±—ã—á–Ω–æ, –∞ –≤–µ–∑–¥–µ! –ü—Ä—è–º–æ –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–µ. –û—Ç –∑–∞–ø–æ–ª–Ω—è–≤—à–µ–≥–æ –≤—Å–µ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –≤–æ–ª–æ—Å—ã –º–æ–∏, –¥–æ—Å—Ç–∏–≥—à–∏–µ —É–∂–µ –ø—è—Ç–∏—Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤–æ–π –¥–ª–∏–Ω—ã, —Ç–æ–ø–æ—Ä—â–∏–ª–∏—Å—å –∏ —à–µ–≤–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å.
–ú–æ–ª–Ω–∏–∏ –∑–∞—Å–≤–µ—Ä–∫–∞–ª–∏ –æ–¥–Ω–∞ –∑–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–π, –∏ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª—Å—è —Ç—Ä–µ—Å–∫. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø—É—Å—Ç—è —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É — –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä—ã –ø–æ—Å–ª–µ —Ä–∞–∑—Ä—è–¥–∞ —Å–ª—ã—à–∞–ª—Å—è —Ä–∞—Å–∫–∞—Ç –≥—Ä–æ–º–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞—Ç—É—Ö–∞—é—â–∏–π. –í –≥–æ—Ä–∞—Ö — —ç—Ç–æ –æ–±—ã—á–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ. –ê –≥—Ä–æ—Ö–æ—Ç–∞–ª–æ —É–∂–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ. –û–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å, –æ—Ç –∫–∞–∫–æ–π —ç—Ç–æ –º–æ–ª–Ω–∏–∏ –≥—Ä–æ—Ö–æ—á–µ—Ç, –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ö—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤ —Å–∞–º–æ–º —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –≥—Ä–æ–∑–æ–≤–æ–≥–æ –æ–±–ª–∞–∫–∞. –î–æ–∂–¥—è, –∫–∞–∫ —Ç–∞–∫–æ–≤–æ–≥–æ, –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ü–æ—Ä—ã–≤—ã –≤–µ—Ç—Ä–∞ –∑–∞–¥—É–≤–∞–ª–∏ –≤ –æ–∫–æ—à–∫–æ –º–µ–ª–∫—É—é –≤–æ–¥—è–Ω—É—é –ø—ã–ª—å.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç –≤—Å–µ –∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å. –ü–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ.
–ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –º–Ω–µ —Å—Ç–∞—Ä—É—é —Ç—É–º–±–æ—á–∫—É. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º –∑–∞—à–µ–ª –º–∞–ª—å—á–∏–∫, –ª–µ—Ç –≤–æ—Å—å–º–∏, –∏ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞, —á—É—Ç—å –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä—à–µ. –û–Ω–∏ —Å –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–æ–º —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –Ø —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è –∏ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –±–æ–ª–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ –∏–º —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞ —ç—Ç–∞ –º–æ—è —É–ª—ã–±–∫–∞.
–ù–∞ —Ç—É–º–±–æ—á–∫—É –ú—É—Å–∞ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–≤—É—é –ª–∞–º–ø—É, –Ω–æ –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª, —á—Ç–æ–±—ã –¥–æ–ª—å—à–µ –¥–µ–≤—è—Ç–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ —è –µ–µ –Ω–µ –∂–µ–≥. –î–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–∞—è —Å—Ç–µ–Ω–∞, —É –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å —Ö–æ—Ç—å –∏ –¥–≤–æ–π–Ω–æ–π, –Ω–æ —Ç–æ–Ω–∫–æ–π. –Ø –º–æ–≥ —Å–ª—ã—à–∞—Ç—å –∏ –ú—É—Å—É, –∏ –¥–µ—Ç–µ–π, –∏ –≥–æ–ª–æ—Å –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã. –ù–æ —Å–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —Ä–∞–¥–∏–æ. –ü—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º—ã –µ–≥–æ –±—ã–ª–∏, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–µ, —Å —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–º –ø—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–Ω–∏–µ–º –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—ã—Ö –º–µ–ª–æ–¥–∏–π. –ù–æ–≤–æ—Å—Ç–∏ —á–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º —è–∑—ã–∫–µ. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é –ü—É—Ç–∏–Ω–∞. –¢–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –∏ —É—Ç–æ—á–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è¬Ý11 –∏—é–ª—è 1999 –≥–æ–¥–∞. –®–µ–ª –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π –¥–µ–Ω—å –º–æ–µ–≥–æ –ø–ª–µ–Ω–∞. –£–∂ —ç—Ç–æ-—Ç–æ —è –º–æ–≥ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω–æ. –ù–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ «—Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è» –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã—Ç—å –¥–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—ã–º –∏—é–ª—è. –¢–∞–∫ —è –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –æ–¥–∏–Ω –¥–µ–Ω—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞–π–¥—É —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Å–µ–Ω—å—é.
–í –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–µ –∂–∏–ª–µ—Ç–∞ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª –∫–∞–ª–µ–Ω–¥–∞—Ä–∏–∫. –í –¥–æ—Å–∫–µ –Ω–∞—à–µ–ª –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –≥–≤–æ–∑–¥—å, –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –µ–≥–æ –∏ –ø—Ä–æ–∫–æ–ª–æ–ª –¥—ã—Ä–æ—á–∫–∏ –≤ —Ç–µ—Ö –¥–Ω—è—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –≤ –Ω–µ–≤–æ–ª–µ. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –≥–≤–æ–∑–¥–∏–∫–æ–º –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ. –ì–≤–æ–∑–¥–∏–∫ —è –≤–æ—Ç–∫–Ω—É–ª –≤ —Ç–æ –∂–µ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ –≤ –¥–æ—Å–∫–µ.
–£–∂–∏–Ω –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª—Å—è —Ä–∞–∑–Ω–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–µ–º. –¢–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –ø–æ—Ö–ª–µ–±–∫–∞, —Ö–ª–µ–± –∏ –ª—É–∫. –ê –ø–æ—Å–ª–µ —É–∂–∏–Ω–∞ –¥–µ—Ç–∏ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –ø–æ–ª–µ–≤—ã–µ —Ü–≤–µ—Ç—ã. –ò –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –∏—Ö –≤ –±–∞–Ω–æ—á–∫—É –∏–∑-–ø–æ–¥ –º–∞–π–æ–Ω–µ–∑–∞.
–ù–æ—á—å—é –º–µ–Ω—è —Ä–∞–∑–±—É–¥–∏–ª –∫—Ä–∏–∫ –ø–µ—Ç—É—Ö–∞. –ö–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –æ–Ω –∫—Ä–∏—á–∞–ª –Ω–∞–¥ —Å–∞–º—ã–º —É—Ö–æ–º, —á—Ç–æ, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, —Ç–∞–∫ –∏ –±—ã–ª–æ. –ü–µ—Ç—É—Ö –∫—Ä–∏—á–∞–ª —Å –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏–º –∞–∫—Ü–µ–Ω—Ç–æ–º. –ù–∞—à–∏ —Ç–∞–∫ –Ω–µ –∫—Ä–∏—á–∞—Ç. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, –ø–µ—Ç—É—Ö —ç—Ç–æ—Ç –±—ã–ª –æ–¥–∏–Ω –Ω–∞ —Ç—Ä–∏ –¥–≤–æ—Ä–∞, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–º–æ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –∑–¥–µ—Å—å, –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–µ, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏—Å—Ç–∞—Ö –Ω–∞–¥ —Å–µ–ª–æ–º. –ü–µ—Ç—É—Ö, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –±—ã–ª –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–π, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞ –Ω–µ –∂–∞–ª–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –Ω–µ—Ö–≤–∞—Ç–∫—É —è–∏—Ü –∏–ª–∏ —Ü—ã–ø–ª—è—Ç.
–°–ª—É—à–∞—Ç—å —ç—Ç–æ–≥–æ –±–µ—Å—Ç–∏—é –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤—ã–Ω–æ—Å–∏–º–æ –º—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –∑–∞–º–æ–ª–∫–∞–ª, —è –∑–∞—Å—ã–ø–∞–ª –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ.
–£—Ç—Ä–æ–º –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Ö–ª–µ–±–∫–∞ –∏ –ø–æ–º—ã–≤–∫–∞. –í —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞ –ú—É—Å–∞ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –≤–µ–¥—Ä–æ —Å –≥–æ—Ä—è—á–µ–π –≤–æ–¥–æ–π –∏ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –∫—É—Å–æ–∫ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –º—ã–ª–∞. –û–Ω –∑–∞–±—Ä–∞–ª —É –º–µ–Ω—è —á–∞—Å—ã, —Ä—É—á–∫—É –∏ –≤—Å—é –º–æ—é –æ–¥–µ–∂–¥—É. –í—ã–¥–∞–ª —Å–∏–∑—ã–µ —Ç—Ä—É—Å—ã, —Ä–≤–∞–Ω—É—é –º–∞–π–∫—É, –¥—Ä–∞–Ω—ã–µ –¥–∂–∏–Ω—Å—ã –∏ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–Ω—É—é –∫—É—Ä—Ç–∫—É —Ö/–±. –ö—É—Ä—Ç–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –∏–∑—Ä—è–¥–Ω–æ –ø–æ—Ç—Ä–µ–ø–∞–Ω–∞, –≤—ã–ª–∏–Ω—è–ª–∞, –∏ –æ—Ç –∑–µ–ª–µ–Ω–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞ –Ω–∞ –Ω–µ–π —É–∂–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å. –ü—Ä–µ–æ–±–ª–∞–¥–∞–ª–∏ –∂–µ–ª—Ç—ã–π –∏ –≥—Ä—è–∑–Ω–æ-–∫–æ—Ä–∏—á–Ω–µ–≤—ã–π —Ü–≤–µ—Ç–∞.
–û—Ç –º–æ–µ–π —Ä–∞—Å–∫–ª–∞–¥–Ω–æ–π —Ä–∞—Å—á–µ—Å–∫–∏ —Å –∑–µ—Ä–∫–∞–ª—å—Ü–µ–º –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º—è–≥–∫–∞—è –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–∫–æ–≤–∞—è —á–∞—Å—Ç—å — —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å—á–µ—Å–∫–∞. –í—Å–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ — –Ω–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ. –ü—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã–π –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–∫ –ú—É—Å–∞ –º–Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª.
–ë–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –æ—Ç–º—ã—Ç—å –≥–æ–ª–æ–≤—É. –° –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ª–µ—Ç —è –ø—Ä–∏–≤—ã–∫ –º—ã—Ç—å –≥–æ–ª–æ–≤—É –∫–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å. –ì–¥–µ –±—ã —è –Ω–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è: –¥–æ–º–∞ –∏–ª–∏ –≤ –≥–æ—Å—Ç—è—Ö, –≤ —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∏–ª–∏ –≤ –ø–æ–ª–µ, –≤ –ø–æ–µ–∑–¥–µ –∏–ª–∏ –≤ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–µ, –≥–æ–ª–æ–≤—É —è –º—ã–ª –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –î–ª—è –º–µ–Ω—è –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –ø–æ–º—ã—Ç—å –≥–æ–ª–æ–≤—É — —ç—Ç–æ –ø—Ä–∏–≤–µ—Å—Ç–∏ —Å–µ–±—è –≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–æ—Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ.
–í–æ–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –∂–µ—Å—Ç–∫–æ–π. –ì–æ–ª–æ–≤—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –º—ã—Ç—å —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —Ä–∞–∑–∞. –ü–æ–∫–∞ —è –º—ã–ª—Å—è, –ú—É—Å–∞ –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞. –£ –Ω–∏—Ö —Å —ç—Ç–∏–º —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ. –ú—É–∂—á–∏–Ω–∞ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≥–æ –º—É–∂—á–∏–Ω—É.
–ü–æ–º—ã–≤–∫–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∞ –º–µ–Ω—è –≤ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫. –ú—É—Å–∞ –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª—ã. –°–Ω–æ–≤–∞ —Ü–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å —á–∏—Ç–∞–ª. –ö–æ–≥–¥–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ —É—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏, –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª –∏ —Ç—è–Ω—É–ª—Å—è –∫ –æ–∫–æ—à–∫—É, —á—Ç–æ–±—ã –ª—É—á—à–µ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, –≥–¥–µ –Ω–∞—Ö–æ–∂—É—Å—å. –ü–æ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –µ–∑–¥–∏–ª–∏ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –£—Ç—Ä–æ–º –∏ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º —Ç–∞–º –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–æ—Å—å —à—É–º–Ω–æ–µ —Å—Ç–∞–¥–æ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤.
–ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —è —Å—Ç–∞–ª –≤ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∞—Ö –º–µ—á—Ç–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –≤–µ—Ä–Ω—É—Å—å –≤ –°–∞–º–∞—Ä—É. –ê –º–µ—á—Ç–∞–ª —è –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞—Ç—å –∏ –≤—Å—Ç–∞—Ç—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ –ø–∏—à—É —Å–µ–π—á–∞—Å —ç—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–æ–∫–∏. –ù–∞ —Ä–µ—á–Ω–æ–º –≤–æ–∫–∑–∞–ª–µ —É –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –ø—Ä–∏—á–∞–ª–∞. –£—à–ª–∞ –≤ —Ä–µ–π—Å «–ú–æ—Å–∫–≤–∞-37» –∏ «–ö–∞—Ä–µ–ª–∏—è». –ï—â–µ 43 –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ —è —Å –±–∞–±–∫–æ–π –ø–ª–∞–≤–∞–ª –Ω–∞ «–ö–∞—Ä–µ–ª–∏–∏» –¥–æ –£–ª—å—è–Ω–æ–≤—Å–∫–∞. –¢–µ–ø–µ—Ä—å «–ö–∞—Ä–µ–ª–∏—è» –æ—Ç—Ö–æ–¥–∏—Ç –æ—Ç –ø—Ä–∏—á–∞–ª–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –ø—Ä–æ–≥—É–ª–∫–∏.
–í –æ–∫–æ—à–∫–æ –∏ –ª–∞–∑ –ø–æ–¥ —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π —Å–∞—Ä–∞—è –∑–∞–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –∏ –∑–∞–ø–æ–ª–∑–∞–ª–∏ –∫—É—Ä—ã. –ù–∞—Å–µ–¥–∫–∏ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –ø–æ–∫–∏–¥–∞–ª–∏ —Å–≤–æ–∏—Ö –º–µ—Å—Ç. –ö–Ω–∏–≥—É —è –ø–µ—Ä–µ—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª –≤ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π —Ä–∞–∑, –Ω–æ —Å–ª—É—á–∏—Å—å –º–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–Ω–Ω–æ–µ, —è –±—ã –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª. –ú–æ–∑–≥ –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –∑–∞–Ω—è—Ç –≤—ã—á–∏—Å–ª–µ–Ω–∏—è–º–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ–±–µ–≥–∞.
–í–æ –¥–≤–æ—Ä–µ –±—ã–ª–∞ —Å–æ–±–∞–∫–∞. –ü—Ä–æ—Å—Ç–∞—è –¥–≤–æ—Ä–Ω—è–≥–∞. –≠—Ç–æ —Ä–µ–¥–∫–æ—Å—Ç—å — —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –≤ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–º –¥–≤–æ—Ä–µ —Å–æ–±–∞–∫—É. –°–æ–±–∞–∫–∞ —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–µ—á–∏—Å—Ç–æ–π, –∫–∞–∫ —Å–≤–∏–Ω—å—è. –°–æ–±–∞–∫–∞ –æ—Å–ª–æ–∂–Ω—è–ª–∞ –¥–µ–ª–æ: –æ–Ω–∞ –º–æ–≥–ª–∞ —É—á—É—è—Ç—å, –∑–∞–ª–∞—è—Ç—å, –ø–æ–±–µ–∂–∞—Ç—å —Å–ª–µ–¥–æ–º, –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω–∞ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –Ω–∞—Ç–∞—Å–∫–∞–Ω–∞. –°–æ–±–∞–∫—É —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –ø—Ä–∏–∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å, –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—å—Å—è —Å –Ω–µ—é. –ù–æ —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å.
–í –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–≤ –ú—É—Å–∞ –≤—ã–≤–µ–ª –º–µ–Ω—è –ø–æ–≥—É–ª—è—Ç—å –Ω–∞ —Å–≤–æ–π –æ–≥–æ—Ä–æ–¥. –¢–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –±—ã–ª–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ–º –Ω–∏–∂–µ —Å–∞–∫–ª–∏. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –±—ã–ª –æ–≥–æ—Ä–æ–¥ –∏ —Ä—è–¥–æ–º —Å –¥–æ–º–æ–º, –Ω–æ –ú—É—Å–∞ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª —ç—Ç–æ—Ç –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Å–≤–æ–∏–º –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º. –í—Å–µ, —á—Ç–æ —Ç–∞–º —Ä–æ—Å–ª–æ, –±—ã–ª–æ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º –∏ —Ö–∏–ª—ã–º. –ö—Ä–æ–º–µ –∫–æ–Ω–æ–ø–ª–∏. –ï–µ –ú—É—Å–∞ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ —Å–∞–∂–∞–ª –∏ —É—Ö–∞–∂–∏–≤–∞–ª –∑–∞ –Ω–µ—é. –ö—Ä–æ–º–µ –∫–æ–Ω–æ–ø–ª–∏, —Ä–æ—Å–ª–∏ –ª—É–∫ –∏ –º–æ—Ä–∫–æ–≤—å. –£ –ª—É–∫–∞ —è –Ω–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π —Å–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–ª—ã, –∞ –º–æ—Ä–∫–æ–≤—å –æ–±–µ—â–∞–ª–∞ –≤—ã—Ä–∞—Å—Ç–∏ –≤–µ–ª–∏—á–∏–Ω–æ–π –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ–π –º–∏–∑–∏–Ω—Ü–∞.
–° –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∞ —è —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ–ª, —á—Ç–æ —Å–∞–∫–ª—è –ú—É—Å—ã —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞, –≤—ã—Å–æ—Ç–æ—é –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –≠—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω–∞—è –µ–≥–æ —á–∞—Å—Ç—å. –î–∞–ª—å—à–µ —à–µ–ª –∫—Ä—É—Ç–æ–π –æ—Ç–∫–æ—Å –∏–∑ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—è–∫–æ–≤–æ–π –∫—Ä–æ—à–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—É–∂–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤ —É—â–µ–ª—å–µ –º–µ–ª–∫–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ —Ä—É—á—å—è. –£—â–µ–ª—å–µ — —Å–æ–≤—Å–µ–º —É–∑–∫–æ–µ — –ø–µ—Ç–ª—è–ª–æ –≤ —Ä–µ–ª—å–µ—Ñ–µ. –ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–Ω–µ, –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ —Ä—É—Å–ª—É —Ä—É—á—å—è, –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –±–æ–ª—å—à–∏–µ –≤–∞–ª—É–Ω—ã. –û–∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ, –æ–±—Ç–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤–µ—Å–µ–Ω–Ω–∏–º–∏ –ø–æ—Ç–æ–∫–∞–º–∏. –¢–∞–º –∂–µ —Ä–æ—Å–ª–∏ –º–µ–ª–∫–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—Ü–∞, –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–µ –Ω–∞ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫.
–ë—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —Ä—É—á–µ–π –≤–ø–∞–¥–∞–µ—Ç –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω, —á—Ç–æ —Ç–µ—á–µ—Ç –ø–æ –ø–æ–ø–µ—Ä–µ—á–Ω–æ–º—É —É—â–µ–ª—å—é, –∞ —Ç–æ—Ç — –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è.
–ü—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—Å–µ –≥–æ—Ä–Ω—ã–µ —Ä–µ—á–∫–∏ —Ç–æ–π –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏–º–µ–Ω—É—é—Ç—Å—è –ê—Ä–≥—É–Ω–∞–º–∏. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∏ —É—â–µ–ª—å–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–æ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–∏–º. –ê—Ä–≥—É–Ω –≤ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥–µ —Å —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ — —á–µ—Ä–Ω–∞—è —Ä–µ—á–∫–∞.
–ü–æ–∫–∞ –º—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–µ –∏ –∫—É—Ä–∏–ª–∏, —Å—É–º–µ—Ä–∫–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–æ—á—å—é. –ú—É—Å–∞ —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –º–Ω–µ –∑–≤–µ–∑–¥—ã.
— –í–æ–Ω, –≤–∏–¥–∏—à—å, –°–∏—Ä–∏—É—Å — —ç—Ç–æ –ø–ª–∞–Ω–µ—Ç–∞ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–∏, —Ç–∞–º –∂–∏–≤—É—Ç —à–∞—Ö–∏–¥—ã.
— –ö—Ç–æ —Ç–∞–∫–∏–µ —à–∞—Ö–∏–¥—ã, –ú—É—Å–∞, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –®–∞—Ö–∏–¥—ã, —ç—Ç–æ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–µ, –ø–æ–≥–∏–±—à–∏–µ –≤ –±–æ—é –∑–∞ –≤–µ—Ä—É. –ê–ª–ª–∞—Ö –∑–∞–±–∏—Ä–∞–µ—Ç –∏—Ö –∏ –¥–∞–µ—Ç –≤—Å–µ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –∑–∞—Ö–æ—Ç—è—Ç.
— –≠—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ —Ä–∞—è?
— –î–∞. –≠—Ç–æ —Ä–∞–π, –ø–æ-–≤–∞—à–µ–º—É. –¢–∞–º –≤–∏–Ω–æ –∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã.
–í–µ—Ä—Ö –±–ª–∞–∂–µ–Ω—Å—Ç–≤–∞ –ú—É—Å–∞ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ–≤–∞–ª –ø–æ-—Å–≤–æ–µ–º—É. –Ø –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏–ª –µ–º—É, —á—Ç–æ –°–∏—Ä–∏—É—Å —ç—Ç–æ –Ω–µ –ø–ª–∞–Ω–µ—Ç–∞, –∞ –∑–≤–µ–∑–¥–∞. –ß—Ç–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –∫–∞–∫–æ–º—É-–Ω–∏–±—É–¥—å –±–æ–≥—É –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –æ–±—É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å —Ä–∞–π –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞. –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –°–∏—Ä–∏—É—Å —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–∞ —é–≥–µ –∏ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç –≥–æ—Ä–∞–º–∏. –ó–∞–æ–¥–Ω–æ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –ë–æ–ª—å—à—É—é –∏ –ú–∞–ª—É—é –ú–µ–¥–≤–µ–¥–∏—Ü—É.
–ú—É—Å–∞ —Å–ª—É—à–∞–ª –∑–∞—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ, –∞ –∫–æ–≥–¥–∞ —É–≤–∏–¥–µ–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å –ú–∏—Ü–∞—Ä–æ–º —á—É—Ç—å –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã–π –ê–ª—å–∫–æ—Ä –∏ —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–ª–æ—Å—å –∑—Ä–µ–Ω–∏–µ —É —Å–ø–∞—Ä—Ç–∞–Ω—Ü–µ–≤, –Ω–∞ –µ–≥–æ –ª–∏—Ü–µ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª —É–ª—ã–±–∫—É —É–º–∏–ª–µ–Ω–∏—è.
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å, –ú—É—Å–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Å—é–¥–∞ –º—ã –±—É–¥–µ–º –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∫–∞–∂–¥—ã–π –≤–µ—á–µ—Ä, —á—Ç–æ–±—ã —è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –µ–º—É –æ –∑–≤–µ–∑–¥–∞—Ö. –ë–æ–ª—å—à–µ –Ω–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥ –Ω–µ —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É.
–ù–∞—É—Ç—Ä–æ –º–µ–Ω—è —Ä–∞–∑–±—É–¥–∏–ª –Ω–µ –ø–µ—Ç—É—Ö, –∞ —Ö—Ä–∞–ø. –Ø –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –≤ —á–µ–º –¥–µ–ª–æ. –Ý—è–¥–æ–º —Å –º–æ–µ–π –ª–µ–∂–∞–Ω–∫–æ–π —Å—Ç–æ—è–ª–æ –Ω–µ—á—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–æ–µ, –∏ –æ–Ω–æ –¥–≤–∏–≥–∞–ª–æ—Å—å.
–Ý–µ–∑–∫–æ –∑–∞–∂—É—Ä—á–∞–ª–∞ –º–æ—â–Ω–∞—è —Å—Ç—Ä—É—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∏–∑–ª–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –∏–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ. –ü—Ä–∏—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–≤—à–∏—Å—å, —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–µ –∂–µ—Ä–µ–±—Ü–∞.
–°–≤–µ—Ç–∞–ª–æ. –ñ–µ—Ä–µ–±–µ—Ü –±—ã–ª –∫—Ä–∞—Å–∏–≤. –°–µ—Ä—ã–π –≤ —è–±–ª–æ–∫–∞—Ö. –ë–µ–ª—ã–µ –¥–æ –∫–æ–ª–µ–Ω –Ω–æ–≥–∏. –°–∫–æ—Ä–æ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –ú—É—Å–∞ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è –º–Ω–µ –¥–≤–∞-—Ç—Ä–∏ –¥–Ω—è –ø–æ–∂–∏—Ç—å –∑–¥–µ—Å—å —Å –∂–µ—Ä–µ–±—Ü–æ–º.
— –ü–æ–Ω–∏–º–∞–µ—à—å, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω, — –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã –µ–≥–æ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –∏ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ, –Ω–æ —è –µ–≥–æ —É–∫—Ä–∞–ª.
— –ê –≤–¥—Ä—É–≥ –æ–Ω –∑–∞—Ä–∂–µ—Ç?
— –° –∫–∞–∫–æ–π —ç—Ç–æ —Å—Ç–∞—Ç–∏ —Å—ã—Ç—ã–π –∫–æ–Ω—å, –¥–∞ –µ—â–µ, –µ—Å–ª–∏ —Ä—è–¥–æ–º –Ω–µ—Ç –∫–æ–±—ã–ª—ã, –∑–∞—Ä–∂–µ—Ç? — –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –Ω–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ú—É—Å–∞.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å —É–ª–∏—Ü—ã –ø—Ä–æ–∫—É–∫–∞—Ä–µ–∫–∞–ª –ø–µ—Ç—É—Ö. –ê –∂–µ—Ä–µ–±–µ—Ü –∑–∞—Ä–∂–∞–ª –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –±—ã—Ä-—Ä-—Ä. –ú—É—Å–∞ –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∏–∑ —Å–∞—Ä–∞—è –∫–æ—Ä–º—É—à–∫—É —Å –æ–≤—Å–æ–º –∏ –ø–æ–¥—Å—É–Ω—É–ª –∂–µ—Ä–µ–±—Ü—É.
–ë—ã–ª–æ —Ä–∞–Ω–Ω–µ–µ —É—Ç—Ä–æ, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –º–æ–≥ –¥–æ–≥–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è. –ú—É—Å–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è, —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—é—Å—å –ª–∏ —è –≤ –º–∞—à–∏–Ω–∞—Ö. –Ø —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—é—Å—å. –¢–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è –æ—Ç –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª–æ–≤ –∏ –ø–æ–≤–µ–ª –∫ —Å–µ–±–µ –Ω–∞ –¥–≤–æ—Ä.
–î–≤–æ—Ä–∞, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ë—ã–ª–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∞, –æ–≥–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–Ω–∞—è –≤—Å–µ —Ç–µ–º –∂–µ –∫–∞–º–Ω–µ–º. –í —É–≥–ª—É —Å—Ç–æ—è–ª–∞ —Å—Ç–∞—Ä–µ–Ω—å–∫–∞—è «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫–∞», –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ú—É—Å–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–æ–≥ –∑–∞–≤–µ—Å—Ç–∏.
–Ø —Å–Ω—è–ª –ø—Ä–æ–≤–æ–¥ —Å –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ —Å–≤–µ—á–µ–π. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ –∫–æ—Ä–ø—É—Å. –ò—Å–∫—Ä—ã –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –°–Ω—è–ª –∫—Ä—ã—à–∫—É —Ç—Ä–∞–º–±–ª–µ—Ä–∞. –ë–µ–≥—É–Ω–æ–∫ –±—ã–ª —Ä–∞–∑–±–∏—Ç. –ú—É—Å–∞ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –µ—Å—Ç—å –ª–∏ —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–æ–≤—ã–π –±–µ–≥—É–Ω–æ–∫. –Ø –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª —Å–∞–º. –ë–µ–≥—É–Ω–æ–∫ –Ω–∞—à–µ–ª—Å—è, –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç –º–∞—à–∏–Ω—É –º—ã –∑–∞–≤–µ–ª–∏. –ù–æ –ú—É—Å–∞ –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –µ—Ö–∞—Ç—å. –û–Ω –≤—ã–≤–µ–ª –∫–æ–Ω—è –∏ —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –º–Ω–µ, –∫–∞–∫ –µ–≥–æ —Å–µ–¥–ª–∞—Ç—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –ú—É—Å–∞ –≤ —è–ª–æ–≤—ã—Ö —Å–∞–ø–æ–≥–∞—Ö –∏ –º–æ–µ–π —Å–∏–Ω–µ–π –∂–∏–ª–µ—Ç–∫–µ –æ—Ç «–û–ø–µ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö —Ö—Ä–æ–Ω–∏–∫». –ó–∞ –≥–æ–ª–µ–Ω–∏—â–µ–º –ø—Ä–∞–≤–æ–≥–æ —Å–∞–ø–æ–≥–∞ —Ç–æ—Ä—á–∞–ª –Ω–æ–∂ —Å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–π –∏–Ω–∫—Ä—É—Å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π —Ä—É—á–∫–æ–π. –ö–æ–≥–¥–∞ —Å–±—Ä—É—è –±—ã–ª–∞ –ø–æ–¥–æ–≥–Ω–∞–Ω–∞, –ú—É—Å–∞ –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª –≤ —Å–µ–¥–ª–æ –∏ —É–º–µ–ª–æ –∑–∞–≥–∞—Ä—Ü–µ–≤–∞–ª.
— –°–µ–π—á–∞—Å –ø–æ–µ–¥—É —Ç–µ–±–µ –∑–∞ –Ω–æ–≤–æ–π –∫–Ω–∏–≥–æ–π.
— –ê –∫–∞–∫ –∂–µ, –ú—É—Å–∞, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª —è, — –≤–µ–¥—å –∫–æ–Ω—è –∂–µ —Ç—ã —É–∫—Ä–∞–ª?
— –≠—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ. –Ø –µ–≥–æ –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–µ —É–∫—Ä–∞–ª. –¢—É—Ç –¥–æ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å, — –æ–Ω –º–∞—Ö–Ω—É–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞. — –ê –¥–æ –ì—Ä—É–∑–∏–∏ — –≤–æ–æ–±—â–µ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä. –í–æ–Ω, –≤–∏–¥–∏—à—å, –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª, –ú—É—Å–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ —é–≥ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —É—â–µ–ª—å—è.
–ù–∞ –¥–Ω–µ —É—â–µ–ª—å—è –±—ã–ª –≤–∏–¥–µ–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–π —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –ò —è –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, –∫–∞–∫ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –Ω–æ—á—å—é, –µ—â–µ –≤ —Å–∞—Ä–∞–µ —É –≥–æ—Ä—ã, –ê–ª–∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –º–Ω–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏–∏ –ø—Ä–æ —ç—Ç—É –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∏ –ø—Ä–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª.
–î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª —Å –≥—Ä—É–∑–∏–Ω—Å–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≥–æ—Ç–æ–≤–∞. –ê –≤–æ—Ç —Å —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–π –±—ã–ª –µ—â–µ –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—ã–π —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫, –¥–ª–∏–Ω–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –û—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã –∏ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å—ã —Ç–∞–º –º–æ–≥–ª–∏ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞—Ç—å, –Ω–æ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è –±—ã–ª–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç—å. –ê–ª–∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ, —á—Ç–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º —É—á–∞—Å—Ç–∫–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–Ω—ã–µ. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –µ—â–µ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Ç–∞–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä–∞–±—ã. –ò–∑ —á–∏—Å–ª–∞ —Ç–∞–∫–∏—Ö –∂–µ, –∫–∞–∫ —è, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –ø–ª–∞—Ç–∏–ª –≤—ã–∫—É–ø. –ö–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, —Å —ç—Ç–æ–π —É–¥–∞—Ä–Ω–æ–π —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–π —Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è. –ú—É—Å–∞ –ø–æ—Ç–æ–º —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—Ç –º–Ω–µ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–æ —ç—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç —É–∂–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –∞ —è –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â—É—Å—å –≤ —Å–æ–≤—Å–µ–º –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –ê –ø–æ–∫–∞ —è —Å–ª—É—à–∞–ª –ú—É—Å—É.
— –£ –º–µ–Ω—è –∂–µ–Ω–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –∫–∞–∂–¥–æ–µ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ –µ–∑–¥–∏—Ç –≤ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏ –Ω–∞ —Ä—ã–Ω–æ–∫.
–°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –±—ã–ª–æ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ.
— –Ø —Å–∫–æ—Ä–æ –≤–µ—Ä–Ω—É—Å—å! — –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª –ú—É—Å–∞. — –í–æ–Ω —Ç–∞–º –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ —Å–∏–¥–∏—Ç –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π, –µ—Å–ª–∏ —á—Ç–æ, –±—É–¥–µ—Ç —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å.
–Ø –ø–æ—à–µ–ª –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫, –≤ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª—ã –∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏.
— –í–æ—Ç —Ç–∞–∫ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ú—É—Å–∞, — —Ç—ã –∏ –ø—Ä–∏—É—á–∏—à—å—Å—è —Ç—É—Ç –∂–∏—Ç—å. –ü–µ—Ä–≤—ã–µ —Ç—Ä–∏ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –±—É–¥–µ—à—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –ö–∞–∫ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è. –ê –ø–æ—Ç–æ–º…
–Ø —Å —É–∂–∞—Å–æ–º –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –ø–æ—Ç–æ–º. –ö –º–æ–µ–º—É —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é, –ú—É—Å–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–∞–ø–æ–∂–Ω—ã–π –Ω–æ–∂ –∏ –æ—Å–µ–ª–æ–∫, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–æ–∂ –∑–∞—Ç–æ—á–∏—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —É—à–µ–ª, —è –∑–∞—Ç–æ—á–∏–ª –Ω–æ–∂ –∏ —Ä–µ—à–∏–ª –æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å –µ–≥–æ. –ù–∞—à–µ–ª –≤–µ—Ç–æ—á–∫—É –∏ –ø—Ä–∏–∫–∏–Ω—É–ª, —á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –∏–∑ –Ω–µ–µ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å.
–í–µ—Ç–æ—á–∫–∞ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ö–æ–∂–∞ –Ω–∞ –≤–µ—Ä–±—É. –° —Ç–æ–Ω–∫–æ–π –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–π –∫–æ–∂—É—Ä–æ–π, –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ — –ø—É—Å—Ç–∞—è. –Ø –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –º–æ–≥ –±—ã –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å—Å—è –Ω–µ–ø–ª–æ—Ö–æ–π –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫ –±—ã–ª –≥–æ—Ç–æ–≤. –ß—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ—á–∏—Å—Ç–∏—Ç—å –¥—ã—Ä–æ—á–∫—É, –Ω–∞—à–µ–ª —Ç–≤–µ—Ä–¥—É—é —Ç–æ–Ω–∫—É—é –≤–µ—Ç–æ—á–∫—É –æ—Ç –º–µ—Ç–ª—ã. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∫—É—Ä–∏—Ç—å «–ü—Ä–∏–º—É» –ø–æ —á–∞—Å—Ç—è–º. –û—Ç—Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Ä—É–∫–∏ —Å–∫—É—á–∞–ª–∏ –ø–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ, —Å–¥–µ–ª–∞–ª –µ—â–µ –¥–≤–∞ –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∞. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –ª—É—á—à–µ.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –ú—É—Å–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è. –ö–Ω–∏–≥–∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑. –ó–∞—Ç–æ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑ –∫—É—Ä–µ–≤–æ. «–ü—Ä–∏–º—É». –ù–æ –≤—ã–¥–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–ª–ø–∞—á–∫–∏. –£–≤–∏–¥–µ–ª –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∏ –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞–±—Ä–∞–ª –∏—Ö. –Ø –µ–¥–≤–∞ —É–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –º–Ω–µ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –æ–¥–∏–Ω. –û–Ω –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∏–∑-–∑–∞ –≥–æ–ª–µ–Ω–∏—â–∞ —Å–≤–æ–π –Ω–æ–∂ –∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è, —Å–º–æ–≥—É –ª–∏ —è —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∫ –Ω–µ–º—É –Ω–æ–∂–Ω—ã –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –ù–æ –Ω–æ–∂–Ω—ã —Ç–æ–Ω–∫–∏–µ, —Ç–∞–∫–∏–µ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Ç–æ–º –æ–±—Ç—è–Ω—É—Ç—å –∏—Ö –∫–æ–∂–µ–π. –ó–∞–¥–∞—á–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –∏–∑ –ª–µ–≥–∫–∏—Ö. –ú—É—Å–∞ —Å –æ–ø–∞—Å–∫–æ–π –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –º–Ω–µ –Ω–æ–∂, –∏ —è –≤–∑—è–ª—Å—è –∑–∞ –¥–µ–ª–æ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤ –º–æ–µ–º —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –±—ã–ª–∏ —Å—Ç–æ–ª—è—Ä–Ω—ã–µ –∏ —Å–ª–µ—Å–∞—Ä–Ω—ã–µ –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç—ã.
–ò–∑ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–≥–æ –±–µ—Ä–µ–∑–æ–≤–æ–≥–æ –ø–æ–ª–µ–Ω–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏. –ù–∞—à–ª–∏—Å—å –¥–∞–∂–µ —Å—Ç–∞–º–µ—Å–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –¥–æ–ª–≥–æ –∑–∞—Ç–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å. –ü–æ –æ–∂–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–æ–π —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –∏–∑ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏ –∂–µ–Ω–∞ –ú—É—Å—ã. –£–∂–∏–Ω–∞ –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –¢–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å —è —É–∂–µ –Ω–µ –º–æ–≥. –°–µ–ª –Ω–∞ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, –∑–∞–∂–µ–≥ –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–≤—É—é –ª–∞–º–ø—É, —Å—Ç–∞–ª —á–∏—Ç–∞—Ç—å.
–í–¥—Ä—É–≥ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª, —á—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç–∏—Ö–æ –∏ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–≤–æ—Ä—è–µ—Ç—Å—è –≤–Ω–µ—à–Ω—è—è –¥–≤–µ—Ä—å –≤ —Å–∞—Ä–∞–π. –ü–æ—Ç–æ–º —Ç–∞–∫ –∂–µ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å—Ç–∞–ª–∞ –æ—Ç–≤–æ—Ä—è—Ç—å—Å—è –¥–≤–µ—Ä—å –≤ –º–æ–π –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –∫—Ä–∞–¥—É—â–µ–≥–æ—Å—è –ú—É—Å—É —Å —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º. –û–Ω –¥–µ—Ä–∂–∞–ª –µ–≥–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö—É, –≥–æ—Ç–æ–≤—ã–º –¥–ª—è —É–¥–∞—Ä–∞. –ì–ª–∞–∑–∞–º–∏ –æ–Ω –∏—Å–∫–∞–ª –º–µ–Ω—è, –Ω–æ –µ–º—É –º–µ—à–∞–ª —Å–≤–µ—Ç –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–≤–æ–π –ª–∞–º–ø—ã.
— –ú—É—Å–∞, —á—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
–ú—É—Å–∞ –≤–∑–¥—Ä–æ–≥–Ω—É–ª, –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –§—É, —è –¥—É–º–∞–ª —Ç—ã –∂–¥–µ—à—å –º–µ–Ω—è –∑–∞ –¥–≤–µ—Ä—å—é.
— –ó–∞—á–µ–º?
— –£–±–∏—Ç—å, –Ω–µ –∑–∞–ø–Ω—É–≤—à–∏—Å—å, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ú—É—Å–∞. — –Ø –∂–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Ç–µ–±–µ –Ω–æ–∂.
–¢–∞–∫–æ–π –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç —è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª, –Ω–æ —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è «–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤» –ø–æ–∫–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª–∏ –º—ã—Å–ª–∏ «–∑–∞». –ú—É—Å–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–µ—Ç —É–∂–∏–Ω, –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –º–∏–Ω—É—Ç—É –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Å –ø–æ–¥–Ω–æ—Å–æ–º, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á—Ç–æ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—â–µ–µ –∑–∞–∫—É—Å–∫—É.
–¢–∞–∫ –æ–Ω–æ –∏ –±—ã–ª–æ. –ò–∑ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–≥–æ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞ –∂–∏–ª–µ—Ç–∫–∏ –ú—É—Å–∞ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç–≥—Ä–∞–º–º–æ–≤—É—é –±—É—Ç—ã–ª–æ—á–∫—É —Å–ø–∏—Ä—Ç–∞ «–ë—Ä—ã–Ω—Ü–∞–ª–æ–≤». –ù–∞ –ø–æ–¥–Ω–æ—Å–µ –¥–≤–∞ —Å–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω—ã—Ö –Ω–∞–ø–µ—Ä—Å—Ç–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Å—Ç–æ–ø–∫–∞–º–∏. –ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –≤—ã–ø–∏—Ç—å. –ü–µ—Ä–≤—ã–π —Ç–æ—Å—Ç — –∑–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥—É. –ú—É—Å–∞ –±—ã–ª –Ω–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤. –ü–æ—Å–ª–µ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ –Ω–∞–ø–µ—Ä—Å—Ç–∫–∞ –æ–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ —Å–µ–±–µ.
— –¢—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, —è –∑–¥–µ—Å—å –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∂–∏–≤—É? –ù–µ—Ç. –£ –º–µ–Ω—è –µ—Å—Ç—å —Å–µ–º—å—è –∏ –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–µ. –ù–æ —Å–µ–π—á–∞—Å —è –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—é —Ç–µ–±—è. –Ø —Å–∫—Ä—ã–≤–∞—é—Å—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –∫ –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –î—É–¥–∞–µ–≤, —è —É–∂–µ –¥–≤–∞ –≥–æ–¥–∞ —Å–∏–¥–µ–ª –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ, –≤ –∫–∞–º–µ—Ä–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤. –ó–∞ —Ç—Ä–æ–π–Ω–æ–µ —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–æ. –£ –º–µ–Ω—è –º–Ω–æ–≥–æ –≤—Ä–∞–≥–æ–≤-–∫—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤.
–í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–∏ –≤ –ß–µ—á–Ω–µ, –Ω–∏ –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ. –ù–∞–º, —Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–∏–∫–∞–º, —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –±–µ–∂–∞—Ç—å. –í–æ—Ç —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä –∏ –±–µ–≥–∞—é.
–ú—É—Å–∞ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –æ–Ω –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç –º–µ–Ω—è, –∏ —É–≤–µ—Ä—è–ª, —á—Ç–æ —Å–∏–¥–µ—Ç—å –≤ –∫–∞–º–µ—Ä–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤ –∫—É–¥–∞ –º–µ–Ω–µ–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ. –° —ç—Ç–∏–º —è –±—ã–ª —Å–æ–≥–ª–∞—Å–µ–Ω.
–í–æ—Ç —Ç–∞–∫, –≤—ã–ø–∏–≤ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –≥—Ä–∞–º–º–æ–≤ «–±—Ä—ã–Ω—Ü–∞–ª–æ–≤–∫–∏» –Ω–∞ –¥–≤–æ–∏—Ö, –º—ã –∏ —Ä–∞—Å—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å. –°–ø–∏—Ä—Ç «–ë—Ä—ã–Ω—Ü–∞–ª–æ–≤» –∏–∑ –ì—Ä—É–∑–∏–∏ –Ω–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä–∫—É –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –ø–æ–π–ª–æ–º, –Ω–µ –¥–æ—Ç—è–≥–∏–≤–∞—é—â–∏–º –¥–∞–∂–µ –¥–æ –≤–æ–¥–∫–∏. –ù–∞ —ç—Ç–∏–∫–µ—Ç–∫–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –Ω–µ—á—Ç–æ –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω—Å–∫–æ–µ. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —Ç–∞–∫ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—â–µ —É–π—Ç–∏ –æ—Ç –Ω–∞–ª–æ–≥–æ–≤.
–ö–æ–Ω—è —ç—Ç–æ–π –Ω–æ—á—å—é –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ –≤ –º–µ—Ç—Ä–µ –æ—Ç –º–æ–µ–π –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π. –í—Å—é –Ω–æ—á—å –ú—É—Å–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è—Ç—å –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –ª–∏ –∫–æ–Ω—å. –ó–∞–æ–¥–Ω–æ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–ª –∏ –º–µ–Ω—è.
–£—Ç—Ä–æ–º —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ—Ä–∞–ª –ø–µ—Ç—É—Ö. –°–≤–æ–ª–æ—á—å. –î–Ω–µ–º —è –¥–µ–ª–∞–ª –Ω–æ–∂–Ω—ã. –ù–∞ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ú—É—Å–∞ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞–ª –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤, –Ω–æ –∏ –æ—Ç –∫–∞–Ω–¥–∞–ª–æ–≤. –í –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–µ –±—ã–ª–æ –∂–∞—Ä–∫–æ. –õ–µ—Ç–∞–ª–∞ –≤—Å—è–∫–∞—è –Ω–∞—Å–µ–∫–æ–º–∞—è –Ω–µ—á–∏—Å—Ç—å, –Ω–æ –∫–æ–º–∞—Ä–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –∫—É—Å–∞–ª–∏ —Å–ª–µ–ø–Ω–∏.
–î–≤–∞ –¥–Ω—è —è –ø—Ä–æ–≤–æ–∑–∏–ª—Å—è —Å –¥–æ–≤–æ–¥–∫–æ–π –Ω–æ–∂–µ–Ω. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –µ—â–µ –¥–≤–∞ –¥–Ω—è –æ–±—à–∏–≤–∞–ª –∏—Ö –∫–æ–∂–µ–π. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –≤–µ—Å—å–º–∞ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ. –ö–æ –º–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª —á–∞—â–µ –∑–∞–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—Ç—å –º–∞–ª—å—á–∏–∫. –ß—Ç–æ–±—ã –µ–≥–æ —á–µ–º-—Ç–æ –ø–æ—Ä–∞–¥–æ–≤–∞—Ç—å, —è —Å–¥–µ–ª–∞–ª –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–æ–ø–µ–ª–ª–µ—Ä –Ω–∞ –ø–∞–ª–æ—á–∫–µ –∏ –ø—Ä–æ–¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –µ–º—É, –∫–∞–∫ –æ–Ω –ª–µ—Ç–∞–µ—Ç. –ú–∞–ª—å—á–∏–∫ –±—ã–ª –≤ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥–µ. –ú–Ω–µ —Ç–∞–∫ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –∏–≥—Ä—É—à–∫–∞ –≤ –µ–≥–æ –∂–∏–∑–Ω–∏. –û–Ω–∞-—Ç–æ –∏ —Å—ã–≥—Ä–∞–ª–∞ —Å –Ω–∏–º –∑–ª—É—é —à—É—Ç–∫—É. –ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –∏—Å—Ç–æ—à–Ω—ã–µ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–µ –∫—Ä–∏–∫–∏. –°—É–¥—è –ø–æ –≤—Å–µ–º—É, –ú—É—Å–∞ –≥–æ–Ω—è–ª—Å—è –∑–∞ —Å—ã–Ω–æ–º –∏ –±–∏–ª –µ–≥–æ. –í –æ–∫–æ—à–∫–æ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –±—å—ë—Ç –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞ –Ω–∞–≥–∞–π–∫–æ–π. –ù–∞ —Å–ø–∏–Ω–µ –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞ —É–∂–µ –±—ã–ª –æ–¥–∏–Ω –∫—Ä–æ–≤–æ—Ç–æ—á–∞—â–∏–π —Å–ª–µ–¥, –∞ –ú—É—Å–∞ –≥–æ–Ω—è–ª—Å—è –∑–∞ –Ω–∏–º —Å –ø–µ–Ω–æ–π —É —Ä—Ç–∞ –∏ –Ω–∞–æ—Ç–º–∞—à—å –ø–æ—Å–≤–∏—Å—Ç—ã–≤–∞–ª –Ω–∞–≥–∞–π–∫–æ–π.
–ö–∞–∫ –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, –º–∞–ª—å—á–∏–∫ –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–Ω—É—é –º–Ω–æ–π –∏–≥—Ä—É—à–∫—É. –Ø –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ú—É—Å—É –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è, —è —Å–¥–µ–ª–∞—é –µ—â–µ. –ù–æ —Ç–æ—Ç –±—ã–ª –Ω–µ–ø—Ä–µ–∫–ª–æ–Ω–µ–Ω.
— –û–Ω –¥–æ–ª–∂–µ–Ω —Å–ª—É—à–∞—Ç—å—Å—è! –û–Ω –¥–æ–ª–∂–µ–Ω…
–ú—É—Å–∞ —Å–∞–º –µ–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∏–ª–∏ –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –¥–µ–ª–∞—Ç—å –µ–≥–æ —Å—ã–Ω. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —ç–∫–∑–µ–∫—É—Ü–∏—è –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–º–∏–Ω—É–µ–º–∞. –ò –≤–æ—Ç –ø–æ–≤–æ–¥ –Ω–∞—à–µ–ª—Å—è.
— –¢—ã –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—à—å –Ω–∞—Å, —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –±—Ä—ã–∑–≥–∞—Ç—å —Å–ª—é–Ω–æ–π –ú—É—Å–∞. — –¢—ã —á—É–∂–æ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∞ —É –Ω–∞—Å —Ç–∞–∫ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ.
–ü–æ–∑–∂–µ —è —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –º–∞–ª—å—á–∏–∫ –ø—Ä–æ—É—á–∏–ª—Å—è –¥–≤–∞ –≥–æ–¥–∞ –≤ —à–∫–æ–ª–µ, –Ω–æ –±–æ–ª—å—à–µ —Ç—É–¥–∞ –Ω–µ –ø–æ–π–¥–µ—Ç. –•–≤–∞—Ç–∏—Ç. –ù–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –ï–≥–æ —Å—Ç–∞—Ä—à–∞—è —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞ –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–∞ –≤ —à–∫–æ–ª–µ. –ù–∏ –æ–Ω–∞, –Ω–∏ –±—Ä–∞—Ç –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏ –Ω–∏ —Å–ª–æ–≤–∞. –û–Ω–∏ –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ –ø—Ä–∏–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –≤–æ–¥—É –Ω–∞ —Ç–µ–ª–µ–∂–∫–µ. –≠—Ç–æ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ, –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Å—Ç–æ. –ù–æ —Ç–µ–ª–µ–∂–∫–∞ —Å –±–æ–ª—å—à–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–ª–∞ –ø–æ –∫–∞–º–µ–Ω–∏—Å—Ç–æ–π —Ç—Ä–æ–ø–∫–µ –æ—Ç –¥–æ–º–∞ –¥–æ —Ä—É—á—å—è. –Ø –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏—Å—å —Å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π –º–æ–ª–æ—á–Ω–æ–π —Ñ–ª—è–≥–æ–π. –ü–æ–¥–Ω—è—Ç—å –µ—ë, –¥–∞–∂–µ –ø—É—Å—Ç—É—é, —Ä–µ–±–µ–Ω–∫—É –Ω–µ –ø–æ–¥ —Å–∏–ª—É.
15 –∏—é–ª—è 1999 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –ê–ª–∏. –Ø –æ—á–µ–Ω—å –∂–¥–∞–ª –µ–≥–æ. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –ê–ª–∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –∏–¥—É—Ç, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –≤—Å–µ –≤—ã—è—Å–Ω–∏—Ç—Å—è, —è –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–æ—Å–ª–µ–∑–∏–ª—Å—è. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –ê–ª–∏ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ –≤–æ–π–Ω–µ, –Ω–æ –ú—É—Å–∞ —É—Ç–∞—â–∏–ª –µ–≥–æ –∏–∑ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞.
–ë–æ–ª—å—à–µ –ê–ª–∏, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. «–ü–æ–∂–∞–ª—É–π» –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –∏ –≤–∏–¥–µ–ª, —Ç–æ –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–ª. –¢–∞–∫–æ–µ –±—ã–≤–∞–ª–æ. –ê —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –¥–Ω—è –Ω–∞–¥ –º–æ–∏–º –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–º —Å—Ç–∞–ª–∏ –ª–µ—Ç–∞—Ç—å —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏.
–°–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã –ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–æ, –ø–∞—Ä–∞–º–∏, –≤–¥–æ–ª—å –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞. –õ–µ—Ç–µ–ª–∏ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫, –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω. –ö–∞–∫ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏, —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –Ω–æ —Ä–∞—Å–∫–∞—Ç—ã –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤ —Å–ª—ã—à–∞–ª –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –¥–Ω—è –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º —è —Å–∏–¥–µ–ª —É –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–≤–æ–π –ª–∞–º–ø—ã –∏ —á–∏—Ç–∞–ª. –ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –≤ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª–∞—Ö –∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞—Ö. –ù–∞ —É–ª–∏—Ü–µ –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ä–∞—Å–∫–∞—Ç—ã –≥—Ä–æ–º–∞. –í–¥—Ä—É–≥ —Ç–∞–∫ –∂–∞—Ö–Ω—É–ª–æ, —á—Ç–æ —Å–≤–µ—Ç –≤ –ª–∞–º–ø–µ –ø–æ–≥–∞—Å. –Ø —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±–ª–∏–∑–∫–∏–π —Ä–∞—Å–∫–∞—Ç –≥—Ä–æ–º–∞. –£—Ç—Ä–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–æ–º –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –ø–∞—Ä—ã —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–æ–≤, –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π –∏ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ–µ –æ–∂–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ. –ñ–µ–Ω–∞ –ú—É—Å—ã —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∞ –¥–µ—Ç–µ–π –∏ —É–≤–µ–ª–∞ –∏—Ö –∫—É–¥–∞-—Ç–æ.
–í –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –∑–ª–æ–π –ú—É—Å–∞ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º. –û—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è –æ—Ç –Ω–æ—á–Ω–æ–π –ø—Ä–∏–≤—è–∑–∏.
— –ü–æ—à–ª–∏, — —Ä–µ—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
–ú—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞. –ü–æ –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞-–¥–≤–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞ –±—ã–ª–∏ –≤–±–∏—Ç—ã –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ —Å—Ç–æ–ª–±–∏–∫–∏ –≤ –º–µ—Ç—Ä –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π. –ú–µ–∂–¥—É –Ω–∏–º–∏ –Ω–∞—Ç—è–Ω—É—Ç–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∞. –ü–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π. –í–∏–¥ —Å —ç—Ç–æ–π –Ω–∞–±–µ—Ä–µ–∂–Ω–æ–π –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω—ã–π, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ, –µ—Å–ª–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥. –ì–ª–∞–≤–Ω—ã–π –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç, —É–¥–∞–ª—è—è—Å—å, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª —Å–≤–µ—Ä–∫–∞—Ç—å —Å–Ω–µ–≥–∞–º–∏. –ö–∞–∑–±–µ–∫, –∑–∞–≤–µ—Ä—à–∞—é—â–∏–π –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤—É, –¥–∞–∂–µ —Å —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä–∞–∫—É—Ä—Å–∞ –±—ã–ª –≥—Ä–∞–Ω–¥–∏–æ–∑–µ–Ω.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ú—É—Å–∞. — –í–æ—Ç –≤–∏–¥–∏—à—å, –º—ã — —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ.
–Ø –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å. –¢–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º —É–∫–∞–∑–∞–ª –≤–Ω–∏–∑, –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —É—â–µ–ª—å—è. –ù–æ —è –æ–ø—è—Ç—å –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª.
— –¢—ã –Ω–æ—á—å—é –≤–∑—Ä—ã–≤—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª?
— –°–ª—ã—à–∞–ª, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è, — –Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ –≤–∑—Ä—ã–≤—ã, –∞ –≥—Ä–æ–º.
— –ß–µ—Ä—Ç–∞ —Å –¥–≤–∞, –≥—Ä–æ–º! — –Ω–µ —É–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –ú—É—Å–∞. — –ù–æ—á—å—é –∏ —É—Ç—Ä–æ–º –±–æ–º–±–∏–ª–∏ —Å–µ–ª–æ.
— –ê –ø—Ä–∏ —á–µ–º —Ç—É—Ç —Å–µ–ª–æ, –≤–µ–¥—å –≤–æ–π–Ω–∞ –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–µ.
— –ú–æ–∂–µ—Ç –∏ –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–µ, –∞ –±–æ–º–±–∏—Ç—å –±—É–¥—É—Ç –Ω–∞—Å. –°–ª–∞–≤–∞ –ê–ª–ª–∞—Ö—É, —á—Ç–æ —É–±–∏–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ—Ä–æ–≤—É —É –∞—Ä–º—è–Ω–∏–Ω–∞, —á—Ç–æ –∂–∏–≤–µ—Ç –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ. –ê –≤–æ–Ω —Ç–∞–º –≤–Ω–∏–∑—É –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏ –º–∞—à–∏–Ω—É –Ω–∞ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ — –∏ —Ä–∞–∑–±–æ–º–±–∏–ª–∏.
–í –º–µ—Å—Ç–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª, –≤—ã–∂–∂–µ–Ω–∞ —Ç—Ä–∞–≤–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –ø—è—Ç–Ω–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø–æ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å –¥–∏–∞–º–µ—Ç—Ä–æ–º. –ë–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–µ –æ—Ç –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ — –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Å—Ç–∞.
— –≠—Ç–æ –≤–æ—Ç –≤–∞—à–∏, —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ… — –ú—É—Å–∞ –Ω–µ–≥–æ–¥–æ–≤–∞–ª. –ú–Ω–µ –¥–∞–∂–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤—ã–≤–µ–ª –º–µ–Ω—è –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª.
— –Ø –≤—Å–µ—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö —Ä–∞—Å—Å–æ–≤–∞–ª –ø–æ —â–µ–ª—è–º –≤ —Å–∫–∞–ª–∞—Ö, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω, —á—É—Ç—å —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–≤—à–∏—Å—å. — –í–¥–æ–ª—å –≤—Å–µ—Ö –¥–æ—Ä–æ–≥ —Ä—ã—â—É—Ç —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã –∏ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—é—Ç –º–∞—à–∏–Ω—ã.
–ú—ã –¥–æ–ª–≥–æ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –Ø —Å–ª—É—à–∞–ª –ø—Ä–∏—á–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –ú—É—Å—ã –æ «—ç—Ç–∏—Ö —Ä—É—Å—Å–∫–∏—Ö» –∏ –¥—É–º–∞–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–µ –≤–æ—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –±—ã –≤—ã –ª—é–¥–µ–π, –Ω–µ –∏–∑–±—Ä–∞–ª–∏ –±—ã —Å–µ–±–µ –ª–æ–∑—É–Ω–≥–æ–º «–º–∏—Ä—É — –º–∏—Ä, —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞–º — –¥–µ–Ω—å–≥–∏», —Ç–∞–∫ –º–æ–∂–µ—Ç, –∏ –Ω–µ –ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –±—ã –∑–¥–µ—Å—å —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏.
— –ü—Ä–∏–¥–µ—Ç —Ç–∞–∫–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è, — –≤–µ—â–∞–ª –ú—É—Å–∞, — –∏ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è. –¢–∞–∫ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ –≤ –∫–æ—Ä–∞–Ω–µ. –ò —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–π–¥—É—Ç—Å—è –≤ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–π –±–∏—Ç–≤–µ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –∏ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ. –ò –≤–æ–∑—å–º—É—Ç —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω—É—é –º–µ—á–µ—Ç—å –ê–ª—å-–ê–∫—Å—É. –ò –≤–æ—Ü–∞—Ä–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ –º–æ–≥—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ –∞–ª–ª–∞—Ö–∞.
–Ø –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞—Ç—å –ú—É—Å–µ. –£–∂ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, –ê–ª—å-–ê–∫—Å—É –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è –æ—Ç–≤–æ–µ–º—ã–≤–∞—Ç—å —É –µ–≤—Ä–µ–µ–≤, –∞ –º–µ—á—Ç–∞ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤ –º–∏—Ä–µ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –∫—Ä–æ–º–µ –º–µ—á–µ–π, –º–æ–≥–ª–∞ –ø—Ä–∏–¥—Ç–∏ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–≤—è—Ç–æ–º—É –ú—É—Ö–∞–º–º–µ–¥—É —Ç—ã—Å—è—á—É —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ –ª–µ—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥.
–û—Ñ–∏—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–µ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ –æ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è—Ö –≤ –ö–∞—Ä–∞–º–∞—Ö–∏ –∏ –ß–∞–±–∞–Ω–º–∞—Ö–∏ —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –ø–æ —Ä–∞–¥–∏–æ –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å. –°–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã —Ç—É–¥–∞ –ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ. –û–¥–Ω–∏ –ø–∞—Ä–∞–º–∏ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏–µ, –¥—Ä—É–≥–∏–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å. –¶–µ–ª—ã–º–∏ –¥–Ω—è–º–∏ –≤–¥–æ–ª—å –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞ —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å –∫–∞–Ω–æ–Ω–∞–¥–∞ –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤. –ù–æ—á—å—é —Ç–æ–∂–µ –≥—Ä–æ–º—ã—Ö–∞–ª–æ, –Ω–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫ –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ.
–ú—É—Å–∞ —É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è.
— –ï—Å–ª–∏ –¥–∞–∂–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞ –ø–æ–ø–∞–¥–µ—Ç –≤ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥, –æ–Ω–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∏—Ç —Ç–µ–±–µ –≤—Ä–µ–¥–∞. –í–æ—Ç –µ—Å–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–µ — —Ç–æ–≥–¥–∞ –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ…
25 –∏—é–ª—è 1999 –≥–æ–¥–∞, –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ. –°–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –∑–∞–≤—ã–≤–∞—Ç—å –∏ –Ω–æ—á—å—é. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ —Ä–æ–≤–Ω–æ–µ –≥—É–¥–µ–Ω–∏–µ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–µ–π, –∞ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞—Ö–æ–¥—ã –Ω–∞ —Ü–µ–ª—å. –û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –Ω–æ—á—å—é —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —è–≤–Ω—ã–π –∑–∞—Ö–æ–¥ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∞ –≤ –Ω–∞—à—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ü–æ–ª–µ–∑ –ø–æ–¥ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –¢–∞–∫–∏—Ö –∑–∞—Ö–æ–¥–æ–≤ –±—ã–ª–æ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ. –í–∏–¥–∏–º–æ, –ø–∞—Ä–∞ –æ—Ç–±–æ–º–±–∏–ª–∞—Å—å —Å –¥–≤—É—Ö –∑–∞—Ö–æ–¥–æ–≤. –ö–∞–∫ —É—Ç—Ä–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏ –ø–æ –º–∞—à–∏–Ω–∞–º –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –í–æ–π–Ω–∞ —Ä–∞–∑–≥–æ—Ä–∞–ª–∞—Å—å.
–í –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –¥–Ω–µ–π –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∞—è –º–∞—à–∏–Ω–∞. –í–∏–¥–∏–º–æ, –ó–ò–õ. –ü–æ–Ω—è—Ç—å —Å—Ä–∞–∑—É —è —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥ –∏–∑-–∑–∞ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞ –∫–∞–ø–æ—Ç–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –¥–≤–æ–µ. –ï—â–µ –¥–≤–æ–µ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –∫—Ä—ã–ª—å—è—Ö –ø–µ—Ä–µ–¥–Ω–∏—Ö –∫–æ–ª–µ—Å, –¥–µ—Ä–∂–∞—Å—å, –∑–∞ —á—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–ª–æ. –û–¥–∏–Ω —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –∫–∞–±–∏–Ω–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –æ—á–µ–Ω—å –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ –±–ª–∏–∂–µ, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≤ –∫—É–∑–æ–≤–µ –æ—á–µ–Ω—å –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É —Å—Ç–æ—è—Ç –ª—é–¥–∏. –í–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏ –≤ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–µ. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã, —Å—É–¥—è –ø–æ –æ–±–∏–ª–∏—é –±–µ–ª—ã—Ö –ø–æ–≤—è–∑–æ–∫. –ì—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è —É –¥–æ–º–∞. –ú—É—Å–∞ –ø–æ—à–µ–ª –∫ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º, –∞ —è —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å –ª—é–¥–µ–π –∏ –º–∞—à–∏–Ω—É —Å–∫–≤–æ–∑—å –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏—è –≤ —Å—Ç–µ–Ω–µ –∏ –∫—Ä—ã—à–µ.
–≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã–µ. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—å –∫—É–∑–æ–≤–∞ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ú—É—Å–∞ –≤—ã–Ω–µ—Å –∏–º –≤–µ–¥—Ä–æ –≤–æ–¥—ã. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –ú—É—Å–∞ –∑–∞—à–µ–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª, —á—Ç–æ–±—ã —è —Å–∏–¥–µ–ª —Ç–∏—Ö–æ. –í —ç—Ç–æ—Ç –∂–µ –¥–µ–Ω—å –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –ø–æ—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å –±–µ–∂–µ–Ω—Ü—ã –∏–∑ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∏—Ö –∑–∞—à–µ–ª –∫ –ú—É—Å–µ. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –æ–Ω –µ–≥–æ –¥–∞–ª—å–Ω–∏–π —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫. –ú—É—Å–∞ –ø–æ–¥–∞—Ä–∏–ª –µ–º—É –Ω–∞ –ø–∞–º—è—Ç—å –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫ –∏ –∑–∞—á–µ–º-—Ç–æ –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª —Å–æ –º–Ω–æ—é. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞, —á—Ç–æ–±—ã –≤—ã–ø–∏—Ç—å. –û–Ω –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫ —Ç–∞–∑–∏–∫ —Å —Å–∞–ª–∞—Ç–æ–º, –Ω–∞–±—Ä–∞–ª –∏–∑-–ø–æ–¥ –Ω–µ—Å—É—à–µ–∫ —è–∏—Ü –∏ –ø–æ–Ω—ë—Å –∏—Ö –≤–∞—Ä–∏—Ç—å. –ë–µ–∂–µ–Ω—Ü–∞ –∑–≤–∞–ª–∏ –í–∞–≥–∏–∑–æ–º. –ù–µ–≤—ã—Å–æ–∫–æ–≥–æ —Ä–æ—Å—Ç–æ—á–∫–∞, —â—É–ø–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π, —Å–æ—Ä–æ–∫–∞ —Å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º –ª–µ—Ç. –û–Ω —Ä–µ—à–∏–ª —Å–æ –º–Ω–æ—é –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å, –Ω–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª –æ —á—ë–º. –¢–æ–≥–¥–∞ –µ–≥–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è:
— –ê –ø–æ—á–µ–º—É –≤—ã —Ä–µ—à–∏–ª–∏ —É–µ—Ö–∞—Ç—å –≤ –ß–µ—á–Ω—é? –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ —Ç–∞–∫–∞—è —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω–∞—è –≤–æ–π–Ω–∞?
— –í–æ–ø—Ä–æ—Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–π, — –∑–∞–¥—É–º–∞–≤—à–∏—Å—å, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –í–∞–≥–∏–∑. — –í–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, —è –¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–µ –±—ã–ª –Ω–∞ —Ä–æ–¥–∏–Ω–µ, — –æ–Ω —É–ª—ã–±–Ω—É–ª—Å—è, — –±–µ–∑ –∂–µ–Ω—ã. –ù–æ –±—ã–ª–∏ –∏ —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω—ã–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—ã. –ú–æ—è –∂–µ–Ω–∞ — –∏–∑ –ú–∞—Ö–∞—á–∫–∞–ª—ã. –Ø —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –∏ –≤—ã—Ä–æ—Å –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º. –ú—ã –≤—Å–µ –≤–∞–π–Ω–∞—Ö–∏, –∑–¥–µ—Å—å —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü—ã –Ω–µ—Ç. –ù–æ –≤–æ—Ç –ª—é–¥–∏ –ë–∞—Å–∞–µ–≤–∞ –≤–æ—à–ª–∏ –≤ –Ω–∞—à–µ —Å–µ–ª–æ. –≠—Ç–æ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –ß–∞–±–∞–Ω–º–∞—Ö–∏. –ù–∏–∫—Ç–æ –∏—Ö –Ω–µ –∑–≤–∞–ª. –û–Ω–∏ —Ü–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å —Ä–∞–∑—ä–µ–∑–∂–∞–ª–∏ –ø–æ —É–ª–∏—Ü–∞–º, –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –∏—Å–∫–∞–ª–∏. –ö –Ω–∞–º –≤ –¥–æ–º –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏, —É–∑–Ω–∞–≤, —á—Ç–æ —è —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. –õ—É—á—à–µ –±—ã –∑–∞—à–ª–∏. –ê –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞ –≤ —Å–µ–ª–µ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å. –ù–∞—Ä–æ–¥ — —Å–æ—Å–µ–¥–∏ — –ø–æ—à–ª–∏ –∫–æ –º–Ω–µ. –í–∞–≥–∏–∑, –∫—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª? –ó–∞—á–µ–º –ø—Ä–∏—à–ª–∏? –ö–æ–≥–æ –∏—Å–∫–∞–ª–∏? –ê —è –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –∑–Ω–∞—é?! –ù–æ –≤–∏–∂—É, –æ–Ω–∏ –∫–æ—Å—è—Ç—Å—è, –Ω–µ –≤–µ—Ä—è—Ç. –ß–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –∂–µ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ —Å–µ–ª–æ.
–£—Ç—Ä–æ–º — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ç–µ –∂–µ –ø–æ—è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è, –æ–ø—è—Ç—å –∏—â—É—Ç. –í–¥—Ä—É–≥, —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –∫–∞–∫ —à–∞—Ä–∞—Ö–Ω—É—Ç –ø–æ –æ–ø—É—à–∫–µ –ª–µ—Å–∞, –≤–∏–¥–∏–º–æ —Ç—É–¥–∞, –≥–¥–µ –±—ã–ª –∏—Ö –ª–∞–≥–µ—Ä—å. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –∏—Ö –ª–∏—Ü–∞. –û–¥–∏–Ω —Å –∫—Ä–∏–≤–æ–π –Ω–æ–≥–æ–π –∫—Ä–∏—á–∏—Ç: «–ü–æ—á–µ–º—É —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã? –û—Ç–∫—É–¥–∞ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã?! –ì–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤! –ù–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å–≤—è–∂–∏—Å—å —Å –®–∞–º–∏–ª—ë–º! –û—Ç–∫—É–¥–∞ —Ç—É—Ç —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã?!»
–ê –ø–æ—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö. –ñ–µ–Ω–∞ –º–Ω–µ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç: «–¢—ã –∏–¥–∏, –ø–µ—Ä–µ—Å–∏–¥–∏—à—å —Ç–∞–º, –≤ –ß–µ—á–Ω–µ, –∞ —É–∂ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏—Ç—Å—è —ç—Ç–∞ –∫–∞—Ç–∞–≤–∞—Å–∏—è, —Ç–∞–∫ –∏ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏». –û–Ω–∞ —É –º–µ–Ω—è —É–º–Ω–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —Ç—ã –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏.
— –ù–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ —Å–∫–∞–∂—É, — –ø–æ–æ–±–µ—â–∞–ª —è.
— –Ø –ø–æ–º–æ–≥ –∏–º –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –í–∞–≥–∏–∑, — –∞ –æ–Ω–∏ –º–µ–Ω—è –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∏ —Å—é–¥–∞. –ò–¥—Ç–∏ –ø–µ—à–∫–æ–º —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ú–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥—ã –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä —Ä—É–≥–∞—é—Ç—Å—è –Ω–∞ –®–∞–º–∏–ª—è. –ì–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, –®–∞–º–∏–ª—å –ø–æ–∫–ª—è–ª—Å—è –∏–º, —á—Ç–æ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –Ý–æ—Å—Å–∏—è –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞—Ç—å –Ω–∏ –∞–≤–∏–∞—Ü–∏—é, –Ω–∏ –º–æ—â–Ω—É—é –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏—é. –ù–µ –∑–Ω–∞—é, –∫–∞–∫ –æ–Ω –±—É–¥–µ—Ç –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∏–º–∏ –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞—à—ë–ª –ú—É—Å–∞ —Å –≤–∞—Ä—ë–Ω—ã–º–∏ —è–π—Ü–∞–º–∏ –∏ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç–≥—Ä–∞–º–º–æ–≤–æ–π –±—É—Ç—ã–ª–æ—á–∫–æ–π «–±—Ä—ã–Ω—Ü–∞–ª–æ–≤–∫–∏». –ù–æ –≥–æ—Å—Ç—å, —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –ø–æ–µ–≤, –æ—Ç –≤–æ–¥–∫–∏ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è. –Ø —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ú—É—Å–µ –∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏–∏. –î–∞ –∏ —Å–∞–º –ú—É—Å–∞ –ø–æ–∫—Ä—É—Ç–∏–ª –≤ –ø–∞–ª—å—Ü–∞—Ö —Å–≤–æ–π —Å–µ—Ä–µ–±—Ä—è–Ω—ã–π –Ω–∞–ø—ë—Ä—Å—Ç–æ–∫, –ø–ª–µ—Å–Ω—É–ª –≤ —Ä–æ—Ç –∏ –Ω–µ –ø–∏–ª –±–æ–ª—å—à–µ.
— –û–Ω–∏, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ –≤ –≤–æ–¥–∫–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ú—É—Å–∞. — –≠—Ç–æ –º—ã —Å —Ç–æ–±–æ–π –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–º –Ω–∞ –≤–µ—á–µ—Ä.
–í —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –ú—É—Å–∞ —Ä–∞–∑–¥–∞—Ä–∏–ª –≤—Å–µ –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∫ —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ —à—Ç—É–∫ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å. –ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —É—Ç—Ä–æ —è –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è –∑–∞ –∏—Ö —Å–µ—Ä–∏–π–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ. –ó–∞ —á–∞—Å –¥–µ–ª–∞–ª 4-5 —à—Ç—É–∫. –í –¥–µ–Ω—å — –¥–æ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏. –í—Å–µ–≥–æ –∂–µ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –∏ —Ä–∞–∑–¥–∞—Ä–µ–Ω–æ –±–µ–∂–µ–Ω—Ü–∞–º 450 —à—Ç—É–∫.
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤—Ç–æ—Ä–∂–µ–Ω–∏–µ –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–∞–≤–ª–µ–Ω–æ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Å–∏–ª–∞–º–∏, –º–∞—à–∏–Ω—ã –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –ø–æ—à–ª–∏ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ. –î–Ω–µ–º –∏ –Ω–æ—á—å—é. –ò —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–∏ –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω—ã –º–∞—à–∏–Ω –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω—ã–º–∏ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç–∞–º. –°–æ–∑–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º –¥–∞–ª–∏ «–∑–µ–ª–µ–Ω—É—é —É–ª–∏—Ü—É» –Ω–∞ –æ—Ç—Ö–æ–¥ –∏–∑ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –≤ –ß–µ—á–Ω—é. –ö–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞ –¥–≤–∏–≥–∞–ª–∞—Å—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ —ç—Ç–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –¢–∞–∫–∞—è –∂–µ –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω —à–ª–∞ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ì—Ä—É–∑–∏–∏. –ò –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–π –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–∏. –ï—Å–ª–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è «–ê–Ω—Ç–µ–π» — —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π «–ê–≤–∞–∫—Å» –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –≤–∏—Å–µ–ª –Ω–∞–¥ –≥–æ—Ä–∞–º–∏, —Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –æ—Ç—Ö–æ–¥ –≤–æ–π—Å–∫ –Ω–µ –≤–æ–µ–Ω–Ω–∞—è –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è, –∞ —Ç–∞–∫: –Ω–∞—Ä–æ–¥ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª—Å—è — –∏ –ª–∞–¥–Ω–æ. –ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–∞—è –±—ã–ª–∞ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è.
–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∞ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–∞—è –º–∞—à–∏–Ω–∞, –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –∫–æ –º–Ω–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞. –ù–∞ –≤–∏–¥ –µ–º—É –±—ã–ª–æ –ª–µ—Ç —Å–æ—Ä–æ–∫. –ú–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ú—É—Å–∞ –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –µ–º—É —Å–≤–æ—é –∫ –∫–æ–º—É-—Ç–æ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å. –ë–æ–µ–≤–∏–∫ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —Å–Ω—è–ª –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–Ω—É—é –∫–µ–ø–∫—É –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –ü–æ—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ —É—à–ª–∏. –ö–µ–ø–∫–∞ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–µ.
–ß–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –∏ –≤–æ–∑–º—É—â–∞–ª—Å—è.
— –í–æ—Ç, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –µ–º—É, —á—Ç–æ —Ç—ã –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª–µ—Ç—á–∏–∫, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–æ–º–æ–≥–∞—é –∏–º, –∞ –æ–Ω –≤–∑—è–ª –∏ —Ä–µ–∫–≤–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –º–æ—é –º–∞—à–∏–Ω—É.
— –û—Ç–æ–±—Ä–∞–ª–∏ «—à–µ—Å—Ç–µ—Ä–∫—É»?
— –ì–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç, —á—Ç–æ –≤–µ—Ä–Ω–µ—Ç. –ú–µ—Ä—Å–µ–¥–µ—Å –≤–µ—Ä–Ω–µ—Ç!
— –ß—Ç–æ —Å –µ–≥–æ —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫–æ–π –¥–µ–ª–∞—Ç—å?
— –ê —ç—Ç–æ –µ–≥–æ?
— –î–∞.
— –ù–æ—Å–∏…
–§—É—Ä–∞–∂–∫—É —è –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å. –£—Ç—Ä–æ–º –ú—É—Å–∞ —Å–Ω—è–ª —Å –º–µ–Ω—è –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª—ã. –Ø –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–∏–ª –∫ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –ø–∞—Ä—Ç–∏–∏ –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–æ–≤.
–ß–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å, –∫–æ–≥–¥–∞ —à–µ—Å—Ç—å –∏–∑–¥–µ–ª–∏–π —É–∂–µ –±—ã–ª–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã, –æ–¥–Ω–∞ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω, –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–≤—à–∏—Ö —Å —É—Ç—Ä–∞ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ —Å —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã–º–∏. –ö—Ä—ã—Ç—ã–π —Ñ—É—Ä–≥–æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫—É–∑–æ–≤–∞. –ö—É–∑–æ–≤ –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∫–∏ —Ç—è–∂–µ–ª–æ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö. –ò–∑ –Ω–µ–æ–±—Å—Ç—Ä—É–≥–∞–Ω–Ω—ã—Ö –¥–æ—Å–æ–∫ —Å–±–∏—Ç –∫–∞—Ä–∫–∞—Å. –õ–µ–∂–∞—á–∏–µ –º–µ—Å—Ç–∞ — –≤ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —É—Ä–æ–≤–Ω—è. –ü–ª–æ—Ç–Ω–æ –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É —Ç–∞–º –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –ª—é–¥–∏. –£ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–æ–≥–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ –≤—ã—Ç—è–∂–∫–µ, –∏ —è –Ω–µ –º–æ–≥ –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å—è—Ç –±–æ–ª—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –ø—Ä—ã–≥–∞–µ—Ç –ø–æ –∫–æ—á–∫–∞–º –¥–æ—Ä–æ–≥–∏.
–ú—É—Å–∞ –∑–∞–±–µ–∂–∞–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ –∑–∞–±—Ä–∞–ª –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∏. –Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –ª—é–¥—å–º–∏ —É –º–∞—à–∏–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—ã–ª–∞ –æ—Ç –º–µ–Ω—è –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏. –¢–∞–º –±—ã–ª–∏ –∏ –ú—É—Å–∞, –∏ –µ–≥–æ –∂–µ–Ω–∞, –∏ –¥–µ—Ç–∏. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, —Ç–µ –¥–µ—Ç–∏, —á—Ç–æ –º–æ–≥–ª–∏ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å —Å–∞–º–∏. –í—Å–µ–≥–æ-—Ç–æ –¥–µ—Ç–µ–π –±—ã–ª–æ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ. –ü—Ä–æ –¥–≤–æ–∏—Ö — –¥–µ—Å—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–Ω—é—é –¥–µ–≤–æ—á–∫—É –∏ –≤–æ—Å—å–º–∏–ª–µ—Ç–Ω–µ–≥–æ –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞ —è —É–∂–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª. –ë—ã–ª–∞ –µ—â–µ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞, —Ç—Ä–µ—Ö –ª–µ—Ç –∏ –º–ª–∞–¥–µ–Ω–µ—Ü. –Ø –µ–≥–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–ª—ã—à–∞–ª.
–¢–∞–º –∂–µ —É –º–∞—à–∏–Ω—ã –∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∏ —Å–æ–±–∞–∫–∞. –Ø –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –¥–≤–µ—Ä–∏ –∏ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞, –∏ —Å–∞—Ä–∞—è –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã –Ω–∞—Å—Ç–µ–∂—å. –î—É–º–∞—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∫–æ–≥–¥–∞. –Ø —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–Ω—É—é —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫—É –∏ –æ–¥–µ–ª –µ—ë. –ü—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è. –ü–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–Ω–∏—Ö –∑–≤—É–∫–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –Ø –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –Ω–∞—Ä—É–∂–Ω–æ–π –¥–≤–µ—Ä–∏ –∏ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –≤—ã—Å—É–Ω—É–ª—Å—è. –ù–∏–∫–æ–≥–æ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ä–µ—à–∏—Ç—å—Å—è –ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å —Å –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –ö–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —è –±—ã–ª –≥–æ—Ç–æ–≤ –∫ —ç—Ç–æ–º—É. –í—Å–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–º–µ—Ä–µ–Ω–æ –∏ –≤–∑–≤–µ—à–µ–Ω–æ. –£ –º–∞—à–∏–Ω—ã –≥—Ä–æ–º–∫–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç –∏ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∑–≤—É–∫–æ–≤ –ø–∞–¥–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –∫–∞–º–Ω–∏ –Ω–µ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç. –ü–æ—Å–ª–µ –ø—Ä—ã–∂–∫–∞ –Ω—É–∂–Ω–æ –º–∏–Ω—É—Ç—ã –¥–≤–µ, —á—Ç–æ–±—ã —Å–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –≤ —Å–∫–ª–∞–¥–∫–∞—Ö –∏–∑–≤–∏–ª–∏—Å—Ç–æ–≥–æ –æ–≤—Ä–∞–≥–∞. –í—Å–µ —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ, –Ω–æ –≤—Å–µ –Ω–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ. –ú–æ–≥—É—Ç –ø–æ–π–º–∞—Ç—å —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–µ—Å—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç, –µ—Å–ª–∏ —Ö–≤–∞—Ç—è—Ç—Å—è —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –º–∏–Ω—É—Ç—ã. –ú–æ–≥—É—Ç —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è —Ä–∞–Ω—å—à–µ –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç –º–µ–Ω—è –≤–Ω–∏–∑—É. –í–æ—Ç –±—É–¥–µ—Ç –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–∞—è –º–∏—à–µ–Ω—å –¥–ª—è —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–±—ã.
–ò –≤—Å–µ –∂–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–æ –º–µ–Ω—è –Ω–µ —ç—Ç–æ. –Ø –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–π–º—É —á—Ç–æ. –ù–∞–¥–µ–∂–¥ –Ω–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –≤—Å–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –∏ –º–µ–Ω—å—à–µ.
–Ý–µ—à–∏–ª –µ—â–µ —Ä–∞–∑ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å—Å—è. –ß—É—Ç—å –≤—ã—Å—É–Ω—É–ª –≥–æ–ª–æ–≤—É –Ω–∞–¥ —Å–∞–∫–ª–µ–π. –í—Å–µ —Ç–æ–ª–ø–∏–ª–∏—Å—å —Ç–∞–º, —É –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ñ–µ–ª–∞–Ω–∏–µ –±–µ–∂–∞—Ç—å –ø–æ–¥–∫–∞—Ç–∏–ª–æ –ø–æ–¥ –¥–∏–∞—Ñ—Ä–∞–≥–º—É, –º–µ–Ω—è –ø–æ—Ç—Ä—è—Å—ã–≤–∞–ª–æ. –î–æ –æ–±—Ä—ã–≤–∞, –¥–æ –º–µ—Å—Ç–∞, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å, –≤—Å–µ–≥–æ –¥–≤–∞ —à–∞–≥–∞. –î–≤–∞ —à–∞–≥–∞ –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É — –¥–≤–µ—Ä—å –≤ —Å–∞–∫–ª—é, —Ç—Ä–∏ — –≤ —Å–∞—Ä–∞–π. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π —è –≤—ã—Å—É–Ω—É–ª—Å—è –µ—â–µ —Ä–∞–∑. –ù–∞ –º–Ω–µ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫–∞, –Ω–æ –∏ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–Ω–∞—è –∫—É—Ä—Ç–∫–∞. –î–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –±—ã —è –∫–æ–º—É-—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞, –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –±—ã –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –≤—Å–µ —Ç–∞–∫–∏–µ, –∫—Ä–æ–º–µ –ú—É—Å—ã.
–ò –≤–¥—Ä—É–≥ —è –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª—Å—è –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ —Å —à–æ—Ñ–µ—Ä–æ–º –º–∞—à–∏–Ω—ã. –Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏–≥–Ω—É–ª—Å—è, –∞ –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –¥–≤–µ—Ä—å —Å–∞–∫–ª–∏, –∏ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ –≤—ã—à–µ–ª –±–æ–µ–≤–∏–∫. –°–µ—Ä–¥—Ü–µ —É–ø–∞–ª–æ –≤ –ø—è—Ç–∫–∏. –ù–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫ –ø–æ—à–µ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–∞—Ä–∞—è, —á—Ç–æ-—Ç–æ –±—Ä–æ—Å–∏–≤ –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏. –Ø –Ω–∞–≥–Ω—É–ª—Å—è, –±—É–¥—Ç–æ –æ—Ç—Ä—è—Ö–∏–≤–∞—è –ø—ã–ª—å —Å–æ —à—Ç–∞–Ω–æ–≤. –ï–º—É –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –º–µ–Ω—è –∑–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –¥–≤–µ—Ä—å—é —Å–∞–∫–ª–∏. –ë–æ–µ–≤–∏–∫ –ø–æ—à–µ–ª –∫ –º–∞—à–∏–Ω–µ, –æ–±—Ö–æ–¥—è —Å–∞–∫–ª—é –∏ —Å–∞—Ä–∞–π —Å–ø—Ä–∞–≤–∞, —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –º–æ–µ–≥–æ –æ–∫–æ—à–∫–∞ –∏–∑ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞. –ê —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è.
–ó–∞–±–µ–∂–∞–ª –≤ —Å–∞—Ä–∞–π –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –µ–≥–æ –Ω–∞ –Ω–∞—Ä—É–∂–Ω—É—é –≤–µ—Ä—Ç—É—à–∫—É. –ò–Ω—Å—Ç–∏–Ω–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ —Å–Ω—è–ª —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫—É –∏ –ø–æ–≤–µ—Å–∏–ª –µ–µ –Ω–∞ –≥–≤–æ–∑–¥—å. –Ø —É–∂–µ –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Å –¥–≤–µ—Ä—å—é –≤ –º–æ–π –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –û–±—ã—á–Ω–æ –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏–≤–∞–ª–∏–≤–∞–ª –µ—ë –±–æ–ª—å—à–∏–º –∫–∞–º–Ω–µ–º. –Ø –ø—Ä–∏–≤–∞–ª–∏–ª –∫–∞–º–µ–Ω—å –∫ –µ—â–µ –Ω–µ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –¥–≤–µ—Ä–∏. –í —â–µ–ª—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å, –ø—Ä–æ—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –ö–∞–º–µ–Ω—å –ø—Ä–∏–≤–∞–ª–∏–ª –¥–≤–µ—Ä—å, –∑–∞–∫—Ä—ã–≤ –µ–µ –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –µ–µ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –∏–∑–Ω—É—Ç—Ä–∏.
–ü—Ä–∏–ª—å–Ω—É–ª –∫ –¥—ã—Ä–∫–∞–º –ø–æ–¥ –∫—Ä—ã—à–µ–π. –Ø –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —è–∑—ã–∫–∞, –Ω–æ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –±—ã—Ç—å –¥—É—Ä–∞–∫–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –¥–æ–≥–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è –æ —á–µ–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ —à–æ—Ñ–µ—Ä –∏ —Ç–æ—Ç —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤–∏–¥–µ–ª –º–µ–Ω—è. –ß–µ—á–µ–Ω–µ—Ü —à–µ–ª —Å –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∞, –∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤–æ—Ç —á—Ç–æ:
— –ß—Ç–æ —ç—Ç–æ —Ç—ã —Ç–∞–º –ø–æ–¥–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª, — —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª —à–æ—Ñ–µ—Ä –∏ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Ä—É–∫–æ–π –Ω–∞ —Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ —è –ø–æ–¥–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª.
— –° —á–µ–≥–æ —ç—Ç–æ —Ç—ã –≤–∑—è–ª, —á—Ç–æ —è –±—É–¥—É –∑–∞ —Ç–æ–±–æ–π –ø–æ–¥–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—Ç—å? — —Å–º–µ—è—Å—å, –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –±–æ–µ–≤–∏–∫.
— –ê –∫—Ç–æ –∂–µ? –ë–æ–ª—å—à–µ —Ç–∞–º –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–ö –∏—Ö –¥–∏–∞–ª–æ–≥—É –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è –ú—É—Å–∞, —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∏ –ø–æ—à–µ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–æ–º–∞. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —è —É–∂–µ –ª–∏—Ö–æ—Ä–∞–¥–æ—á–Ω–æ —Å–Ω–∏–º–∞–ª –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–Ω—É—é –∫—É—Ä—Ç–∫—É. –û—Å—Ç–∞–ª—Å—è –≤ —Ä—É–±–∞—à–∫–µ –∏ –¥—Ä–∞–Ω—ã—Ö –±—Ä—é–∫–∞—Ö. –°–µ–ª –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ —Ä–∞–±–æ—á–µ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è –æ–±—Å—Ç—Ä—É–≥–∏–≤–∞—Ç—å –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É –ø–æ–¥ –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∏. –Ý—É–∫–∏ –¥—Ä–æ–∂–∞–ª–∏ –∏ –Ω–µ —Å–ª—É—à–∞–ª–∏—Å—å. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ú—É—Å–∞ —Å –∫–µ–º-—Ç–æ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ –¥–≤–µ—Ä–∏ —Å–∞—Ä–∞—è. –ú—É—Å–∞ —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª—Å—è. –°–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª–∏ —è –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç —Ç–µ–º –¥–≤—É–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º –Ω–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—É—é –≤–µ—Ä—Ç—É—à–∫—É. –ù–æ —Ç–µ –Ω–∞—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –≤–æ–π—Ç–∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –ú—É—Å–∞ –Ω–µ –ø–æ–º–Ω–∏–ª, –ø—Ä–∏–≤–∞–ª–∏–ª –æ–Ω –∫–∞–º–Ω–µ–º –¥–≤–µ—Ä—å –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞, –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç. –û–Ω —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –≤—ã–±–µ–∂–∞–ª —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∞–º–∏.
–û–Ω–∏ –≤–æ—à–ª–∏ –≤ —Å–∞—Ä–∞–π, –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ú—É—Å–∞ —Å —É–ª—ã–±–∫–æ–π –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω—å, –ø–æ–¥–ø–∏—Ä–∞–≤—à–∏–π –≤—Ö–æ–¥ –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –¢—É—Ç —è —Å —É–∂–∞—Å–æ–º –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —è –µ–¥–≤–∞ –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª—Å—è, –µ—Å–ª–∏ –∏ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª –º–µ–Ω—è –≤ –ª–∏—Ü–æ, –º–æ–≥ –ø–æ–¥ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π —Ç–æ–≥–¥–∞ –¥–≤–µ—Ä—å—é —Å–∞—Ä–∞—è —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –º–æ–∏ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏. «–ù—É–∂–Ω–æ –∏—Ö —Å–Ω—è—Ç—å!» — –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è —Å —É–∂–∞—Å–æ–º. –ù–æ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–æ. –ú–µ–Ω—è –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –∏ –ú—É—Å–∞ –∏ –æ–±–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞. –©–µ–ª–∏ –≤ –¥–æ—â–∞—Ç–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ –º–µ–∂–¥—É —Å–∞—Ä–∞–µ–º –∏ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–º –±—ã–ª–∏ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω—ã –¥–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ.
–î–≤–µ—Ä—å –æ—Ç–≤–æ—Ä–∏–ª–∞—Å—å. –í–æ—à–ª–∏ –ú—É—Å–∞, –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å –∏ —Ç–æ—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫.
— –ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å.
–Ø –∫–∏–≤–Ω—É–ª –∏ –≤—Å—Ç–∞–ª.
— –ê—Å—Å–∞–ª—è–º –∞–ª–µ–π–∫—É–º, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –∏–º, —á—É—Ç—å –∑–∞–º–µ—à–∫–∞–≤—à–∏—Å—å.
–ë–æ–µ–≤–∏–∫ —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–º –∏ –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–µ–Ω—è —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª.
— –ú–æ–ª–æ–¥–µ—Ü, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å, — —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–µ –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∏ –¥–µ–ª–∞–µ—à—å.
— –≠—Ç–æ –æ–Ω —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —É–º–µ–µ—Ç, — –≤—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ú—É—Å–∞.
— –¢–∞–∫ –∂–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, –∫–∞–∫ –∏ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –ø–æ –Ω–∞—à–∏–º –¥–æ–º–∞–º?
–Ø –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –ú—É—Å–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—ã–¥–∞–µ—Ç –º–µ–Ω—è –∑–∞ —Å–±–∏—Ç–æ–≥–æ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª–µ—Ç—á–∏–∫–∞.
— –û–Ω –Ω–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª, — –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª—Å—è –∑–∞ –º–µ–Ω—è –ú—É—Å–∞, — –æ–Ω –ª–µ—Ç–∞–ª –Ω–µ –Ω–∞ «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª–∞—Ö», –∞ –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω–æ–º. –Ý–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö –≤—ã–≤–æ–∑–∏–ª.
— –ê —á—Ç–æ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ –¥–µ–ª–∞–ª? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –±–æ–µ–≤–∏–∫.
–Ø –Ω–µ–¥–æ—É–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–∂–∞–ª –ø–ª–µ—á–∞–º–∏.
— –ù—É-–∫–∞, –Ω–∞–¥–µ–Ω—å —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫—É, — –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å.
–Ø –æ–ø—è—Ç—å –ø–æ–∂–∞–ª –ø–ª–µ—á–∞–º–∏.
— –û–¥–µ–Ω—å, –æ–¥–µ–Ω—å, — —Å—É–µ—Ç–∏–ª—Å—è –ú—É—Å–∞, –≥–¥–µ –æ–Ω–∞ —É —Ç–µ–±—è?
— –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—é.
–ú—É—Å–∞ —Å—Ç–∞–ª –∏—Å–∫–∞—Ç—å —Å–∞–º –∏ –Ω–µ –Ω–∞—à–µ–ª.
–û–Ω –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫–æ –º–Ω–µ –≤–ø–ª–æ—Ç–Ω—É—é.
— –ì–¥–µ —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫–∞?
— –ú—É—Å–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — –ø–æ-–º–æ–µ–º—É, —Ç—ã —É–Ω–æ—Å–∏–ª –µ–µ –≤—á–µ—Ä–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º.
–¢–æ—Ç –∑–∞–¥—É–º–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º, —Å–ª–∞–≤–∞ –±–æ–≥—É, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –≤–∏—Å—è—â—É—é –Ω–∞ –≥–≤–æ–∑–¥–µ –≤ —Å–∞—Ä–∞–µ —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫—É.
–û–Ω —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏, –∫–∞–∫ —è –ø–æ–Ω—è–ª –≤ —Ç–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ, —á—Ç–æ —Ñ—É—Ä–∞–∂–∫–∞ –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–æ–π, –∞ –¥–≤–µ—Ä—å –≤ —Å–∞—Ä–∞–π –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏–≤–∞–ª–µ–Ω–∞ –∫–∞–º–Ω–µ–º.
–û–Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å.
— –°—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–∞ —Ç–µ–±–µ, –º–∞–π–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å, — –ø—Ä–∏–µ–¥–µ—à—å –¥–æ–º–æ–π –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é, –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –≤–æ—é–π –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤.
— –û–Ω –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç, — –∑–∞–∏—Å–∫–∏–≤–∞—é—â–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ú—É—Å–∞.
–Ø —Å—Ç–æ—è–ª. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–π –º–Ω–æ–π –±–æ–µ–≤–∏–∫. –û–Ω —É–∂–µ –ø–æ—á—Ç–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –¥–≤–µ—Ä—å, –Ω–æ –≤–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª —Å–Ω–æ–≤–∞ –∏ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –º–æ–∏ –Ω–æ–≥–∏. –Ø –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –≤—Å–ø—ã—Ö–Ω—É–ª–∏ —É—à–∏, –∏ —Å –Ω–æ–≤–æ–π —Å–∏–ª–æ–π –∑–∞–∫–æ–ª–æ—Ç–∏–ª–æ—Å—å —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –¥–≤–µ—Ä—å, –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏–≤–∞–ª–∏–ª –µ–µ –∫–∞–º–Ω–µ–º –∏ –≤—Å–µ –≤—ã—à–ª–∏, —è –ø–æ—Å–º–µ–ª –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏ –Ω–æ–≥–∏. –ê –Ω–æ–≥–∏ –º–æ–∏ –±—ã–ª–∏ –≤ —à–ª–µ–ø–∞–Ω—Ü–∞—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¥–∞–ª –º–Ω–µ –ú—É—Å–∞ –∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —è –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –æ–±—É–≤–∞–ª. –ö–æ–≥–¥–∞ —è –ø–µ—Ä–µ–æ–±—É–ª—Å—è — –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é. –°–∫–æ—Ä–æ —è –Ω–∞—á–Ω—É –ø–æ–Ω–∏–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–∞—è –≥–æ—Ç–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç—å –∫ –ø–æ–±–µ–≥—É, –º–Ω–æ–≥–æ–µ –¥–∞–µ—Ç. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–µ—â–∏ –¥–µ–ª–∞–µ—à—å –ø–æ–¥—Å–æ–∑–Ω–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ.
–í —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ. –¢–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –Ω–∞—á–∞–ª –æ—Ç–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å –µ–¥—É –¥–ª—è –ø–æ–±–µ–≥–∞. –í –æ–±–µ–¥ –∏ —É–∂–∏–Ω —è –æ—Ç–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª —Ö–ª–µ–± –∏ –±—Ä—ã–Ω–∑—É. –û–Ω–∏ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ —Å—É—Ç–∫–∏, –ø–æ—Ç–æ–º —è —Å—ä–µ–¥–∞–ª –∏—Ö –∏ –æ—Ç–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª –Ω–æ–≤—ã–µ –∫—É—Å–∫–∏.
–ê –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω—ã –º–∞—à–∏–Ω –≤—Å–µ —à–ª–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Å–≤–æ–µ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —è –Ω–∞—Å—á–∏—Ç–∞–ª –±–æ–ª—å—à–µ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç. –ü—Ä–∏—á–µ–º, –º–Ω–æ–≥–∏–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–æ—á—å—é, –∏ —Å–æ—Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å –∏—Ö —è –Ω–µ –º–æ–≥. –ù–µ –º–µ–Ω–µ–µ –æ–∂–∏–≤–ª–µ–Ω–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –∏–∑ –ì—Ä—É–∑–∏–∏. –¢–∞, —á—Ç–æ —à–ª–∞ —Ç—Ä–µ–º—è—Å—Ç–∞–º–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞–º–∏ –Ω–∏–∂–µ –ø–æ –¥–Ω—É –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è.
–ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å, –≤ –Ω–µ–±–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã.
–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –¥–Ω–µ–º –ú—É—Å–∞ –æ–±—ä—è–≤–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –º—ã —Å –Ω–∏–º –ø–æ–∫—É—Ä–∏–º –∞–Ω–∞—à–∏.
— –¢—ã —Ä–∞–∑–≤–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –∫—É—Ä–∏–ª? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω –º–µ–Ω—è.
— –ù–µ—Ç.
— –¢–µ–±–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏—Ç—Å—è, — –ú—É—Å–∞ –∑–∞—Ä–∂–∞–ª.
–ö—É—Ä–∏—Ç—å –∞–Ω–∞—à—É –º–Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –µ–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –Ø —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ –±—É–¥—É —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å.
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –º–Ω–µ –µ–¥—É, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —É–∂–∏–Ω –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –æ–±–∏–ª—å–Ω—ã–π.
— –≠—Ç–æ —Ç—ã –∫–æ–≥–¥–∞ –∫—É—Ä–Ω—ë—à—å, — –¥–æ–ª–æ–∂–∏–ª –ú—É—Å–∞, — —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞—Ö–æ—á–µ—à—å –∂—Ä–∞—Ç—å.
— –ú—É—Å–∞, –¥–∞–≤–∞–π —è –Ω–µ –±—É–¥—É –∫—É—Ä–∏—Ç—å.
— –û–±–∏–∂–∞–µ—à—å, –≤–µ–¥—å —è —Ç–æ–∂–µ –±—É–¥—É –∫—É—Ä–∏—Ç—å —Å —Ç–æ–±–æ–π.
— –ê —Ç—ã –æ–¥–∏–Ω –Ω–µ –º–æ–∂–µ—à—å?
— –¢—ã –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—à—å, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω —É–≤–ª–µ—á–µ–Ω–Ω–æ. — –ù–∞–¥–æ –∫—É—Ä–∏—Ç—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ. –¢–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ.
— –ê —á—Ç–æ –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –ø–æ–≤–æ–¥—É –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –∏—Å–ª–∞–º?
— –ò—Å–ª–∞–º –ø–µ—Ä–µ—Ç–æ–ø—á–µ—Ç—Å—è, — –±–æ–¥—Ä–æ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª –ú—É—Å–∞.
–ö—É—Ä–∏—Ç—å –∞–Ω–∞—à—É —è –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –±–æ—è–ª—Å—è. –ú—É—Å–∞ —É–∂–µ –∑–∞–±–∏–≤–∞–ª –∫–æ—Å—è–∫. –û–Ω –ø–µ—Ä–µ–º–µ—à–∞–ª —Ç–∞–±–∞–∫ –æ—Ç «–ü—Ä–∏–º—ã» —Å —Ç—Ä–∞–≤–∫–æ–π –∏ –Ω–∞–±–∏–ª –∏–º —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É.
— –î–∞–≤–∞–π, — –æ–Ω –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ –∫–æ—Å—è–∫.
–î–µ–ª–∞—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –° –Ω–µ–æ—Ö–æ—Ç–æ–π —è –∑–∞–∫—É—Ä–∏–ª. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏—à–µ–ª —Å—ã–Ω –ú—É—Å—ã, –∏ –æ–Ω–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ, –ø–æ—Å–º–µ–∏–≤–∞—è—Å—å, –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª–∏ –∑–∞ –º–Ω–æ–π.
–ú—É—Å–∞ —É—á–∏–ª, –∫–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ –∑–∞—Ç—è–≥–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è. –° –≤–æ–∑–¥—É—Ö–æ–º. –Ø –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª, –Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞–∫–∞—à–ª—è–ª—Å—è.
— –ù—É —á—Ç–æ? –ß—É–≤—Å—Ç–≤—É–µ—à—å —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å?
— –ù–µ—Ç, –ú—É—Å–∞, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è.
— –î–∞–≤–∞–π —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–µ–º –ø–∞—Ä–æ–≤–æ–∑–∏–∫…
–ú–Ω–µ —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ —Ä–∞–Ω–æ. –ü–∞—Ä–æ–≤–æ–∑–∏–∫, —Ç–∞–∫ –ø–∞—Ä–æ–≤–æ–∑–∏–∫, —Ö–æ—Ç—è —è –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ.
–ö—É—Ä–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ú—É—Å–∞, — —Å—É–Ω—å –≤ —Ä–æ—Ç —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É –∏ –∑–∞—Ç—è–≥–∏–≤–∞–π—Å—è.
–Ø –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª—Å—è, –∞ –æ–Ω, –∫ –º–æ–µ–º—É —É–∂–∞—Å—É, –∫–∞–∫–∏–º-—Ç–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –Ω–∞–≥–Ω—É–ª—Å—è –∫ –º–æ–µ–º—É –ª–∏—Ü—É –ø–æ—á—Ç–∏ –≤–ø–ª–æ—Ç–Ω—É—é, –≤–∑—è–ª –≤ –≥—É–±—ã –¥—ã–º—è—â–∏–π—Å—è –∫–æ–Ω–µ—Ü –º–æ–µ–π —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã –∏ —Å—Ç–∞–ª —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—ë –≤–¥—É–≤–∞—Ç—å –≤ –º–µ–Ω—è –¥—ã–º. –ù–∏—á–µ–≥–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —è –Ω–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª. –¢–∞–∫ –∏ –≤—ã–∫—É—Ä–∏–ª —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞. –ò —Å–∏–¥–µ–ª, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—è. –ù–∏—á–µ–≥–æ —Å–æ –º–Ω–æ—é –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ. –ú—É—Å–∞ —Ç–æ–∂–µ –±—ã–ª —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω.
— –ï—Å—Ç—å –Ω–µ –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –ù–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è, — –≤—Å–µ, –∫–∞–∫ –æ–±—ã—á–Ω–æ.
–ò –≤–¥—Ä—É–≥ —è –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ —Ä–µ–∑–∫–æ —Å–ª–∞–±–µ—é. –ì–æ–ª–æ–≤–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å —è—Å–Ω–æ–π, –∞ —Ç–µ–ª–æ, —Ä—É–∫–∏ –∏ –Ω–æ–≥–∏, –±—É–¥—Ç–æ —Å–≤–∏–Ω—Ü–æ–º –Ω–∞–ª–∏–ª–∏—Å—å. –Ø —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º –ú—É—Å–µ. –¢–æ—Ç –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è. –û–Ω–∏ —Å —Å—ã–Ω–æ–º —Ä–∂–∞–ª–∏ –∏ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ä–∂–∞–ª–∏. –í–∏–¥–∏–º–æ –ú—É—Å—É –≤—Å–µ –∂–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–∞ –∞–Ω–∞—à–∞.
— –¢—ã, –±–µ–¥–æ–ª–∞–≥–∞, —Å–µ–ª –Ω–∞ –∏–∑–º–µ–Ω—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ú—É—Å–∞, —á—É—Ç—å –æ—Ç–æ–π–¥—è –æ—Ç —Å–º–µ—Ö–∞. — –¢–∞–∫–æ–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç —Ä–µ–¥–∫–æ. –ù–æ –±—ã–≤–∞–µ—Ç.
–ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∏ –Ω–∞—Ä–∂–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞–¥–æ –º–Ω–æ—é –≤–¥–æ–≤–æ–ª—å, —è –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è —É–π—Ç–∏ —Å–ø–∞—Ç—å. –ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ –∑–∞ —Å–≤–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ. –° –±–æ–ª—å—à–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º —è –ø—Ä–æ—Ç–∏—Å–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Å–≤–æ—é –∫–æ–Ω—É—Ä—É –∏ —É–ø–∞–ª –Ω–∞ –ø–æ—Å—Ç–µ–ª—å.
–î–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥ –∑–∞—Å–Ω—É—Ç—å, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º —Å–Ω–∏–ª–∏—Å—å –∂—É—Ç–∫–∏–µ —Å–Ω—ã: —è –æ—Ç –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ —É–±–µ–≥–∞–ª –∏ –Ω–µ –º–æ–≥ —Å–¥–≤–∏–Ω—É—Ç—å—Å—è —Å –º–µ—Å—Ç–∞. –ó–∞—Ç–æ –ø–æ–¥ —É—Ç—Ä–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–∞–æ—Ä–∞–ª –ø–µ—Ç—É—Ö, –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –Ω–µ —Å –ø—Ä–æ–∫–ª—è—Ç—å—è–º–∏, –∞ —Å –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –ª–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º: –æ—Ç «–∏–∑–º–µ–Ω—ã» –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –∏ —Å–ª–µ–¥–∞. –Ý—É–∫–∏ –∏ –Ω–æ–≥–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏. –ù–∞ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—è—Ö —è —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞—Å–Ω—É–ª, –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞—è –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ –∏—Å—Ç–æ—à–Ω–æ –∫—É–∫–∞—Ä–µ–∫–∞—é—â–µ–≥–æ –ø–µ—Ç—É—Ö–∞.
–¢—É—Ç —è —É–ø–æ–º—è–Ω—É–ª –æ –∫–æ–Ω—É—Ä–µ. –¢–∞–∫ –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –µ—â–µ –¥–æ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤–æ–π–Ω—ã –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–µ. –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫ –ø–ª–æ—Ç–Ω–∏–∫–∞ –∏ —Ç–æ—Ç –∑–∞ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –æ—Ç–≥–æ—Ä–æ–¥–∏–ª –º–Ω–µ –¥–æ—Å–∫–∞–º–∏ —É–≥–æ–ª. –í —É–≥–ª—É —É–º–µ—â–∞–ª–∞—Å—å –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∏ —Ç—É–º–±–æ—á–∫–∞. –í–º–µ—Å—Ç–æ –¥–≤–µ—Ä–∏ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ 50–•50 —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –Ω–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ –ø–æ—Å—Ç–µ–ª–∏. –ü–æ–ø–∞—Å—Ç—å –≤ –∫–æ–Ω—É—Ä—É –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ª–∏–±–æ —â—É—á–∫–æ–π, –ª–∏–±–æ, –∑–∞–±—Ä–æ—Å–∏–≤ —Ç—É–¥–∞ –æ–¥–Ω—É –Ω–æ–≥—É, –ø–æ—Ç–æ–º, –ø—Ä–æ—Ç–∏—Å–Ω—É–≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –∏ —Ç—É–ª–æ–≤–∏—â–µ, –≤—Ç–∞—â–∏—Ç—å –≤—Ç–æ—Ä—É—é. –ö–æ–Ω—É—Ä–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –∫—Ä—ã—à–∫–æ–π, –Ω–æ –∑–∞–ø–æ—Ä–∞ –Ω–∞ –∫—Ä—ã—à–∫–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –≤–µ–¥—Ä–æ –¥–ª—è —Å–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –Ω—É–∂–¥—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Å–Ω–∞—Ä—É–∂–∏, –≤ —Å–∞–º–æ–º –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∑–∞–ª–µ–∑ —Ç—É–¥–∞ –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –≤—ã–ª–µ–∑—Ç–∏, —Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —ç—Ç–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–æ-—Å–æ–±–∞—á—å–∏. –î–∞ –µ—â—ë —è –±—ã–ª –≤ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª–∞—Ö.
— –ù—É, –∫–∞–∫? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –ú—É—Å–∞.
— –°–∞–º –≤–∏–¥–∏—à—å! –°–æ–±–∞–∫–∞ –∏ —Å–æ–±–∞–∫–∞… — —Å –æ–±–∏–¥–æ–π –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. –ê –æ–±–∏–¥–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–æ —Å–ª–µ–∑.
19 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1999 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥. –î–≤–∞ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –ø–ª–µ–Ω–∞. –õ–µ—Ç–æ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ü–æ –ø–æ–≤–æ–¥—É –æ–±–º–µ–Ω–∞ –∏ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–≤ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –≤—Å–µ –º–µ–Ω—å—à–µ. –ú—É—Å–∞ –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –æ—Ç—Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å–∞–Ω–∏.
— –ö–æ–≥–¥–∞ –≤—ã–ø–∞–¥–µ—Ç —Å–Ω–µ–≥, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω, — –¥–æ —Å–µ–ª–∞ –Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω–µ —É–∂–µ –Ω–µ –¥–æ–µ—Ö–∞—Ç—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ª–æ—à–∞–¥—å –∏ —Å–∞–Ω–∏.
— –ê –µ—Å–ª–∏ –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –º–µ–Ω—è –±—É–¥—É—Ç –º–µ–Ω—è—Ç—å?
— –û—Ç–≤–µ–∑–µ–º –∫–∞–∫-–Ω–∏–±—É–¥—å, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –ú—É—Å–∞. — –ê –Ω–∞ –∑–∏–º—É —è –≤–æ–∑—å–º—É —Ç–µ–±—è –≤ –¥–æ–º. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç—ã –Ω–µ –±–æ–ª—å–Ω–æ –Ω–∞–¥–µ–π—Å—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã. –î–µ–ª–æ —ç—Ç–æ –¥–æ–ª–≥–æ–µ. –û–Ω–∏ –º–æ–≥—É—Ç –∏–¥—Ç–∏ –∏ –º–µ—Å—è—Ü, –∏ —Ç—Ä–∏, –∏ –≥–æ–¥… –ò –¥–≤–∞!
–í–æ—Ç —É–∂ —ç—Ç–∏–º –æ–Ω –º–µ–Ω—è —É–±–∏–ª –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –ù–∞–¥–µ–∂–¥–∞, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —É–º–∏—Ä–∞–µ—Ç –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —è —É–∂–µ –≤—Å–µ—Ä—å–µ–∑ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –∫ –±–æ–≥—É, –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–ª—Å—è –∏ –¥–∞–∂–µ –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª –Ω–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω–∏, –º–æ–ª—è –±–æ–≥–∞ –æ–± –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏. –ê —Å–∞–º –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–¥—É–º—ã–≤–∞–ª –ø–æ–±–µ–≥. –í–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç–æ–≤ –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ, –∏ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –∏—Ö –≤—Å–µ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ù–æ –∫–∞–∂–¥—ã–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö —è –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–≥—Ä—ã–≤–∞–ª –∏ –∏—Å–∫–∞–ª –∏–∑—ä—è–Ω—ã. –ò –∏—Å–∫–∞–ª –ø—É—Ç–∏ –∏—Ö –æ–±—Ö–æ–¥–∞.
–ó–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —á–∞—Å—Ç–æ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–∏–≤–∞—é—Å—å –∫ —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏. –¢–æ–π, —á—Ç–æ —É—Å–ø–µ–ª –ø—Ä–æ–∂–∏—Ç—å –∑–∞ —Å–≤–æ–∏ 44 –≥–æ–¥–∞. –û–± –æ—Ü–µ–Ω–∫–µ –µ–µ —è –¥—É–º–∞–ª –≤—Å–µ —á–∞—â–µ, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å «–≤—Å–µ–≥–¥–∞».
–í—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –ø—Ä–æ–∂–∏—Ç—ã–µ –≥–æ–¥—ã –≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–π –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–µ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ. –¢–∞–∫ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å. –î–∞–≤–∞–ª –æ—Ü–µ–Ω–∫–∏ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è–º –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —è —Å–¥–µ–ª–∞–ª —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ –¥–ª—è –ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–æ–≤. –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –ª–∏—à–µ–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã –∏ –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤ –∂–∏–∑–Ω–∏, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –ø—Ä–æ–∂–∏–≤–∞—Ç—å –∂–∏–∑–Ω—å –≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–º –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ. –í–∏–¥–∏–º–æ, —ç—Ç–æ —É—á–∞—Å—Ç—å –æ–±—Ä–µ—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö. –¢–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ–º—É-—Ç–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ —Å—É–¥—å–±–∞ –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è, –∞ –º–Ω–µ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–æ –±–æ–ª—å—à–µ. –Ø –¥–∞–∂–µ –º–æ–≥ –∞–Ω–∞–ª–∏–∑–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ.
–ü–æ –º–µ—Ä–µ —É–≥–ª—É–±–ª–µ–Ω–∏—è –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–π –≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–µ –æ–ø—É—Å—Ç–æ—à–∞–ª–∞—Å—å –º–æ—è –¥—É—à–∞. –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, —á–µ–≥–æ —Ç–∞–º —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –º–µ–Ω—å—à–µ, –Ω–æ —á–µ–≥–æ-—Ç–æ –º–µ–Ω—å—à–µ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å. –ò –≤–æ—Ç, –≤ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –∞–≤–≥—É—Å—Ç–æ–≤—Å–∫–∏—Ö –¥–Ω–µ–π, —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª, —á—Ç–æ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –≤—Å–µ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞. –î–æ —Å—Ç–µ–∫–ª—è–Ω–Ω–æ–π –¥–≤–µ—Ä–∏ –∫–∞–º—ã—à–ª–æ–≤—Å–∫–æ–π –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∑–∞–±–æ–ª–µ–ª –≤–æ—Å–ø–∞–ª–µ–Ω–∏–µ–º –ª–µ–≥–∫–∏—Ö –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –æ–¥–∏–Ω. –î–æ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏—è –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ü—ã—à–º—ã –Ω–∞ –ª–æ–¥–∫–µ —Å –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∞–º–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–µ–Ω—è –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞ —Ç–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É. –î–æ –∑–∞–Ω–æ–∑—ã, —á—Ç–æ –≤—ã—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∞ –∏–∑ –º–µ–Ω—è –±–∞–±–∫–∞ –°—Ç–µ–ø–∞–Ω–∏–¥–∞ –ù–∏–∫–∏—Ñ–æ—Ä–æ–≤–Ω–∞. –ò —Å —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –¥–Ω–µ –¥—É—à–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∞ — –ø–µ—Ä–≤–∞—è –∏ –±–µ–∑–æ—Ç–≤–µ—Ç–Ω–∞—è –ª—é–±–æ–≤—å. –° –¢–∞–Ω–µ—á–∫–æ–π –º—ã –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª–∏—Å—å –≤ –ø–∏–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–æ–º –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –≤ –°—Ç—É–¥–µ–Ω–æ–º –æ–≤—Ä–∞–≥–µ. –û–Ω–∞ —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∞ —É–∂–µ –≤ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π –∫–ª–∞—Å—Å, –∞ —è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥—Å–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º —Å–æ–≤–µ—Ç–∞ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞. –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∞ —É—á–∏–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–∞—à–µ–π —à–∫–æ–ª–µ —É –æ–∑–µ—Ä–∞ –Ω–∞ –ú–µ—Ç–∞–ª–ª—É—Ä–≥–µ. –Ø –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –µ—ë —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å, –∞ –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–≤—É—á–∞–ª–∞ –ø–µ—Å–Ω—è «–£ –º–æ—Ä—è, —É —Å–∏–Ω–µ–≥–æ –º–æ—Ä—è», —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ –º–æ—ë —Å–∂–∏–º–∞–ª–æ—Å—å, –∏ —è –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–π —Å—Ç–æ–ª–± –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å—Ç–æ–ª–æ–≤–æ–π –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ, –õ—ã—Å—É—é –≥–æ—Ä—É –∏ –µ—ë — –∂–∏–≤—É—é —Ç–æ–Ω–µ–Ω—å–∫—É—é –±—Ä—é–Ω–µ—Ç–∫—É.
–ú–æ–µ–π –ª—é–±–≤–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü. –ê–ª–∏–∫ –ê–ª—Ç—É—Ö–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–æ–∂–µ –≤–ª—é–±–∏–ª—Å—è –≤ –Ω–µ—ë –ø–æ —É—à–∏, –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –º–Ω–µ —Å–æ–∑–¥–∞—Ç—å –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏—é –ø–æ —Å–æ–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏—é –º–æ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤ –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∏. –ö–æ—Ä–æ—á–µ, –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ —Å–ª–µ–¥–∏—Ç—å –∑–∞ –Ω–µ—é, –≤—ã—è–≤–ª—è—Ç—å, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –∏–∑–æ–±–ª–∏—á–∞—Ç—å –≤—Å–µ –µ—ë –ª—é–±–æ–≤–Ω—ã–µ —Å–≤—è–∑–∏. –û—Å—Ç–∞—Ç–æ–∫ –ª–µ—Ç–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –ª–∞–≥–µ—Ä—è –º—ã —à–∞—Ä–∞—Ö–∞–ª–∏—Å—å –≤ –µ—ë –¥–≤–æ—Ä–µ, —á—Ç–æ –±—ã–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ —à–∫–æ–ª–æ–π. –°–ª–µ–¥–∏–ª–∏ –∑–∞ –Ω–µ—é, –Ω–æ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–µ —Å–º–µ–ª–∏. –°–ª–∏—à–∫–æ–º –≤–µ–ª–∏–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–æ–ø–∞—Å—Ç—å –º–µ–∂–¥—É –Ω–µ—é –∏ –Ω–∞–º–∏. –¶–µ–ª—ã–π –∫–ª–∞—Å—Å, —Ü–µ–ª—ã–π –≥–æ–¥.
–Ø –Ω–µ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è–ª –º–Ω–µ–Ω–∏—è –ê–ª–∏–∫–∞ –æ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞—à–µ–π –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–∞—Ü–∏–∏, –Ω–æ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø–æ–≤–æ–¥–æ–≤ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –¢–∞–Ω–µ—á–∫—É –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –Ø –ø–æ–ª—é–±–∏–ª –ø–æ—Ö–æ–¥—ã –≤ –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫—É. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å –¥–æ–º–æ–º –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∏ –∏ –∏–∑ –ø–æ–¥—ä–µ–∑–¥–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –±—ã–ª–∞ –±–∏–±–ª–∏–æ—Ç–µ–∫–∞, –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –µ—ë –æ–∫–Ω–æ. –Ø –º–æ–≥ —á–∞—Å–∞–º–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ —ç—Ç–æ –æ–∫–Ω–æ.
–ö–æ–≥–¥–∞ –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∞ –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞–ª–∞ –Ω–∞ –ü—Ä–æ—Å–ø–µ–∫—Ç –ú–µ—Ç–∞–ª–ª—É—Ä–≥–æ–≤, —è –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Å–∞–¥–∏–∫ –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —á–∞—Å–∞–º–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ –µ—ë –æ–∫–Ω–∞.
–¢–∞–Ω–µ—á–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –æ—á–µ–Ω—å —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–ª–∏–≤–∞. –û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –æ–Ω–∞ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∞ –≤ –∞–∫—Ç–æ–≤–æ–º –∑–∞–ª–µ —à–∫–æ–ª—ã —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–º–µ–¥–∏–µ–π. «–õ—ë–ª—å–∫–∞, –õ—ë–ª—å–∫–∞, —Ç—ã –≤—Å—ë —Å–ø–ª–∏—à—å? –ù—É –∏ —Å–ø–ª–∏. –ê —è –≤—Å—ë —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é! –Ø –∏–∑ –º–∞–º–∏–Ω–æ–π –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏ —É–∂–µ –ø—è—Ç—É—é –ø—Ä—É–∂–∏–Ω–∫—É –≤—ã–¥–µ—Ä–Ω—É–ª–∞!» –Ø –Ω–µ –º–æ–≥ –∑–∞–π—Ç–∏ –≤ –∞–∫—Ç–æ–≤—ã–π –∑–∞–ª. –Ø –±—ã–ª —É–≤–µ—Ä–µ–Ω, —á—Ç–æ –ø—Ä—è–º–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –∂–µ –≤—Å–µ —É–≤–∏–¥—è—Ç –º–æ–∏ —á—É–≤—Å—Ç–≤–∞ –∏ —Å—Ç–∞–Ω—É—Ç –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –∏ —Å–º–µ—è—Ç—å—Å—è. –Ø —Å—Ç–æ—è–ª –≤ –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–µ —á–µ—Ç–≤—ë—Ä—Ç–æ–≥–æ —ç—Ç–∞–∂–∞ –∏ —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–Ω–æ —Å–ª—É—à–∞–ª –µ—ë –≥–æ–ª–æ—Å.
–ü–æ—Å–ª–µ —á–µ—Ç–≤—ë—Ä—Ç–æ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞ —Ñ–æ—Ç–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—é –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∏ –ø–æ–≤–µ—Å–∏–ª–∏ –Ω–∞ –¥–æ—Å–∫—É –ø–æ—á—ë—Ç–∞. –Ø –¥–æ–ª–≥–æ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –µ—ë –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ —É–∫—Ä–∞—Å—Ç—å, –Ω–æ —Ñ–æ—Ç–æ —É–∫—Ä–∞–ª–∏ –±–µ–∑ –º–µ–Ω—è. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –ê–ª–∏–∫ –ê–ª—Ç—É—Ö–æ–≤.
–¢–∞–∫ –≤—Å—ë –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ –¥–µ—Å—è—Ç–æ–≥–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∞. –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∞ —à–∫–æ–ª—É –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞, –∞ –º–Ω–µ –µ—â—ë –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª –≥–æ–¥ —É—á—ë–±—ã. –ë–æ–ª—å—à–µ —è –µ—ë –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É.
–£–∂–µ –≤ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–º —É—á–∏–ª–∏—â–µ –±–µ–∑–æ –≤—Å—è–∫–æ–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã –Ω–∞ –æ—Ç–≤–µ—Ç –ø–æ–∑–¥—Ä–∞–≤–∏–ª —Å –ù–æ–≤—ã–º –≥–æ–¥–æ–º. –ê –¥–µ—Å—è—Ç—å –ª–µ—Ç —Å–ø—É—Å—Ç—è, —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ, —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–µ—Ç—å–∏—Ö –ª–∏—Ü —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∫–µ —ç—Ç–æ–π –æ–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å.
–ò –≤–æ—Ç —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–Ω–µ –¥—É—à–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∞. –ò –±–ª–µ—Å—Ç–∏—Ç –Ω–µ—Ç—Ä–æ–Ω—É—Ç–æ–π —Å–≤—è—Ç–æ–π –∂–µ–º—á—É–∂–∏–Ω–æ–π. –ü–æ—á–µ–º—É? –ü–æ–Ω—è—Ç–∏—è –Ω–µ –∏–º–µ—é. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —ç—Ç–∞ –ª—é–±–æ–≤—å –±—ã–ª–∞ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–µ–π. –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –æ –Ω–µ–π –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª. –î–∞–∂–µ —Å–µ–π—á–∞—Å, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–∏—à—É —ç—Ç–∏ —Å—Ç—Ä–æ–∫–∏, –æ–ø–∞—Å–∞—é—Å—å, –∫–∞–∫ –±—ã –æ–Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –æ–±–µ—Å—Ü–µ–Ω–∏–ª–∞—Å—å. –ù–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏. –° –Ω–µ—é —É–∂–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –ò –¥–∞–∂–µ –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å –µ—ë –±—ã–ª–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ª—é–±–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è.
–ê –≤–æ—Ç —Å –æ—Ü–µ–Ω–∫–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —á—Ä–µ–∑–º–µ—Ä–Ω—É—é —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ—Å—Ç—å –∫ —Å–µ–±–µ –∏ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω—É—é –±–æ—è–∑–Ω—å –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –∫ —ç—Ç–æ–π –æ—Ü–µ–Ω–∫–µ, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∂–∏–∑–Ω—å –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –í–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, –¥–µ—Ç–∏. –ö–∞–∫ –Ω–∏ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å—É–¥—å–±–∞, –Ω–æ –¥–µ—Ç–∏ –≤—ã—Ä–æ—Å–ª–∏. –ê –ù–∞—Ç–∞—à–µ–Ω—å–∫–∞ —Ä–∞—Å—Ç—ë—Ç –Ω–∞ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å —Å–º—ã—à–ª—ë–Ω–∞—è –∏ —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–ª–∏–≤–∞—è. –°–æ–∑–¥–∞–Ω–∞ «–°–∏–º–º–µ—Ç—Ä–∏—á–Ω–∞—è –≤–∞–∫—É—É–º–Ω–∞—è —Ç–µ–æ—Ä–∏—è –ø–æ–ª—è». –≠—Ç–æ —è —É–∂–µ –∫–∞–∫ —Ñ–∏–∑–∏–∫-—Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏–∫ —Å–º–æ–≥ –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å —Å–≤–æ–π –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–ø—è—Ç–∏–ª–µ—Ç–Ω–∏–π —Ç—Ä—É–¥. –î–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –≤–Ω–µ–¥—Ä–µ–Ω–∏—è, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –Ω—É–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –∏–ª–∏ —Å–≤–µ—Ä—Ö–º–æ—â–Ω—ã—Ö —Ñ–æ—Ç–æ–Ω–Ω—ã—Ö —ç–Ω–µ—Ä–≥–æ—Å–∏—Å—Ç–µ–º –±—ã–ª–æ –µ—â–µ –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –ò –∑–¥–µ—Å—å —É–∂–µ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –Ω–µ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫–∞, –∞ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤. –ù–æ –∫—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –æ–±—ä–µ–∫—Ç — –µ–≥–æ —É–∂–µ –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –Ω–µ —Å–ø–∏—à–µ—à—å. –í–æ–Ω –í–∏—Ç—å–∫–∞ –ö–æ—Ä—É—Ö–æ–≤ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –µ–≥–æ —Å–≤–æ–π—Å—Ç–≤ –∑–∞—â–∏—Ç–∏–ª –∏ –∫–∞–Ω–¥–∏–¥–∞—Ç—Å–∫—É—é, –∏ –¥–æ–∫—Ç–æ—Ä—Å–∫—É—é. –í –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç–∏–∫–µ —è —Ç–æ–∂–µ –∫–æ–µ-—á–µ–≥–æ –¥–æ–±–∏–ª—Å—è. –ó–∞ –¥–≤–∞ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –¥–æ –ø–ª–µ–Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª –ª–∞—É—Ä–µ–∞—Ç–æ–º –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–∏–Ω–æ—Ñ–µ—Å—Ç–∏–≤–∞–ª—è. –î–∞ –∏ –õ–µ—à–∫—É –ë–µ–∑–ª–∏–ø–∫–∏–Ω–∞ —Å–º–æ–≥ –≤—ã—Ç–∞—â–∏—Ç—å –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞ —É –®–∞–º–∏–ª—è –ë–∞—Å–∞–µ–≤–∞ –≤ 1995 –≥–æ–¥—É. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –≤–æ—Ç —Å–∞–º –≤–ª–µ—Ç–µ–ª…
–ò –≤–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞, –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥—É—à–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –ø—É—Å—Ç–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–∞–º —Å–µ–±—è –æ—Ü–µ–Ω–∏–ª, —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –≥–æ—Ç–æ–≤. –ö —á–µ–º—É –≥–æ—Ç–æ–≤, —è –±–æ—è–ª—Å—è —Å–µ–±–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å—Å—è, –Ω–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å. –ì–æ—Ç–æ–≤ –∫ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏. –ù–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∫ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏. –Ø –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –±–µ–∂–∞—Ç—å. –Ø –µ—â—ë –º–æ–ª–∏–ª—Å—è –±–æ–≥—É, –Ω–æ –≤—Å—ë —á–∞—â–µ —É–ª–∏—á–∞–ª —Å–µ–±—è –≤ —Ñ–∞—Ä–∏—Å–µ–π—Å—Ç–≤–µ –∏ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª —Å–ª–æ–≤–∞ –ì—ë—Ç–µ –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –ø–æ–≤–æ–¥—É: «–ï–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞–Ω–∏–µ –±–æ–≥—É, —ç—Ç–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –µ–≥–æ –Ω–µ—Ç». –ò –¥–∞–∂–µ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è —ç—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç–æ—á–Ω–æ–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ, —è –ø—É–≥–∞–ª—Å—è —Å–≤–æ–∏—Ö –º—ã—Å–ª–µ–π –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è. –ê –≤–¥—Ä—É–≥ –µ—Å—Ç—å?! –ê –≤–¥—Ä—É–≥, –±—É–¥–µ—Ç —à–∞–Ω—Å, –∏ –º–Ω–µ –ø–æ –Ω–µ–≤–µ—Ä–∏—é –µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤—è—Ç? –¢–æ–ª—å–∫–æ —à–∞–Ω—Å! –í—Å—ë –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ —è —Å–¥–µ–ª–∞—é —Å–∞–º. –í–æ—Ç —Ç–∞–∫–∏–µ –±—ã–ª–∏ –¥–µ–ª–∞. –Ø –±–æ—è–ª—Å—è –±–æ–≥–∞. –ö–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–µ –º–Ω–µ —É–∂–µ –Ω–µ—á–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –±–æ—è—Ç—å—Å—è…
25 –∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1999 –≥–æ–¥–∞, —Å—Ä–µ–¥–∞. –Ý–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º –∫–æ –º–Ω–µ –∑–∞—à—ë–ª –ú—É—Å–∞. –í –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–µ –∏ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º. –û–Ω —Å–Ω—è–ª —Å –º–µ–Ω—è –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ –æ–¥–µ–ª –¥—Ä—É–≥–∏–µ. –ü—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–ª –∫–∞–Ω–¥–∞–ª—ã –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –≤–µ—Ä–Ω—ë—Ç—Å—è —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–∞—Å–æ–≤. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è, —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏–µ. –•–æ—Ç–µ–ª–∏ —É–∫—Ä–∞—Å—Ç—å —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞.
— –í–æ–Ω —Ç–∞–º, — –ú—É—Å–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞, — —Å—Ç–æ–∏—Ç –±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤. –ú–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –∂–∏—Ç–µ–ª–∏ –Ω–∞–º —Å–æ–æ–±—â–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ —Ç—Ä–æ–µ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç —Ö–æ–¥—è—Ç –≤–Ω–∏–∑, –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—é –∑–∞ –º–æ–ª–æ–∫–æ–º. –í–æ—Ç –º—ã –∏ –±—ã–ª–∏ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –≤ –∑–∞—Å–∞–¥–µ, —á—Ç–æ–±—ã –≤–∑—è—Ç—å –æ–¥–Ω–æ–≥–æ.
— –ü–æ—á–µ–º—É –∂–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ, –ú—É—Å–∞, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ù–∞—Å –ø—è—Ç–µ—Ä–æ, —Å —Ç—Ä–µ–º—è –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –Ω–∞–º –Ω–µ —Å–ª–∞–¥–∏—Ç—å. –î–≤–æ–∏—Ö — –≤ —Ä–∞—Å—Ö–æ–¥, –∞ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–¥–∞–¥–∏–º.
— –£–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤–∑—è—Ç—å?
— –ù–µ—Ç. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –∏—Ö –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
— –ê –¥–æ—Ä–æ–≥–æ –ª–∏ –≤–æ–∑—å–º—ë—Ç–µ –∑–∞ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–Ω–∏–∫–∞?
— –ó–∞ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞? — –ú—É—Å–∞ –∑–∞–¥—É–º–∞–ª—Å—è. — –ó–∞ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –¥–∞–¥—É—Ç –±–æ–ª—å—à–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ —Ç—ã—Å—è—á –±–∞–∫—Å–æ–≤.
— –ü–æ—á–µ–º—É –∂–µ –∑–∞ –º–µ–Ω—è —Ç—Ä–µ–±—É—é—Ç –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω?
— –¢—ã — –∫–∞—Ç–µ–≥–æ—Ä–∏—è –æ—Å–æ–±–∞—è. –ñ—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç. –ó–∞ —Ç–µ–±—è –º–µ–Ω—å—à–µ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –î—Ä—É–≥–æ–µ –¥–µ–ª–æ, —á—Ç–æ –¥–æ–ª–≥–æ —ç—Ç–æ –≤—Å—ë —Ç—è–Ω–µ—Ç—Å—è.
–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å –≤—ã–ª–∞–∑–∫–∞ –ú—É—Å—ã –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª–∞—Å—å. –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –∑–ª–æ–π –∏ –≤–µ—Å—å –≤ –∫—Ä–æ–≤–∏. –ù–∏—á–µ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª, –Ω–æ –º–Ω–µ —Ç–∞–∫ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∏–º —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤–∑—è—Ç—å –≤ –ø–ª–µ–Ω —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞. –ú–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—å—à–µ –¥–∞–≤–∞—Ç—å –µ—Å—Ç—å, –ú—É—Å–∞ –≤—Å—ë —á–∞—â–µ —É—Ö–æ–¥–∏–ª –∏–∑ –¥–æ–º—É –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ –∏ –Ω–∞–¥–µ–≤–∞–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –≤—Å–µ –∂–µ–ª–µ–∑–∫–∏. –ê –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ — —Ç–µ, —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–Ω –±—Ä–∞–ª —Å —Å–æ–±–æ–π –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑, –∫–æ –º–Ω–µ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å.
30¬Ý–∞–≤–≥—É—Å—Ç–∞ 1999 –≥–æ–¥–∞, –ø–æ–Ω–µ–¥–µ–ª—å–Ω–∏–∫. –ú—É—Å–∞ —Ö–æ—á–µ—Ç –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è –∫–æ—Å–∏—Ç—å —Å–µ–Ω–æ, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ–¥—É–º—ã–≤–∞–µ—Ç. –ó–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞ –≤—Å–µ –∑–∞–º–∫–∏, –±–µ—Ä–µ—Ç –º–æ—Ç–æ–∫–æ—Å–∏–ª–∫—É –∏ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º —É—Ö–æ–¥—è—Ç —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–µ –¥–µ—Ç–∏ –∏ —Å–æ–±–∞–∫–∞. –î–æ–º–∞ –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –∂–µ–Ω–∞ —Å –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º–∏ –¥–µ—Ç—å–º–∏.
–Ø —Å–Ω—è–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ –∫–∞–Ω–¥–∞–ª—ã. –≠—Ç–æ —è –º–æ–≥ –¥–µ–ª–∞—Ç—å —É–∂–µ –≤–∏—Ä—Ç—É–æ–∑–Ω–æ. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –¥–æ–ª–≥–æ –º—É—á–∏–ª—Å—è —Å –æ—Ç—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–æ–π —Å–Ω—è—Ç–∏—è –∏ –æ–¥–µ–≤–∞–Ω–∏—è –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã—Ö –∫–∞–Ω–¥–∞–ª–æ–≤. –°–Ω—è—Ç—å –∏—Ö –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ. –î–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞–≤–µ—Å–Ω–æ–π –∑–∞–º–æ–∫ —Å–∫–æ–±—ã —Å—Ç–∞–≤–∏–ª—Å—è –≤ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ. –°—Ç—É–ø–Ω—è –∏–∑–≥–∏–±–∞–ª–∞—Å—å —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—é—Ç –±–∞–ª–µ—Ä–∏–Ω—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–Ω—è—è —á–∞—Å—Ç—å –ª–æ–¥—ã–∂–∫–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—Å—è –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–∞ —Å—Ç—É–ø–Ω–µ. –ü–æ—Ç–æ–º — —Ä–∞–∑ — –∏ –Ω–æ–≥–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥–µ. –ù–∞–¥–µ—Ç—å –∫–∞–Ω–¥–∞–ª—ã –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–ª–æ–∂–Ω–µ–µ. –¢—Ä–µ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö –Ω–µ–¥–µ–ª—å, –∏ –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å –≤—Ä–µ–º—è –∏—Ö –Ω–∞–¥–µ–≤–∞–Ω–∏—è —Å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –º–∏–Ω—É—Ç –¥–æ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞ —Å–µ–∫—É–Ω–¥.
–î–∞–≤–Ω–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –∫—É—Ä—ã –≤—ã—Ä—ã–ª–∏ –≥–ª—É–±–æ–∫—É—é —è–º—É –ø–æ–¥ —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π –º–µ–∂–¥—É —Å–∞—Ä–∞–µ–º –∏ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–æ–º. –°—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å—à–∏—Ä—è—Ç—å –µ—ë —Å —Ç–µ–º —Ä–∞—Å—á—ë—Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–ª–µ–∑—Ç—å —Å–∞–º–æ–º—É. –°–¥–µ–ª–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –¥–ª—è –ú—É—Å—ã. –ß—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–ª–µ–∑—Ç—å, –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —è–º—É –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ–ª–æ–≥–æ–π, —á–µ–º —è –∏ –∑–∞–Ω—è–ª—Å—è.
–ü–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Å–ª–µ–¥–∏–ª –∑–∞ —Ç–µ–º, –≥–¥–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –ú—É—Å–∞, –¥–µ—Ç–∏ –∏ —Å–æ–±–∞–∫–∞. –î–æ –Ω–∏—Ö –ø–æ –ø—Ä—è–º–æ–π –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏. –ï—Å–ª–∏ –∏–¥—Ç–∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π –ø–æ –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞ — –≤—Å–µ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç.
–ö–æ–≥–¥–∞ –ú—É—Å–∞ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è, —è –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã –∏ –ø–∞–∫–æ–≤–∞–ª—Å—è –≤ —Å–≤–æ—ë –∂–µ–ª–µ–∑–æ. –ú—É—Å–∞ –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –¥–æ –¥–æ–º—É –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –∑–∞ –≤–æ—Å–µ–º—å –º–∏–Ω—É—Ç. –ß–∞—Å–æ–≤ –∫ —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ò—Ö –∑–∞–±—Ä–∞–ª –ú—É—Å–∞. –ù–æ –∏ —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –º–æ–∏—Ö —á–∞—Å–æ–≤. –û–Ω –∏—Ö —Ä–∞–∑–±–∏–ª –∏ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏ –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª. –ü—Ä–∏—á—ë–º, –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª –¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –¥–æ–º–∞. –î–µ–ª–æ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫.
–ú—É—Å–∞ —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –Ω–æ—Å–∏–ª —á–∞—Å—ã. –ß–∞—Å—ã –±—ã–ª–∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–µ –ø–æ —Ç–µ–º –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞–º. –ö–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞–ª—ë—Ç—ã —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–∏ –Ω–∞ —Å–µ–ª–æ, –µ–º—É –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –±—Ä–µ–¥–æ–≤–∞—è –º—ã—Å–ª—å.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ —É –æ–±—Ä—ã–≤–∞ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –Ω–∞–ª—ë—Ç–æ–≤, — –∞ –≤ —ç—Ç–∏—Ö —á–∞—Å–∞—Ö –Ω–µ—Ç –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—á–∏–∫–∞?
— –ö–∞–∫–æ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—á–∏–∫–∞?
— –¢—ã –¥—É—Ä–∞–∫–æ–º –Ω–µ –ø—Ä–∏–∫–∏–¥—ã–≤–∞–π—Å—è, — –ú—É—Å–∞ —Ä–∞—Å–ø–∞–ª—è–ª—Å—è, — –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—á–∏–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞–≤–æ–¥–∏—Ç —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã!
— –ù–µ—Ç, –ú—É—Å–∞, –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—á–∏–∫–∞. — –Ø –∂–µ –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –≤ –ø–ª–µ–Ω —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ.
— –ê –º–æ–∂–µ—Ç —Ç—ã –∏–∑ –§–°–ë?
–¢—É—Ç —É–∂ –ª—É—á—à–µ –º–æ–ª—á–∞—Ç—å. –ù–µ –ª—é–±—è—Ç —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –§–°–ë. –ú—É—Å–∞ —Å–Ω—è–ª —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å —Ä—É–∫–∏ —á–∞—Å—ã –∏ —à–∞—Ä–∞—Ö–Ω—É–ª –∏—Ö –æ –∫–∞–º–Ω–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –µ—â—ë –¥–æ–ª–±–∞–Ω—É–ª –ø–æ –Ω–∏–º –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥–æ–º –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞.
— –ú—É—Å–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –µ–º—É, — —É–∂ –µ—Å–ª–∏ —Ç—ã —Ö–æ—á–µ—à—å –æ—Ç–≤–µ—Å—Ç–∏ –±–µ–¥—É, —Ç–æ —Ç–µ–±–µ –Ω—É–∂–Ω–æ –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –≤—ã–±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –≤—Å–µ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏. –°—Ö–µ–º—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –º–æ–≥—É—Ç –Ω–∞–≤–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ —Ü–µ–ª—å —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã, –æ—á–µ–Ω—å –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–µ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—Ç –¥–∞–∂–µ –æ—Ç —Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω—ã—Ö –ª—É—á–µ–π.
–¢–æ–≥–¥–∞ –ú—É—Å–∞ —Å–æ–±—Ä–∞–ª –≤—Å–µ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –æ–Ω –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∏—Ö –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –æ—Ç–≤—ë–∑.
–ü–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞ –≤—Å–µ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—à–ª–∏ –Ω–∞ —Å–µ–Ω–æ–∫–æ—Å. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ –Ω–∞ —Å—Ç–æ–≥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ. –î–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –ú—É—Å–∞ —É–∂–µ —Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ –ø–æ–ª—é —Å –º–æ—Ç–æ–∫–æ—Å–∏–ª–∫–æ–π. –°–æ–±–∞–∫–∞ —Ç–æ–≥–¥–∞ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∞—Å—å –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç –Ω–µ—ë. –Ø –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥—è—â–∏–º. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ–∫–æ–ª–æ —à–µ—Å—Ç–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –ú—É—Å–∞ —Å –¥–µ—Ç—å–º–∏ –∏ —Å–æ–±–∞–∫–æ–π –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –¥–æ–º–æ–π. –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ –æ—Ç–ª—É—á–∞–ª—Å—è —Å –ø–æ–ª—è.
1¬Ý—Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è¬Ý1999 –≥–æ–¥–∞, —Å—Ä–µ–¥–∞. –°–Ω–æ–≤–∞ –≤—Å–µ –≤ –ø–æ–ª–µ. –ñ–µ–Ω–∞ –ú—É—Å—ã –∏ –º–∞–ª—ã–µ –¥–µ—Ç–∏ –¥–æ–º–∞. –Ø –≤—ã—Ä–µ–∑–∞—é –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É –¥–ª—è –ø–æ–ª–æ–∑—å–µ–≤ —Å–∞–Ω–µ–π. –ù–∞–±–ª—é–¥–∞—é –∑–∞ –ø–æ–ª–µ–º –∏ —Å–ª—É—à–∞—é, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ —Å–∞–∫–ª–µ –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–æ–π –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞.
–î–æ–º —É –ú—É—Å—ã, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –º–∞–ª–æ —á–µ–º –æ—Ç–ª–∏—á–∞–µ—Ç—Å—è –æ—Ç –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞. –û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –µ—â—ë –¥–æ –≤–æ–π–Ω—ã, –ú—É—Å–∞ —Ä–µ—à–∏–ª —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —à–∏—Ä–æ–∫–∏–π –∂–µ—Å—Ç –∏ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –ø–æ–æ–±–µ–¥–∞—Ç—å —Å –Ω–∏–º. –° —É—Ç—Ä–∞ –∏ –¥–æ –æ–±–µ–¥–∞ –∂–µ–Ω–∞ –µ–≥–æ —Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–∞ –±–µ–ª—å—ë –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –≤–∞—Ä–≤–∞—Ä—Å–∫–∏–º —Å–ø–æ—Å–æ–±–æ–º. –û–Ω–∞ –Ω–∞–º—ã–ª–∏–≤–∞–ª–∞ –≤–µ—â—å —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –º—ã–ª–æ–º, —á—É—Ç—å –ø–ª–µ—Å–∫–∞–ª–∞ –Ω–∞ –Ω–µ—ë –≤–æ–¥—ã –∏ –æ—Ç–±–∏–≤–∞–ª–∞ –∫—É—Å–∫–æ–º –ø–æ–ª–µ–Ω–∞, –ø–æ–ª–æ–∂–∏–≤ —ç—Ç—É –≤–µ—â—å –Ω–∞ –ø–ª–æ—Ö–æ –æ–±—Å—Ç—Ä—É–≥–∞–Ω–Ω–æ–µ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –±—Ä–µ–≤–Ω–æ. –ü–æ—Ç–æ–º –≤–µ—â–∏ –ø–æ–ª–æ—Å–∫–∞–ª–∏—Å—å –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –≤–µ–¥—Ä–µ –≤–æ–¥—ã –∏ –≤—ã–≤–µ—à–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –í—Å—ë –±–µ–ª—å—ë –±—ã–ª–æ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ, –≥—Ä—è–∑–Ω–æ-—Å–µ—Ä–æ–≥–æ –æ—Ç—Ç–µ–Ω–∫–∞. –ë–µ–ª—å—ë —è–≤–Ω–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏—Ä—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –∑–∞—à—ë–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ú—É—Å–æ–π –≤ –µ–≥–æ —Å–∞–∫–ª—é, —Ç–æ —Å—Ä–∞–∑—É –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ, —á—Ç–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–ª—ã –±—ã–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–µ–π. –°–∞–º–∏ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏ — –¥—Ä–µ–≤–Ω–∏–µ, —Å —à–∞—Ä–∞–º–∏ –∏ —Ü–∞—Ü–∫–∞–º–∏ — —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω–∏—Å—Ç–æ–π –∑–µ–º–ª–µ. –ö–æ–º–Ω–∞—Ç, –∫—Ä–æ–º–µ –∫—É—Ö–Ω–∏, –±—ã–ª–æ –¥–≤–µ. –í–æ –≤—Ç–æ—Ä—É—é –ú—É—Å–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –ø–æ–≤—ë–ª, –∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è, —Å –¥–≤—É–º—è –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—è–º–∏ –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π —á–∞—Å—Ç–∏, –≤ –æ–±—â–µ–º, –±—ã–ª–∞ –∑–∞–æ–¥–Ω–æ —Å –∫—É—Ö–Ω–µ–π. –Ø —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–∞–≤–∞—è –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —É —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏ —Å—Ç–æ–∏—Ç –≤ –ø–æ–ª—É–º–µ—Ç—Ä–µ –æ—Ç –º–æ–µ–π. –¢–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –º–æ—è —Å—Ç–æ–∏—Ç –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π, –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–µ. –ï—Å–ª–∏ –Ω–∞ –≤—Ö–æ–¥–µ –≤ —Å–∞–∫–ª—é –º–æ–∂–Ω–æ —Å—Ç–æ—è—Ç—å –≤–æ –≤–µ—Å—å —Ä–æ—Å—Ç, —Ç–æ —É –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–µ–π –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏–≥–∏–±–∞—Ç—å—Å—è. –¢–æ, —á—Ç–æ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –≤ –¥–æ–º–µ –ú—É—Å—ã, —É –Ω–∞—Å –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∏—â–µ—Ç–æ–π. –î–∞, –ø–æ-–¥—Ä—É–≥–æ–º—É –∏ –±—ã—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥–ª–æ. –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª.
–ù–∞ —Å—Ç–æ–ª–µ –±—ã–ª–æ –≤—Å—ë —Ç–æ –∂–µ, —á—Ç–æ –ø–æ–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –º–Ω–µ –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã–ø–∏–ª–∏ –º—ã —Å –ú—É—Å–æ–π –ø–æ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π —Ä—é–º–æ—á–∫–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ –µ–¥–æ–π, –¥–∞ –ø–æ–µ–ª–∏ —è–∏—á–Ω–∏—Ü—ã, –ø–æ–¥–∂–∞—Ä–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞ —Ç–æ–º –∂–µ —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–º —Å–∞–ª–µ –∏–∑ –±–∞—Ä–∞–Ω–∏–Ω—ã.
— –¢—ã –Ω–µ –¥—É–º–∞–π, —á—Ç–æ –º—ã —Ç—É—Ç –∂–∏—Ä—É–µ–º, –∞ —Ç–µ–±–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –¥–∞—ë–º, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ú—É—Å–∞.
— –Ø –≤—Å—ë –≤–∏–∂—É, –ú—É—Å–∞, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è. — –ú–Ω–µ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å.
— –ù–µ—Ç, —Ç—ã –ø–æ—Å–ª—É—à–∞–π, — —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤–µ—â–∞–ª –æ–Ω. — –ü–æ–∫–∞ —Ç–µ–±—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –¥–µ—Ç–∏—à–∫–∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –ø–æ–º–∏—Ä–∞–ª–∏. –û–Ω–∏ –∂–µ –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–º—É. –°–µ–π—á–∞—Å –∑–∞ —Ç–µ–±—è –º–Ω–µ –ø–ª–∞—Ç—è—Ç —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç –≤—Å–µ–º –Ω–∞ –ø—Ä–æ–∫–æ—Ä–º.
— –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç, — —è–∑–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —è.
–í —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –ú—É—Å–∞ –¥–∞–ª –º–Ω–µ –∞–∂ –¥–≤–µ –ø–∞—á–∫–∏ «–ü—Ä–∏–º—ã» –∏ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ—Å–ø–∞—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞. –í –æ–±—ã—á–Ω—ã–µ –¥–Ω–∏ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ –¥–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—à—å—Å—è. –î–∞—Å—Ç –æ–¥–Ω—É — –∏ –∫—É—Ä–∏, –∫–∞–∫ —Ö–æ—á–µ—à—å. –°–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã –æ–Ω –≤—ã–∫—É—Ä–∏–≤–∞–ª —Å–∞–º.
–¢–∞–∫ –≤–æ—Ç, —è –æ–±—Å—Ç—Ä—É–≥–∏–≤–∞–ª –ø–æ–ª–æ–∑—å—è –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å —Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è –¥–æ–º–∞. –ò –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –±–µ–∑ —Ç—Ä—É–¥–∞, –≤–µ–¥—å —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –±—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–µ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ù–∞—Ç–∞—à–µ–Ω—å–∫–∞ –ø–æ—à–ª–∞ –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∫–ª–∞—Å—Å. –í –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º –≥–æ–¥—É –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–µ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è —è –≤–∑—è–ª –≤–∏–¥–µ–æ–∫–∞–º–µ—Ä—É.
–ü–ª–æ—â–∞–¥—å –ö—É–π–±—ã—à–µ–≤–∞, —Å–æ–ª–Ω—ã—à–∫–æ, —Ü–≤–µ—Ç—ã. –ù–∞—Ç–∞—à–∫–∞ –≤ —Å–µ—Ä–µ–Ω—å–∫–æ–º –≤ –∫–ª–µ—Ç–∫—É –∏ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–∞—Ä—è–¥–Ω–æ–º –∫–æ—Å—Ç—é–º—á–∏–∫–µ. –ó–∞ –ø–ª–µ—á–∞–º–∏ —Ä–∞–Ω–µ—Ü. –û–Ω–∞ –ø—ã—Ç–∞–µ—Ç—Å—è —É—Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å –∑–∞ —Ö–≤–æ—Å—Ç –ß–µ–±—É—Ä–∞—à–∫—É — –ø–µ—Ä–µ–æ–¥–µ—Ç–æ–≥–æ –∞—Ä—Ç–∏—Å—Ç–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –∫–ª–∞—Å—Å–Ω—ã–µ –¥–∞–º—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∫–ª–∞—Å—Å—ã. –ê –¥–∞–ª—å—à–µ — —Ü–µ—Ä–µ–º–æ–Ω–∏—è –Ω–∞—á–∞–ª–∞ —É—á–µ–±–Ω–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞. –£–Ω–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç –ù–∞—è–Ω–æ–≤–æ–π –∫ —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —É–∂–µ —É—Å–ø–µ–ª –æ–±—Ä–∞—Å—Ç–∏ —Ç—Ä–∞–¥–∏—Ü–∏—è–º–∏. –í—Å—ë –æ—á–µ–Ω—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ, –≤–µ—Å–µ–ª–æ –∏ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ. –ò —Å–∞–º–∞ –ù–∞—è–Ω–æ–≤–∞: –≤—ã–π–¥–µ—Ç —É–ª—ã–±–∞—é—â–∞—è—Å—è, —Å–∫–∞–∂–µ—Ç —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ, –∞ –æ–±–∞—è–Ω–∏—è –µ—ë –Ω–∞ –≤—Å—é –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é –ø–ª–æ—â–∞–¥—å —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç.
–í—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –≤—Å–µ –∏ –º–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å –±–æ–ª—å–Ω–æ. –ö–∞–∫ —Ç–∞–º —É –Ω–∏—Ö? –ù–∞ —á—Ç–æ –∂–∏–≤—É—Ç? –ï—Å—Ç—å –ª–∏ —É –ù–∞—Ç–∞—à–µ–Ω—å–∫–∏, —á—Ç–æ –æ–¥–µ—Ç—å –∫ –Ω–æ–≤–æ–º—É —É—á–µ–±–Ω–æ–º—É –≥–æ–¥—É? –ò –≤—Å—ë! –Ø —Å—Ç–∞–ª –≤–∑–≤–µ–¥—ë–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä—É–∂–∏–Ω–æ–π. –ù—É–∂–Ω–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å.
–ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–∞—Å–æ–≤ –ø–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞ —è –ø—Ä–æ–≤–µ–ª –≤ –∫–∞–∫–æ–º-—Ç–æ –æ—Ü–µ–ø–µ–Ω–µ–Ω–∏–∏. –Ø —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ –æ–∫–æ—à–∫–æ –∏ –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏ —Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω—ã–µ —á–∞—Å—ã –Ω–∞ –ø–æ–¥–æ–∫–æ–Ω–Ω–∏–∫–µ. –í 14 —á–∞—Å–æ–≤ 15 –º–∏–Ω—É—Ç —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–æ —Å –ø–æ–¥–æ–∫–æ–Ω–Ω–∏–∫–∞ –æ–∫–æ—à–∫–∞ –∏ –≤—Ä–µ–º—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–ª–æ—Å—å –ø–æ –∑–∞–π—á–∏–∫—É –¥—ã—Ä—ã –≤ –∫—Ä—ã—à–µ. –Ø –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –ø–æ–º–Ω—é, –∫–∞–∫ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ –æ–∫–Ω–æ –∏ –Ω–∞ –∑–∞–π—á–∏–∫. –ö–∞–∫ –æ–Ω –ø—Ä–æ–ø–æ–ª–∑–∞–ª –ø–æ –ø–æ–ª—É, —Ç–∏—Å–∫–∞–º –∏ —á–µ—Ä–Ω–æ-—Ä—ã–∂–µ–π –Ω–∞—Å–µ–¥–∫–µ. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –¥–æ—à—ë–ª –¥–æ –æ—Ç–º–µ—Ç–∫–∏ –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ. –í–æ—Å–µ–º–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —á–∞—Å–æ–≤.
–Ø –º–Ω–æ–≥–æ–µ –ø–µ—Ä–µ–¥—É–º–∞–ª –∑–∞ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏ –æ–±—Ä—É–±–∏–ª –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ü–µ–ø–ª—è–ª–∏ –º–µ–Ω—è –∑–∞ –∂–∏–∑–Ω—å. –ó–∞ –∂–∏–∑–Ω—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º–µ–Ω—è –≤—ã–Ω—É–¥–∏–ª–∏ –∂–∏—Ç—å. –í—Å–µ —ç—Ç–∏ —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä–∫—É –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –º–∏—à—É—Ä–æ–π —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ —Å–≤–µ—Ä–∫–∞—é—â–µ–π —Å–≤–æ–±–æ–¥–æ–π.
–í–µ—á–µ—Ä–æ–º –∑–∞—à—ë–ª –ú—É—Å–∞. –°–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –º—ã –ø–æ–≤–µ—Å–µ–ª–∏–º—Å—è. –ñ–µ–Ω–∞ —Ä–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º —É–µ–¥–µ—Ç –≤ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏ –∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑—ë—Ç «–±—Ä—ã–Ω—Ü–∞–ª–æ–≤–∫—É». –Ø –¥–µ–ª–∞–Ω–æ –ø–æ—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è. –ò —É–∂ –±—ã–ª–æ, –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –≤—Å—ë —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –∏ –Ω—É–∂–Ω–æ, –Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑—Ä—è —è —Ç–∞–∫ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª. –ú–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏—Ö –¥–µ—Ç–µ–π –Ω–µ–ª—å–∑—è –±—ã–ª–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—Ç—å –¥–æ–º–∞ –æ–¥–Ω–∏—Ö –∏ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ–π–¥—ë—Ç –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ. –≠—Ç–æ –≤—Å—ë –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Å–ª–æ–∂–Ω—è–ª–æ.
2 —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è 1999 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥. –í –Ω–æ—á—å –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–µ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è —è –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–µ–ø–∫–æ —Å–ø–∞–ª. –ó–∞—Å–Ω—É–ª –±–µ–∑ –µ–¥–∏–Ω–æ–π –º—ã—Å–ª–∏ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ. –ü—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è — –≥–æ–ª–æ–≤–∞ —è—Å–Ω–∞—è. –í—Å—ë –±—ã–ª–æ, –∫–∞–∫ —è –∏ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª. –ú—É—Å–∞ —Å —Å—ã–Ω–æ–º –ø–æ—à–ª–∏ –≤ –ø–æ–ª–µ. –î–µ–≤–æ—á–∫–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Å –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º–∏ –¥–µ—Ç—å–º–∏. –ü–æ –º–æ–∏–º —á–∞—Å–∞–º –±—ã–ª–æ –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –∫—Ä–∏–∫–∏ —Å –ø–æ–ª—è. –í–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤ –æ–∫–Ω–æ –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∞ —Å—Ç–æ–∏—Ç –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ —Å—Ç–æ–≥–æ–≤ –∏ –∫—Ä–∏—á–∏—Ç. –ú—É—Å–∞ –∫—Ä–∏—á–∏—Ç –µ—â—ë –≥—Ä–æ–º—á–µ, –ø–æ–¥–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞–µ—Ç –∏ –ø—ã—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å –µ–≥–æ –≤–∏–ª–∞–º–∏. –ß—Ç–æ-—Ç–æ —É –Ω–∏—Ö —Ç–∞–º –Ω–µ –∫–ª–µ–∏–ª–æ—Å—å. –Ø –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –∑–∞ —É—Ç—Ä–æ –∏–º –≤–¥–≤–æ—ë–º —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–≤–∞ —Å—Ç–æ–≥–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π. –ì–æ—Ç–æ–≤—ã–µ —Å—Ç–æ–≥–∞ –±—ã–ª–∏ —É–∂–∞—Å–Ω–æ –Ω–µ—Ä–æ–≤–Ω—ã–º–∏ –∏ —Ä–∞–∑–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∏—Å—å –æ—Ç —Ç–µ—Ö, —á—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω—ã —Ä–∞–Ω—å—à–µ. –¢—Ä–µ—Ç–∏–π, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Å–µ–π—á–∞—Å –≥–æ—Ä–ª–∞–Ω–∏–ª —Å—ã–Ω –ú—É—Å—ã, –æ–±–µ—â–∞–ª –±—ã—Ç—å –µ—â—ë –æ—Ç–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–µ–π. –ù–æ —Ä–∞–Ω—å—à–µ –≤–≤–µ—Ä—Ö—É –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞. –û–Ω–∞ –ª–µ–≥–∫–æ —Ä–∞–∑—Ä–∞–≤–Ω–∏–≤–∞–ª–∞ –∏ —É–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∞ —Å–µ–Ω–æ. –°—Ç–æ–≥ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª—Å—è —Ä–æ–≤–Ω–µ–Ω—å–∫–∏–π, –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω—ã–π.
–ú—É—Å–∞ —Å —Å—ã–Ω–æ–º –ø—Ä–∏—à–ª–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞. –ê –µ—â—ë —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞, –ø–æ–µ–≤, —É—à–ª–∏ –æ–ø—è—Ç—å. –ü—Ä–∏—á—ë–º —Å –Ω–∏–º–∏ —É—à–ª–∞ –∏ –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞. –£ –º–µ–Ω—è –∑–∞–±–∏–ª–æ—Å—å —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç—å —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ. –û–Ω–∏ —É—à–ª–∏, –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–∫–æ—Ä–º–∏–≤ –º–µ–Ω—è. –≠—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, —á—Ç–æ –æ–±–µ–¥–∞, –∫–∞–∫ —Ç–∞–∫–æ–≤–æ–≥–æ, –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ê —ç—Ç–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª–æ –µ—â—ë –∏ —Ç–æ, —á—Ç–æ –∂–µ–Ω—ã –ú—É—Å—ã –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É –Ω–µ—Ç –¥–æ–º–∞. –Ø –µ—â—ë —Ä–∞–∑ —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ú—É—Å–∞, —Å—ã–Ω, –¥–æ—á—å –∏ —Å–æ–±–∞–∫–∞ –≤ –ø–æ–ª–µ. –û—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –∂–µ–ª–µ–∑–∫–∏, –∑–∞–±—Ä–∞–ª —Å–∫—É–¥–Ω—ã–µ –ø—Ä–∏–ø–∞—Å—ã —Å—ã—Ä–∞ –∏ —Ö–ª–µ–±–∞. –ò –ø–æ–ª–µ–∑ –≤ –∫—É—Ä–∏–Ω—ã–π –ª–∞–∑. –ü—Ä–æ–ª–µ–∑ —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º. –ü—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è. –£–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –∫—Ä—é—á–∫–µ –≤–∏—Å–∏—Ç —Ç–æ–ø–æ—Ä. –í–∑—è–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä. –ö–∞–∫–æ–µ –Ω–∏ –µ—Å—Ç—å, — –æ—Ä—É–∂–∏–µ. –í–æ—Ç –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –Ø —É–∂–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø–æ–ª–µ–∑—É –Ω–∞–∑–∞–¥ –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ —á–µ—Ä–µ–∑ —â–µ–ª–∏ —Å–∞—Ä–∞—è. –ï—Å–ª–∏ —è –æ—Ç–∫—Ä–æ—é –¥–≤–µ—Ä—å, —Å –ø–æ–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –≤–∏–¥–Ω–æ. –ú–Ω–µ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª –≥–æ—Ä–Ω—ã–π —Ä–µ–ª—å–µ—Ñ.
–Ø –ø—Ä–∏–≥–Ω—É–ª—Å—è, –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –¥–≤–µ—Ä—å —Å–∞—Ä–∞—è, –≤—ã—à–µ–ª –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –¥–≤–µ—Ä—å –Ω–∞ –≤–µ—Ä—Ç—É—à–∫—É. –ò –≤–¥—Ä—É–≥ –≤ —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –∏–∑ —Å–∞–∫–ª–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–æ–∫ –¥–≤–µ—Ä–∏ –≤—ã—à–ª–∞ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞. –°–∏–¥—è –Ω–∞ –∫–æ—Ä—Ç–æ—á–∫–∞—Ö, —è —É–ª—ã–±–Ω—É–ª—Å—è –µ–π.
— –ü—Ä–∏–≤–µ—Ç–∏–∫, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
–û–Ω–∞ —É–ª—ã–±–Ω—É–ª–∞—Å—å –≤ –æ—Ç–≤–µ—Ç, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∞ —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω–æ–µ –ª–∏—Ü–æ –∏ –≤–æ—à–ª–∞ –≤ —Å–∞–∫–ª—é. –ü—Ä–æ—Ö–æ–¥—è –º–∏–º–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –¥–≤–µ—Ä–∏ —Å–∞–∫–ª–∏, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ —É –æ–∫–Ω–∞ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –ú—É—Å—ã. –ù–æ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –∏—Å–∫—É—à–∞—Ç—å —Å—É–¥—å–±—É. –ú–Ω–µ –Ω–µ –Ω—É–∂–µ–Ω –±—ã–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç. –Ø –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–∏–∫–æ–≥–æ —É–±–∏–≤–∞—Ç—å.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å. –ü—Ä—ã–≥–Ω—É–≤, —è –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –±—ã –≤—Å–µ –ø—É—Ç–∏ –∫ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—é. –Ø –æ—á–µ–Ω—å –æ—Å—Ç—Ä–æ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —ç—Ç–æ –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –≤–µ–∑–µ–Ω–∏—è –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –ë—ã–ª–∞ —Å–µ–∫—É–Ω–¥–∞ –Ω–∞ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ — –∏ —è —Ä–µ—à–∏–ª.
–ü–æ–¥–æ—à—ë–ª –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ –æ–±—Ä—ã–≤—É. –ï—â—ë —Ä–∞–∑ —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–∏—Ç. –í–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤–Ω–∏–∑. –î–æ –∫—Ä—É—Ç–æ–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Å–∞ –∏–∑ —â–µ–±–Ω—è –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å. –ê —á—É—Ç—å –ø—Ä–∞–≤–µ–µ — —è —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä–∞–Ω—å—à–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª — –ø–µ—Å—á–∞–Ω—ã–π —Å–∫–ª–æ–Ω. –î–æ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ —á—É—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ –ª–µ—Ç–µ—Ç—å, –Ω–æ —Å–∫–ª–æ–Ω –±—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –∫—Ä—É—Ç–æ–π, –ø–µ—Å–æ–∫ — —Ä–æ–≤–Ω—ã–π –∏, —Å–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, –ø–µ—Å–æ–∫ –Ω–µ –∑–∞–≥—Ä–µ–º–∏—Ç –ø—Ä–∏ –º–æ—ë–º –ø–∞–¥–µ–Ω–∏–∏. –Ý–∞–∑–¥—É–º—ã–≤–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –æ —á–µ–º. –Ø –ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª.
–Ø —É–≤–∏–¥–µ–ª –µ—ë, —É–∂–µ –ø–∞–¥–∞—è. –ú–æ–∑–≥–∏, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –æ–±–æ–∂–≥–ª–æ –∫–∏–ø—è—Ç–∫–æ–º. –ü–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —É—â–µ–ª—å—è, –≤ —É–∑–∫–æ–º –∫–æ—Ä–∏–¥–æ—Ä–µ —Å—Ä–µ–¥–∏ —Å–∫–∞–ª, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –¥–æ–º–æ–π –∂–µ–Ω–∞ –ú—É—Å—ã. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –≤ —á—ë—Ä–Ω–æ–π, –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–π —é–±–∫–µ, —Ç—ë–º–Ω–æ-—Å–∏–Ω–µ–π –≤ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–π –±–µ–ª—ã–π –≥–æ—Ä–æ—Ö —Å–æ—Ä–æ—á–∫–µ –∏ —Å–∏–Ω–∏–º –∂–µ –ø–ª–∞—Ç–∫–æ–º –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≤–µ. –í —Ä—É–∫–∞—Ö —É –Ω–µ—ë –±—ã–ª–∞ –±–æ–ª—å—à–∞—è —Å—É–º–∫–∞. –Ø –ø–∞–¥–∞–ª –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ—ë. –ò —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –≤ –ø–∞–¥–µ–Ω–∏–∏ –º–µ–Ω—è –æ–ø—Ä–æ–∫–∏–¥—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É. –ü–æ—Ö–æ–∂–µ, –æ–Ω–∞ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∞ –º–µ–Ω—è. –°–æ–æ–±—Ä–∞–∂–∞–ª –ª–∏—Ö–æ—Ä–∞–¥–æ—á–Ω–æ: –µ—Å–ª–∏ –±—ã –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∞, —Ç–æ, –±–µ–∑—É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –±—ã –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∞ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å. –í—Å—ë —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ–º–µ–ª—å–∫–Ω—É–ª–æ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É –ø–∞–¥–µ–Ω–∏—è. –í—Ç–æ—Ä—É—é —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—É —Å–∫—Ä—ã–ª–∏ —Å–∫–∞–ª—ã, —è –ª–µ—Ç–µ–ª —É–∂–µ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ. –Ý–æ–≤–Ω–æ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –æ–±—ã—á–Ω–æ –ª–µ—Ç–∏—Ç —Å –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤–æ–π –≤—ã—Å–æ—Ç—ã —Å–±–µ–∂–∞–≤—à–∏–π –ø–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫.
–ü–µ—Ä–µ–¥ –ø—Ä–∏–∑–µ–º–ª–µ–Ω–∏–µ–º –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏ –¥–∞–∂–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –≤ —Ä—É–∫–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä. –ü—Ä–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É —Å —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º —è –≤—ã—Ç—è–Ω—É–ª –≤–ø–µ—Ä—ë–¥ –∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ü—Ä–∏–∑–µ–º–ª–∏–ª—Å—è –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –º—è–≥–∫–æ. –°–ø–∏–Ω–æ–π –∏ –ª–µ–≤—ã–º –±–æ–∫–æ–º. –ü–µ—Å–æ–∫ –±—ã–ª –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç –ª—ë–≥–∫–æ–π –∫–æ—Ä–æ—á–∫–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —è —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ–±–∏–ª, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º —Ç–µ–ª–æ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–æ –Ω–∞ –Ω–µ–µ, –∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —è —Å–∫–æ–ª—å–∑–∏–ª –ø–æ —ç—Ç–æ–π –Ω–∞–∂–¥–∞—á–∫–µ. –ù–æ –¥–∞–ª—å—à–µ –ø–µ—Å–æ–∫ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª—Å—è –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—å –∫–∞–º–Ω–∏. –Ø —Ä–∞—Å–∫–∏–Ω—É–ª —Ä—É–∫–∏ –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –∑–∞—Ç–æ—Ä–º–æ–∑–∏—Ç—å –≤—Å–µ–º —Ç–µ–ª–æ–º, —Å–∫–æ–ª—å–∑—è –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω–µ. –ß–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ —ç—Ç–æ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å, –Ω–æ –≤—Å—ë –∂–µ —è –≤–ª–µ—Ç–µ–ª –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω—É—é —â–µ–±—ë–Ω–∫—É –∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å –ø—Ä–æ–≥—Ä–µ–º–µ–ª –ø–æ –Ω–µ–π.
–û —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤—Å–µ –∫–æ—Å—Ç–∏ —Ü–µ–ª—ã, —è –¥–æ–≥–∞–¥–∞–ª—Å—è, –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞—è –ø–æ –∫–∞–º–Ω—è–º –≤ —É–∑–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ —Ä—É—á—å—è. –°–µ–π—á–∞—Å –º–µ–Ω—è –µ—â—ë –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å —Å –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –ë—Ä–æ—Å–∏–ª –≤–∑–≥–ª—è–¥ –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö. –ù–∏–∫–æ–≥–æ.
–°–∞–º–æ–≥–æ —Ä—É—á—å—è –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –≤–∏–¥–Ω–æ. –û–Ω –∂—É—Ä—á–∏—Ç –≥–¥–µ-—Ç–æ –≤–Ω–∏–∑—É, –ø–æ–¥ –∫–∞–º–Ω—è–º–∏. –í–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–æ–≤, –º–µ–∂–¥—É –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –¥–≤—É—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –≥—É—Å—Ç–æ —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ç –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫. –ë—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–ª, —á—Ç–æ –ª—É—á—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å –ø–æ –≤–∞–ª—É–Ω–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤ —Ä—è–¥ –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å –≤–¥–æ–ª—å —Ä—É—Å–ª–∞. –ü–æ –≤–∞–ª—É–Ω–∞–º —Ä–∞–∑–æ–≥–Ω–∞–ª—Å—è –∏ –±–µ–∂–∞–ª —Å –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–π —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å—é. –ü–µ—Ä–µ—Å–∫–∞–∫–∏–≤–∞–ª —Å –≤–∞–ª—É–Ω–∞ –Ω–∞ –≤–∞–ª—É–Ω –∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –Ω–µ –∑–∞–±—ã–≤–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –ø–æ—è–≤–∏—Ç—å—Å—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∏–¥—ë—Ç –∂–µ–Ω–∞ –ú—É—Å—ã.
–ü–∞—Ä—É —Ä–∞–∑ –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –±–æ—Ç–∏–Ω–æ—á–∫–∞—Ö –Ω–∞ –∫–æ–∂–∞–Ω–æ–π –ø–æ–¥–æ—à–≤–µ —è —Å–∫–æ–ª—å–∑–∏–ª –ø–æ –∑–∞–º—à–µ–ª–æ—Å—Ç—è–º –∫–∞–º–Ω–µ–π. –ö–∞–∫–∏–º-—Ç–æ —á—É–¥–æ–º —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏–µ.
–ó–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∫–∞–º–Ω—è—Ö –≥—Ä–µ—é—Ç—Å—è –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –∑–º–µ–∏, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–µ –Ω–∞ –Ω–∞—à–∏—Ö —É–∂–µ–π. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏—Ö –∫–∞–º–Ω–µ–π, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º–Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ–∏—Ç –ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å, — —á—ë—Ä–Ω—ã–π. –û–Ω —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ –ø–æ–±–ª—ë—Å–∫–∏–≤–∞–µ—Ç. –û—Ç—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞—é—Å—å –ø–æ—Å–∏–ª—å–Ω–µ–µ –∏ –ø—Ä—ã–≥–∞—é –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ. –ê —Å–∞–º –≤—ã—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞—é –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –∫–∞–º–µ–Ω—å, —á—Ç–æ–±—ã —Å–æ—Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∏—Ç—å —Å–∏–ª—É –ø—Ä—ã–∂–∫–∞ –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ.
–ù–æ —è –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ —á—ë—Ä–Ω–æ–º –∫–∞–º–Ω–µ. –ë–æ–ª—å–Ω–æ –ø–∞–¥–∞—é –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–∏—Ü—É. –ó–∞–º–µ—á–∞—é, —á—Ç–æ –∫–∞–º–µ–Ω—å –Ω–µ —á—ë—Ä–Ω—ã–π, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–∫—Ä—ã—Ç –∑–º–µ—è–º–∏. –ù–∞ –Ω–∏—Ö —è –∏ –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª—Å—è, –∏ —Å–∏–∂—É. –í—Å—Ç–∞–ª, –Ω–µ –∫–∞—Å–∞—è—Å—å —Ç–≤–∞—Ä–µ–π —Ä—É–∫–∞–º–∏. –û–¥–Ω—É –∑–º–µ—é —Å—Ç—Ä—è—Ö–Ω—É–ª —Å —Ä—É–∫–∞–≤–∞ –≥–∏–º–Ω–∞—Å—Ç–µ—Ä–∫–∏, –≤—Ç–æ—Ä—É—é — —Å –±—Ä—é–∫ —É –∫–æ–ª–µ–Ω–∫–∏, –∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å—é — —è –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∞ –º–Ω–µ –±—å—ë—Ç –ø–æ –Ω–æ–≥–∞–º —É–∂–µ –Ω–∞ –±–µ–≥—É — –ø—Ä—è–º–æ —Å –∑–∞–¥–Ω–∏—Ü—ã. –°–æ –∑–º–µ—è–º–∏ —è –∏ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –°—Ä–∞–∑—É –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤–ª–µ–≤–æ –∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –ñ–µ–Ω–∞ –ú—É—Å—ã —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∞ –∑–∞ —Å–∫–∞–ª—É. –¢–æ –º–µ—Å—Ç–æ, –∫—É–¥–∞ —è –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª, –æ–Ω–∞ —É–∂–µ –ø—Ä–æ—à–ª–∞. –ù–∞ –ø—É—Ç–∏ –±—ã–ª–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤ 200. –Ý—É—Å–ª–æ —Ä—É—á—å—è, —É–∂–µ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ —Ä—É—á—å—è, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤–ø–∞–¥–∞–ª —Ç–æ—Ç –º–∞–ª—ã–π, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É —è –±–µ–∂–∞–ª — —Ä—É—Å–ª–æ –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–æ —à–∏—Ä–æ–∫–∏–º, –Ω–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Å—É—Ö–∏–º. –ü–µ—Ä–µ—Å–µ–∫–∞—è –µ–≥–æ –ø–æ –¥–∏–∞–≥–æ–Ω–∞–ª–∏, —è –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –∫ —Ä–æ—â–∏—Ü–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ä–æ—Å–ª–∞ –ø–æ-–Ω–∞–¥ —Ä—É—á—å—ë–º –ø–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Ä—É—Å–ª–∞. –¢—É—Ç–æ–≤–∞—è —Ä–æ—â–∞. –û–Ω–∞ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –≤–ø–ª–æ—Ç–Ω—É—é –∫ –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—é –≥–æ—Ä—ã –∏ —Ç–∞–º —Ä–∞—Å—Ç–≤–æ—Ä—è–ª–∞—Å—å –∫—Ä–æ–Ω–∞–º–∏ —Å —Ä–∞—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–∫–ª–æ–Ω–∞.
–í–±–µ–≥–∞—é –≤ —Ä–æ—â—É. –ü–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ —Ä–∞—Å—Ç—ë—Ç —É–∂–µ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã. –ü–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –±–µ–∂–∞—Ç—å —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ, –Ω–æ —è –∑–∞–±–∏—Ä–∞—é –≤–≤–µ—Ä—Ö, –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç –¥–æ—Ä–æ–≥–∏.
–ö –≥–æ—Ä–Ω–æ–π —Ä–µ—á–∫–µ — –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É –ê—Ä–≥—É–Ω—É — —è –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç, –∫–∞–∫ –∏ –æ–∂–∏–¥–∞–ª. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –º–µ–Ω—è, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤—É—Ö—Å—Ç–∞—Ö, —É–≤–∏–¥–µ–ª —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –±–µ—Ä–µ–≥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è –æ—Ç –¥–æ–º–∞ –ú—É—Å—ã, —Å–≤–µ—Ä—Ö—É. –ù–æ –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –±—ã —è –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª —Ç—É–¥–∞, –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –±—ã –æ–Ω –º–µ–Ω—è —É–≤–∏–¥–µ–ª. –î–∞–∂–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã —Å —Ç–∞–∫–æ–π –≤—ã—Å–æ—Ç—ã –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª–∏ –±—É–∫–∞—à–∫–∞–º–∏.
–£–±–µ–¥–∏–≤—à–∏—Å—å, —á—Ç–æ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç, —è –≤–æ—à—ë–ª –≤ –≤–æ–¥—É –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –∂–∞–¥–Ω–æ –ø–∏—Ç—å. –Ø –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞–ª, —Ö–æ—Ç—è –∏ –≤–Ω–∏–∑, –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Ç—Ä—ë—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–µ –≤–æ–¥–æ–ø–æ—è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –∑–∞ —Å–æ–±–æ–π –æ–¥–Ω—É —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ø–æ—Ç–æ–º —Å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –æ—Ç–Ω—ë—Å –∫ –∂—ë—Å—Ç–∫–æ–º—É –ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–º—É —Å—Ç—Ä–µ—Å—Å—É.
–Ø –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å–∞–º —Å–µ–±–µ. –ù–µ –≤—Å–ª—É—Ö, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
— –ú–æ–ª–æ–¥–µ—Ü, —É —Ç–µ–±—è –ø–æ–∫–∞ –≤—Å—ë –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è, –Ω–æ –Ω–∞–¥–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ —ç—Ç–∏–º —Ç—ã –µ–≥–æ –Ω–∞–ø–æ–∏. –ü—É—Å—Ç—å –ø—å—ë—Ç. –ï–º—É –µ—â—ë –¥–æ–ª–≥–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å. –ü—É—Å—Ç—å –Ω–∞–ø—å—ë—Ç—Å—è.
–ó–∞–º–µ—Ç–∏–≤, —á—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—é —è —Å–æ–±–æ–π, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –º–µ–Ω—è –¥–≤–æ–µ, —è –¥–∞–∂–µ –∑–∞—Å–º–µ—è–ª—Å—è. –ò –≤ –æ–±—â–µ–º, —É–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –ø–æ–Ω—è–ª —Å–≤–æ—ë —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ. –¢–æ, –Ω–∞ —á—Ç–æ —è —Ä–µ—à–∏–ª—Å—è, –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å –∑–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞–º–∏ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–π –≤–æ–ª–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –ü—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏, —è —Ä–µ—à–∏–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç—å –≤ –ø–æ–≥–æ–Ω–µ –∑–∞ –ø—Ä–∏–∑—Ä–∞–∫–æ–º —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã. –¢–µ–ø–µ—Ä—å-—Ç–æ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª —É–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏–∑—Ä–∞–∫, –Ω–æ –ø–æ–±–æ—Ä–æ—Ç—å—Å—è –µ—â–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ–∏—Ç. –ò –≤–æ—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Å–∞–º —Å–µ–±—è –ø–æ–∏–ª –∏–∑ —Ä–µ—á–∫–∏, –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –º–æ–∑–≥ –º–æ–π –ø—ã—Ç–∞–µ—Ç—Å—è —Å–∞–º —Å —Å–æ–±–æ—é —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–∏—Ç—å –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –∑–∞ —Ç–æ –Ω–µ—á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–µ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –æ–Ω –ø—Ä–∏–Ω—è–ª. –ù–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –≤—Å—ë –∏ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ —Ä–µ—à–∞—Ç—å, –∫—É–¥–∞ –±–µ–∂–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ.
–ü–µ—Ä–≤—ã–π –ø—É—Ç—å — –≤–ª–µ–≤–æ, –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ –ê—Ä–≥—É–Ω—É, –∫ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ —Å –ì—Ä—É–∑–∏–µ–π. –≠—Ç–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –¥–≤–∞. –ù–æ –ø–æ –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Ä–µ—á–∫–∏ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –¢–∞–º –¥–æ—Ä–æ–≥–∞. –ê —Å–ª–µ–≤–∞ — –∫—Ä—É—Ç–æ–π –æ–±—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç—ã–π –±–µ—Ä–µ–≥. –î–∞ –µ—â—ë, –ø–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ê—Ä–≥—É–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω–∞—è –∑–µ–º–ª—è, –∑–∞–±–æ—Ä –∏ –∫–æ—Ä–æ–≤—ã. –¢–∞–º –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω—è, —Ç–æ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –¥–æ–º–∞. –ê –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—è—Å—å –ø–æ –æ–±—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç–æ–º—É –±–µ—Ä–µ–≥—É, –º–æ–∂–Ω–æ –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–º –∏ –∏–∑ –¥–æ–º–æ–≤, –∏ —Å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ —á—Ç–æ —è –Ω–µ –¥–æ–≤–µ—Ä—è—é —Ç–∞–∫–∏–º –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º: –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É—Ç–∫–Ω—ë—à—å—Å—è –≤ —Ç—É–ø–∏–∫.
–í –ì—Ä—É–∑–∏—é –Ω–µ–ª—å–∑—è –∏–¥—Ç–∏ –µ—â—ë –∏ –ø–æ —Ç–µ–º –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–∞–º, —á—Ç–æ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –¥–≤–∏–≥–∞–ª–∏—Å—å –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω—ã —Å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ –∏, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–º –ê—Ö–º–µ—Ç–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ä–∞–π–æ–Ω, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –∂–∏–≤—É—Ç –æ–¥–Ω–∏ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã. –î–∞ –µ—â—ë –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –ø–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º –ê–ª–∏, —Å—Ç—Ä–æ—è—Ç –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç —Ç–∞–º, –ø–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –º–µ—Ä–µ, –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∞.
–í–ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç–æ–∂–µ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –Ø –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ—é —Ä–æ–≤–Ω—ã–π —Å–∫–ª–æ–Ω, –∑–∞—Å–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–æ–π. –≠—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ —Ä–æ–≤–Ω–æ–µ –∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ—Ç –¥–æ–º–∞ –ú—É—Å—ã. –î–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–π –≥–æ—Ä—ã –∏ –ª–µ—Å–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ —á–µ—Ç—ã—Ä—ë—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∞ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –±—ã, –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è—Å—å –≤–≤–µ—Ä—Ö.
–°–ø—Ä–∞–≤–∞ — —Å–µ–ª–æ, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è –æ–¥–∏–Ω –ø—É—Ç—å, –ø—É—Ç—å –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω. –≠—Ç–æ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ 20 –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ù–æ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–∞–∑–∞–¥ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ò —è —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑—É–º–Ω–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ –≤–∑–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É –∏ –ø–æ –Ω–µ–π —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∫ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω—É. –í–µ—Ä—Ö –≥–æ—Ä—ã –±—ã–ª —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –ø–ª–æ—Å–∫–æ–≥–æ—Ä—å–µ–º, –∏ —ç—Ç–æ –ø–ª–æ—Å–∫–æ–≥–æ—Ä—å–µ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –æ—Ç —Å–∞–∫–ª–∏ –ú—É—Å—ã.
–Ø —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä—É—Ç–æ–º—É —Å–∫–ª–æ–Ω—É. –ë—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –ø–æ–¥—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª—Å—è –æ—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É –∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è —É–∂–µ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ 30, —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –∑–∞ –º–Ω–æ—é —Ç—è–Ω–µ—Ç—Å—è –æ—Ç—á—ë—Ç–ª–∏–≤—ã–π —Å–ª–µ–¥. –Ý–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –±—ã–ª–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–º. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è –∏ –ø–æ –º–µ—Ä–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —É–±–∏—Ä–∞—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç —Å–ª–µ–¥. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Å —Ç–∞–∫–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º –æ–¥–æ–ª–µ–ª —ç—Ç–∏ 30 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∞ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞, —É–≤–∏–¥–µ–ª —Ç–æ, —á–µ–≥–æ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —Å —Ç–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞ –º–µ–Ω—è –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –∏–∑ —Å–µ–ª–∞, –¥–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏—Ö –¥–æ–º–æ–≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞. –û—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –æ–¥–Ω–æ: —É–π—Ç–∏ –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç —Å–µ–ª–∞ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é, –∞ –ª—É—á—à–µ — –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ –ê—Ä–≥—É–Ω—É, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—Ç—å —Å–ª–µ–¥–æ–≤, –∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É —Ç–∞–º.
–¢–∞–∫ —è –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª. –ù–æ –ø–æ –ê—Ä–≥—É–Ω—É —è –ø—Ä–æ—à—ë–ª –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –î–∞–ª—å—à–µ –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Ä–µ–∫–∏ –≤–∏–¥–Ω–µ–ª–∏—Å—å –¥–æ–º–∞. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ — –≤–≤–µ—Ä—Ö. –Ø –Ω–µ —à—ë–ª. –ö–∞—Ä–∞–±–∫–∞–ª—Å—è. –ó–∞—Ç–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –∑–¥–µ—Å—å —Ä–æ—Å–ª–∏ –ø–æ–≥—É—â–µ, —Å–∫–ª–æ–Ω –∫–∞–º–µ–Ω–∏—Å—Ç—ã–π –∏ –≤–∏–¥–∏–º—ã—Ö —Å–ª–µ–¥–æ–≤ —è –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª. –û—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É –∑–∞–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –≤—Å—ë –≤—ã—à–µ. –ü–æ–¥–Ω—è–≤—à–∏—Å—å –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –Ω–∞ 150 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –æ—Ç —É—Ä–æ–≤–Ω—è —Ä—É—á—å—è, —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –ø—É—Ç—å –ø—Ä—è–º–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è. –î–æ—Ä–æ–≥—É –ø—Ä–µ–≥—Ä–∞–∂–¥–∞–ª–∞ –Ω–∞–≤–∏—Å—à–∞—è —Å–∫–∞–ª–∞. –û–±–æ–π—Ç–∏ –µ—ë –º–æ–∂–Ω–æ, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–≤–∏–≥–∞—è—Å—å –≤–ª–µ–≤–æ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É, —Ç–æ –µ—Å—Ç—å, —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞—è—Å—å –∫ —Å–µ–ª—É. –Ø –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –∑–∞–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Å–∫–∞–ª—É –ø–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∫—Ä–æ–Ω—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–∏ –≤—ã—à–µ –∫—Ä–∞—è —Å–∫–∞–ª—ã, –Ω–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —ç—Ç–∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏.
–ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –æ–±—Ö–æ–¥–∏—Ç—å —Å–∫–∞–ª—É —Å–ª–µ–≤–∞. –ò —Ö–æ—Ç—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –µ—Å–ª–∏ –µ—ë –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å, –≤–µ–ª–∞ –≤—Å—ë –∂–µ –≤–≤–µ—Ä—Ö, —Å–∫–æ—Ä–æ —è –æ–ø—è—Ç—å –±—ã–ª –≤–∏–¥–µ–Ω –∏–∑ —Å–µ–ª–∞. –î–∞–ª—å—à–µ –∏–¥—Ç–∏ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è.
–°–ø—Ä—è—Ç–∞–≤—à–∏—Å—å –∑–∞ —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–º –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö –Ω–∞ –º–æ—ë–º –ø—É—Ç–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤, —è —Ä–µ—à–∞–ª, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ. –ê —Ä–µ—à–∞—Ç—å –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –¥—É–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –º–æ—ë –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ —É–∂–µ –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω–æ –∏ –æ—á–µ–Ω—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ –∂–µ–Ω–∞ –ú—É—Å—ã –º–µ–Ω—è –≤—Å—ë –∂–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∞. –ú–µ–Ω—è –º–æ–≥–ª–∏ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å –∏ –∏–∑ —Å–µ–ª–∞. –ú–æ–≥ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å –∏ —Ç–æ—Ç –ø—Ä–µ—Å–ª–æ–≤—É—Ç—ã–π —Å–Ω–∞–π–ø–µ—Ä, —á—Ç–æ —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ –∏ –ø—Ä–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –º–Ω–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ —Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –ú—É—Å–∞. –í –æ–±—â–µ–º, –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –±—ã–ª–æ –æ—Ç—á–∞—è–Ω–Ω–æ–µ.
–Ø —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª —Å–∫–∞–ª—É, —á—Ç–æ —É–∂–µ –Ω–µ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –Ω–∞–≤–∏—Å–∞–ª–∞ –Ω–∞–¥–æ –º–Ω–æ—é, –∏ –≤—Å—ë –∂–µ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–∞. –≠—Ç–æ–π –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª–∏ —è –Ω–∞—Å—á–∏—Ç–∞–ª –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–µ—Å—è—Ç—å. –ú–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –Ω–∞–∑–∞–¥ –ø–æ –º–æ–µ–º—É –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—é, –µ–¥–≤–∞ –∑–∞—Ü–µ–ø–∏–≤—à–∏—Å—å –∫–æ—Ä–Ω—è–º–∏ –∑–∞ –∫–∞–º–Ω–∏, —Ä–æ—Å–ª–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ. –û–Ω–æ, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Ä–æ—Å–ª–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–∞ –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–±—Ä—ã–≤ —Ä—É—Ö–Ω—É–ª, –∞ –æ–Ω–æ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –≤–∏—Å–µ—Ç—å –Ω–∞–¥ –ø—Ä–æ–ø–∞—Å—Ç—å—é. –° –≥–æ–¥–∞–º–∏ —Å—Ç–≤–æ–ª –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –≤—ã–ø—Ä—è–º–∏–ª—Å—è –∏ –¥–∞–∂–µ –æ–±—Ä–æ—Å –Ω–æ–≤—ã–º–∏ –∫–æ—Ä–Ω—è–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ü–µ–ø–ª—è–ª–∏—Å—å –∑–∞ —Ç–æ–Ω–∫–∏–π —Å–ª–æ–π –ø–æ—á–≤—ã –Ω–∞ –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –ö—Ä–æ–Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –Ω–∞–≤–∏—Å–∞–ª–∞ –Ω–∞–¥ –∫—Ä–æ–º–∫–æ–π –æ–±—Ä—ã–≤–∞ –∏ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –≤—ã—à–µ –µ—ë.
–ù–æ —Å–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –ø—É—Ç—å, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –ü—É—Ç—å —Å–æ–º–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π, –Ω–æ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–Ø –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ 50 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞–∑–∞–¥ –∏ –Ω–∞—á–∞–ª —Å–ª–æ–∂–Ω—ã–π –ø–æ–¥—ä—ë–º –ø–æ –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω–æ–π —Å–∫–∞–ª–µ. –ü–µ—Ä–≤—ã–µ –ø—è—Ç—å –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤–≤–µ—Ä—Ö –æ–¥–æ–ª–µ–ª –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –í–æ—Ç –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –º–æ–∏ –Ω–∞–≤—ã–∫–∏ –ª–∞–∑–∞–Ω–∏—è –ø–æ –õ—ã—Å–æ–π –≥–æ—Ä–µ. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –±—ã–ª –≤ –ø–∏–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–æ–º –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –∏–º–µ–Ω–∏ –¶–∏–æ–ª–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –≤ –°—Ç—É–¥—ë–Ω–æ–º –æ–≤—Ä–∞–≥–µ. –Ý–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ –Ω–µ –±–∞–ª–æ–≤–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è —á–∞—Å—Ç—ã–º–∏ –ø—Ä–∏–µ–∑–¥–∞–º–∏ –ø–æ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–Ω—ã–º –¥–Ω—è–º, –∏ —è –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –¥–µ—Ç–¥–æ–º–æ–≤—Å–∫–∏–º–∏ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∞–º–∏ –ø–æ–ª–∑–∞–ª –ø–æ —Å–∫–∞–ª–∞–º –õ—ã—Å–æ–π –≥–æ—Ä—ã.
–° –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–æ—á–∫–∏, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è —Å–µ–π—á–∞—Å —Å—Ç–æ—è–ª, –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â—É—é, –ø—Ä–∞–≤–µ–µ –∏ –º–µ—Ç—Ä–∞ –Ω–∞ –¥–≤–∞ –≤—ã—à–µ. –û—Ç –Ω–µ—ë, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É –≤–µ–ª–∏ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–∏. –Ø –Ω–µ –º–æ–≥ –¥–∞–∂–µ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞–∑–∞–¥, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç—å –≤–∏–¥–µ–Ω –ª–∏ –∏–∑ —Å–µ–ª–∞. –ò–∑–ª–æ–≤—á–∏–≤—à–∏—Å—å, –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤–Ω–∏–∑ –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –ø–æ –≤—ã—Å–æ—Ç–µ –º–µ—Å—Ç–æ, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –µ—â—ë –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å –≤–Ω–∏–∑. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω—ã–º –ø—É—Ç–µ–º –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –û—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –æ–¥–Ω–æ — –∏–¥—Ç–∏ –≤–ø–µ—Ä—ë–¥. –î–æ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏ —Ä—É–∫–æ–π —è –Ω–µ –¥–æ—Ç—è–Ω—É–ª—Å—è. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å —Ç–æ–ø–æ—Ä. –ö—Ä–∞–µ–º –ª–µ–∑–≤–∏—è, –∫–∞–∫ –∫—Ä—é–∫–æ–º, –Ω–∞–¥—ë–∂–Ω–æ –∑–∞—Ü–µ–ø–∏–ª—Å—è –∑–∞ –∫–∞–º–µ–Ω—å. –ü–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ø—Ä–∞–≤—É—é –Ω–æ–≥—É –Ω–∞ —É—Å—Ç—É–ø—á–∏–∫ –∏ –ø–µ—Ä–µ–Ω—ë—Å –Ω–∞ –Ω–µ—ë –≤–µ—Å —Ç–µ–ª–∞. –õ–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–æ–π –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –¥–æ—Ç—è–Ω—É—Ç—å—Å—è –¥–æ –∫—Ä–∞—è –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏. –¢—â–µ—Ç–Ω–æ. –ó–∞—Ç–æ –Ω–∞—à—ë–ª –¥–ª—è –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–∏ –Ω–∞–¥—ë–∂–Ω—É—é —Ä–∞—Å—â–µ–ª–∏–Ω—É. –ü–æ–¥–≤–∏–Ω—É–ª –ª–µ–≤—É—é –Ω–æ–≥—É –∫ –ø—Ä–∞–≤–æ–º—É –∫—Ä–∞—é –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –µ—ë –Ω–∞ –∑–∞—Ä–∞–Ω–µ–µ –≤—ã—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π —É—Å—Ç—É–ø, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ 70 –≤—ã—à–µ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏.
–°—Ç–∞–ª –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –≤—ã–ø—Ä—è–º–ª—è—Ç—å –ª–µ–≤—É—é –Ω–æ–≥—É –∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ –Ω–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ —Ç–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Ö–æ—Ç–µ–ª –∑–∞–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –ö–∞–∫ –º–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å! –ù–æ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–∞—Ç—å —É–∂–µ –Ω–µ–∫—É–¥–∞. –° —Ç—Ä—É–¥–æ–º –≤—ã–ø–æ–ª–∑ –Ω–∞ –Ω–µ—ë –∏ –¥–∞–∂–µ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –≤—Å—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏, –Ω–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –°–∫–∞–ª–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ–π. –ü–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è—Å—å –≤–æ –≤–µ—Å—å —Ä–æ—Å—Ç, —è –Ω–∞–≤–∏—Å–∞–ª –Ω–∞–¥ –±–µ–∑–¥–Ω–æ–π. –°–∏–¥—è –Ω–∞ –∫–æ—Ä—Ç–æ—á–∫–∞—Ö –∏ –ø—Ä–∏–∂–∞–≤—à–∏—Å—å –∫ —Å–∫–∞–ª–µ, –∏–∑–º–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π —Ç—Ä—É–¥–Ω—ã–º –ø–æ–¥—ä—ë–º–æ–º, —è, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —É–≤–∏–¥–µ–ª —Å–µ–ª–æ. –û–Ω–æ –±—ã–ª–æ, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏. –í–æ–Ω —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∏–¥—ë—Ç –ø–æ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥—É –∏ –≤—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ –¥–æ–º. –í–∏–¥–µ–ª –ª–∏ –æ–Ω –º–µ–Ω—è? –ê –µ—Å–ª–∏ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –ø—å—ë—Ç —á–∞–π –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç –≤ –æ–∫–Ω–æ? –í–∑–≥–ª—è–¥ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤—ã—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç –Ω–æ–≤—ã–π —ç–ª–µ–º–µ–Ω—Ç –≤ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—à—å –≤–æ—Ç —É–∂–µ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –≥–æ–¥—ã.
–ü–æ —É—Å—Ç—É–ø–∞–º –≤ —Å–∫–∞–ª–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —è —Å–Ω–∏–∑—É –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –ø–æ—á—Ç–∏ –∑–∞ –ª–µ—Å–µ–Ω–∫—É, –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ–ª—å–∑—è. –í–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å –±—ã–ª–∞ –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π. –ü—Ä–∏—á—ë–º, —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —Å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –≤—Å–µ–º –≤–∑–æ—Ä–∞–º —Å–∫–∞–ª—ã –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –ê –∫—É–¥–∞ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å, —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª: –≤–µ—Å—å –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–∏–π –ø—É—Ç—å –±—ã–ª —Å–∫—Ä—ã—Ç –≤—ã—Å—Ç—É–ø–æ–º —Å–∫–∞–ª—ã.
–Ø –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª –≤ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫—É, —á—Ç–æ –≤–∏–¥–µ–ª —Å–Ω–∏–∑—É, –∏ —Å —É–∂–∞—Å–æ–º –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–ø–æ—Å–æ–± –¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–µ–Ω–∏—è —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑—É–º–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏ –±—ã–ª –æ–¥–∏–Ω: –≤—Å—Ç–∞—Ç—å –≤–æ –≤–µ—Å—å —Ä–æ—Å—Ç, —É—Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∑–∞ –∫—Ä–∞–π —É—Å—Ç—É–ø–∞, –∏, –ø–æ–≤–∏—Å–Ω—É–≤ –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö, –æ–±–æ–≥–Ω—É—Ç—å —É–≥–æ–ª —Å–∫–∞–ª—ã. –ï—Å–ª–∏ —è –≤—Å—ë –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —Ç–∞–º –µ—Å—Ç—å –∑–∞ —á—Ç–æ —É—Ü–µ–ø–∏—Ç—å—Å—è, –∏ –¥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞, —Ç–æ—á–Ω–µ–µ, –¥–æ –µ–≥–æ –∫–æ—Ä–Ω–µ–π, –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è –º–µ—Ç—Ä–∞ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞.
–Ø –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–≥—Ä–∞–ª –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è. –ù–∞–¥–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –≤—Å—Ç–∞—Ç—å –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —É—Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∑–∞ –∫–∞—Ä–Ω–∏–∑ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É. –£–¥–∞—Å—Ç—Å—è –ª–∏ –º–Ω–µ —ç—Ç–æ, —è –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª. –ö—Ä–∞–π –∫–∞—Ä–Ω–∏–∑–∞ –º–æ–≥ –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ–ª–æ–≥–∏–º. –ü–æ—Ç–æ–º —è –ø–æ–≤–∏—Å–Ω—É –Ω–∞–¥ –ø—Ä–æ–ø–∞—Å—Ç—å—é. –¢–µ–ª–æ –∫–∞—á–Ω—ë—Ç –æ—Ç —Å–∫–∞–ª—ã. –¢—É—Ç –Ω–∞–¥–æ —É–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è. –ê –¥–∞–ª—å—à–µ, –ø–µ—Ä–µ–±–∏—Ä–∞—è —Ä—É–∫–∞–º–∏, –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –∫ –∫—Ä–∞—é. –î–∞–ª—å—à–µ… –î–∞–ª—å—à–µ, –∫–∞–∫ –ø–æ–≤–µ–∑—ë—Ç.
–ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ä–µ—à–∏—Ç—å—Å—è. –û–ø—è—Ç—å –≤–æ –º–Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –Ω–µ–∫—Ç–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª: «–û–Ω –¥–∞–ª —Ç–µ–±–µ –Ω–∞–ø–∏—Ç—å—Å—è –≤–Ω–∏–∑—É, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ç—ã –∑–∞—Å—Ç–∞–≤—å –µ–≥–æ –∏–¥—Ç–∏». –ò –æ–ø—è—Ç—å –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ—Å–º–µ—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞–¥ —Å–≤–æ–∏–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ–º, –∏ —Ö–æ—Ç—è —è –µ—â—ë —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ —è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–º–µ—é—Å—å, –Ω–µ–∫—Ç–æ –≤–æ–æ–±—â–µ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π, —Ç–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —ç—Ç–æ—Ç —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–µ–≤–æ—Å—Ö–æ–¥–∏–ª —Ç–µ—Ö –¥–≤–æ–∏—Ö. –Ø —É–∂–µ –≤—Å—ë —Ä–µ—à–∏–ª.
–í –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –º–æ–º–µ–Ω—Ç –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ —É –º–µ–Ω—è –µ—Å—Ç—å —Ç–æ–ø–æ—Ä. –ü—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è—Å—å –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∞—Ö, –∏ —É–∂–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–≤, —á—Ç–æ –æ–ø—Ä–æ–∫–∏–¥—ã–≤–∞—é—Å—å –≤ –ø—Ä–æ–ø–∞—Å—Ç—å, —è –≤–∑–º–∞—Ö–Ω—É–ª –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–æ–π —Å —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º, –∏ –æ–Ω —É—Ü–µ–ø–∏–ª—Å—è –∑–∞ –≤–µ—Ä—Ö–Ω—é—é –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É. –ß—É—Ç—å –ø–æ–¥—Ç—è–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –∫ —Å–∫–∞–ª–µ, —è –≤—Å—Ç–∞–ª –≤–æ –≤–µ—Å—å —Ä–æ—Å—Ç. –£—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä—É–∫–æ–π –∑–∞ —É—Å—Ç—É–ø –∏ –¥–∞–∂–µ —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏–µ. –Ø –Ω–µ –ø–æ–≤–∏—Å. –Ø —Å—Ç–æ—è–ª, —á—É—Ç—å –ø—Ä–æ–≤–∏—Å–Ω—É–≤ –Ω–∞–¥ –æ–±—Ä—ã–≤–æ–º. –ù–æ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç–æ–≤, –∫—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–≤–∏—Å–Ω—É—Ç—å –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö, –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –Ø –±—Ä–æ—Å–∏–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –ö—É–¥–∞ –æ–Ω –ø–æ–ª–µ—Ç–µ–ª –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ, —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. –ù–µ –±—ã–ª–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –µ–≥–æ, –∏ –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏–≤ –∑–∞ –ø–æ—è—Å–æ–º. –ò –≤–æ–æ–±—â–µ, –≤ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –±—ã–ª–æ –Ω–µ –¥–æ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞.
–ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —è –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–ª –∫—Ä–æ–º–∫—É –æ–±—Ä—ã–≤–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–æ–π. –ü–æ–ª–º–µ—Ç—Ä–∞ –≥–∞—Ä–∞–Ω—Ç–∏–∏. –î–∞–ª—å—à–µ — –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å. –ò –≤–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–≤–∏—Å.
–≠—Ç–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ — –≤–∏—Å–µ—Ç—å –Ω–∞ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–µ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏. –°—Ç–∞–ª –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–¥–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –∫ –∫—Ä–∞—é —Å–∫–∞–ª—ã. –î–æ —ç—Ç–æ–≥–æ —è –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ –≤–µ—Ç–µ—Ä. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –∂–µ –æ—Ç—á—ë—Ç–ª–∏–≤–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç —Ç–µ–ª–æ, –º–µ—à–∞—è —Ä–æ–≤–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è. –ü–∞–ª—å—Ü—ã —É—Å—Ç–∞–ª–∏ –∏ –æ–Ω–µ–º–µ–ª–∏ –µ—â—ë –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ, —á–µ–º —è –æ–ø–∞—Å–∞–ª—Å—è. –Ø –±—ã–ª —É–∂–µ —É –∫—Ä–∞—è —Å–∫–∞–ª—ã –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –æ–±—Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å –µ—ë –Ω–æ–≥–æ–π. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å. –ü–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–æ–π —è –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —É—Å—Ç—É–ø. –ü—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–æ–π –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –∫—Ä–∞–π —Å–∫–∞–ª—ã. –ü–∞–ª—å—Ü–µ–≤ –Ω–∞ –Ω–µ–π —è –Ω–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –Ω–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —è –∏—Ö –∏ –Ω–∞ –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ, –Ω–æ —É–º–æ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ. –Ý—É–∫–∏ —É–∂–µ –¥–æ–ª–≥–æ –±—ã–ª–∏ –≤—ã—à–µ –≥–æ–ª–æ–≤—ã. –ö—Ä–æ–≤—å –æ—Ç–ª–∏–ª–∞ –æ—Ç –Ω–∏—Ö.
–û–±—Ö–≤–∞—Ç–∏–≤ –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–æ–π –≤—Å—ë —Ç–æ—Ç –∂–µ –∫–∞–º–µ–Ω—å, —è –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª –Ω–µ—á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–æ–µ —É—Å–∏–ª–∏–µ –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≤—ã—Ö–æ–¥ —Å–∏–ª–æ–π –Ω–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É. –ò –∫–æ–≥–¥–∞, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —É–≤–∏–¥–µ–ª, –∫—É–¥–∞ —è –≤—ã–ø–æ–ª–∑–∞—é, –∞ –≤—ã–ø–æ–ª–∑–∞–ª —è —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ, —Å —Ö—Ä–∏–ø–æ–º, —Å —Ä–µ–∑–∫–æ–π –±–æ–ª—å—é –≤ –≥—Ä—É–¥–∏ — —ç—Ç–æ —è –≥—Ä—É–¥—å—é –±–æ—Ä–æ–∑–¥–∏–ª –∫–∞–º–Ω–∏ — —Ç–æ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è. –ù–∞ —ç—Ç–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å.
–î–æ–ª–≥–æ –æ—Ç–ª—ë–∂–∏–≤–∞–ª—Å—è. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤–µ—Ç–µ—Ä —Å–º–∞—Ö–Ω–µ—Ç –º–µ–Ω—è —Å –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏. –û—Ç—Å—é–¥–∞ —è –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è –∏–∑ —Å–µ–ª–∞. –û–∫–æ–ª–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –¥–≤–æ—Ä–æ–≤ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –≤–Ω–∏–∑—É, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –±—ã–ª–∏ —Å–∫—Ä—ã—Ç—ã —Ä–µ–ª—å–µ—Ñ–æ–º. –í–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –±—ã–ª–∞ –º–∏–Ω–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ–π. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –¥–∞–ª—å—à–µ.
–í–µ—Ç–µ—Ä —É—Å–∏–ª–∏–ª—Å—è. –û—á–µ–Ω—å –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–∏—Å–µ–ª –Ω–∞ –∫–æ—Ä—Ç–æ—á–∫–∏. –û—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª—Å—è. –ì–æ—Ä—ã –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –º–Ω–µ –Ω–æ–≤–æ–µ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–µ. –î–æ –∫–æ—Ä–Ω–µ–π –¥–µ—Ä–µ–≤–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –∑–∞—Å—Ç—Ä—è–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä, –±—ã–ª–æ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Ç—Ä—ë—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –û–¥–æ–ª–µ—Ç—å —ç—Ç–∏ —Ç—Ä–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–µ –±—ã–ª–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –∫—É–¥–∞ –ª–∏–±–æ —Å–¥–≤–∏–Ω—É—Ç—å—Å—è —Å —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–≥—Ä—ã–∑–∫–∞ —Å–∫–∞–ª—ã. –Ø –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤ —Ä–æ–ª–∏ –æ—Ç—Ü–∞ –§—ë–¥–æ—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É, –∫–∞–∫ –∏ –º–Ω–µ, —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –∑–∞–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Å–∫–∞–ª—É, –∞ –≤–æ—Ç —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è — –Ω—É, –Ω–∏–∫–∞–∫! –í –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞, –∫–æ–ª–±–∞—Å—ã —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –Ω—É–∂–Ω–æ —Å–ø–∞—Å–∞—Ç—å—Å—è. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–≥–æ –æ–¥–Ω–∞ –∏ –æ—á–µ–Ω—å –ø—Ä–∏–∑—Ä–∞—á–Ω–∞—è –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –ö–æ—Ä–Ω–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –≤–∏—Å–µ–ª–∏, –∫–∞–∫ —Å–ø—É—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –∫–ª—É–±–æ–∫ –≤–æ–ª–æ—Å. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä –≤ –Ω–∏—Ö —Ç–∞–∫ –Ω–∞–¥—ë–∂–Ω–æ –∑–∞—Å—Ç—Ä—è–ª. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω, –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–π –∫–æ—Ä–µ–Ω—å —Å–≤–∏—Å–∞–ª –∏–∑ –æ–±—â–µ–≥–æ –∫–ª—É–±–∫–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞ –Ω–∞ —Ç—Ä–∏ –≤–Ω–∏–∑ –∏ –≤–Ω–µ–¥—Ä—è–ª—Å—è –≤ —Å–∫–∞–ª—É. –ö–æ—Ä–µ–Ω—å, –Ω–∞ –≤–∏–¥, –±—ã–ª –∂–∏–≤–æ–π, –∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –≥–∏–±–∫–∏–π –∏ –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–π. –ï—Å–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å, –∏ –æ–Ω –Ω–µ –æ–±–æ—Ä–≤—ë—Ç—Å—è, –µ—Å–ª–∏ —Ä—É–∫–∏ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç —Ä—ã–≤–æ–∫, —Ç–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É–µ—Ç —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –∫–ª—É–±–∫–∞ –∫–æ—Ä–Ω–µ–π. –ü–æ –Ω–µ–π — –Ω–∞ —Å–∞–º–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ.
–Ø —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª —Å–∏–ª—ã –¥–ª—è –ø—Ä—ã–∂–∫–∞. –ë–æ—è–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ: –ª–∏—à—å –±—ã –æ—Ç –ø–µ—Ä–µ–Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—è –ø—Ä–∏ –ø—Ä—ã–∂–∫–µ –Ω–µ —Å–≤–µ–ª–æ –º—ã—à—Ü—ã –Ω–æ–≥. –î–∞–∂–µ —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏, –¥–æ–ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å –¥–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –∫–ª—É–±–∫–∞ –∫–æ—Ä–Ω–µ–π —è –Ω–µ –º–æ–≥. –ù–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –¥–æ –Ω–µ–≥–æ —è –∏ –¥–æ–ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª. –ò –≤—Ü–µ–ø–∏–ª—Å—è, –≤–æ —á—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–ª–æ. –ö–æ—Ä–Ω–∏ –æ–±—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —É –º–µ–Ω—è —Ç–æ –≤ –ø—Ä–∞–≤–æ–π, —Ç–æ –≤ –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ, –∞ —è –≤–∏—Å–µ–ª. –ò –Ω–µ —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ–Ω—è–ª –∫–∞–∫. –ê –≤–∏—Å–µ–ª —è, –∑–∞—Ü–µ–ø–∏–≤—à–∏—Å—å –ø–æ–¥–±–æ—Ä–æ–¥–∫–æ–º –∑–∞ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å —Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–≥–æ –∫–æ—Ä–Ω—è. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ —É—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∑–∞ –Ω–µ–≥–æ —Ä—É–∫–∞–º–∏, –æ–Ω, –ø–æ–¥–ª–æ–º–∏–≤—à–∏—Å—å —Å –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –≤—Å—ë –∂–µ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞–ª –≤–µ—Å –º–æ–µ–≥–æ —Ç–µ–ª–∞. –° –ª–æ–≤–∫–æ—Å—Ç—å—é –æ–±–µ–∑—å—è–Ω—ã –≤—Å–∫–∞—Ä–∞–±–∫–∞–ª—Å—è –ø–æ –∫–æ—Ä–Ω—è–º –∫ —Å—Ç–≤–æ–ª—É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –î–æ—Å—Ç–∞–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä.
–°—Ç–≤–æ–ª –±—ã–ª –≥–ª–∞–¥–∫–∏–π, –Ω–æ –º–µ–∂–¥—É –Ω–∏–º –∏ –∫—Ä–∞–µ–º —Å–∫–∞–ª—ã — –∑–∞–∑–æ—Ä –æ–∫–æ–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–∞. –£–ø–µ—Ä—à–∏—Å—å –≤ —Å—Ç–≤–æ–ª —Å–ø–∏–Ω–æ–π, –∞ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ –≤ —Å–∫–∞–ª—É, —è –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ–ª –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –¥–≤–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞ –∏ –≤—ã–∫–∞—Ä–∞–±–∫–∞–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â—É—é –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É, —à–∏—Ä–∏–Ω–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä–µ—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –û–Ω–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø–æ—á—Ç–∏ –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–æ–π —Å–∫–∞–ª–æ–π. –ó–∞–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –Ω–µ—ë —è –±—ã —É–∂–µ –Ω–µ —Å–º–æ–≥. –°–∏–ª—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –º–µ–Ω—è. –ú—É—á–∏–ª–∞ –∂–∞–∂–¥–∞. –ü–ª–æ—â–∞–¥–∫–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∑–∞ –∫—Ä–∞–π –≥–æ—Ä—ã. –ö–∞–∫ —Ä–∞–∑ –∑–∞ —Ç–æ—Ç –∫—Ä–∞–π, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è –≤–∏–¥ –Ω–∞ —Å–∞–∫–ª—é –ú—É—Å—ã. –î–æ–π–¥—è –¥–æ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏, —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –º–æ–∂–Ω–æ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –ú–µ–∂–¥—É —Å–∫–∞–ª–æ–π, –æ–±—Ä–∞–∑—É—é—â–µ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É, –∏ –≥–æ—Ä–æ–π –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–≥–ª—É–±–æ–∫–∞—è —â–µ–ª—å.
–°–∫—Ä—ã–≤–∞—è—Å—å –≤ —ç—Ç–æ–π —â–µ–ª–∏, —è —Å—Ç–∞–ª –≤–∑–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤—ã—à–µ. –ò –≤–¥—Ä—É–≥, –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ—é —Å–∞–º–∞ —Å–æ–±–æ–π –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–∞ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —è –Ω–µ —Ä–∞–∑ –≤–∏–¥–µ–ª, –≥–ª—è–¥—è –æ—Ç —Å–∞–∫–ª–∏ –ú—É—Å—ã –Ω–∞ —ç—Ç—É –≥–æ—Ä—É. –°–∫–∞–ª—ã, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º —è —Å–µ–π—á–∞—Å –ø–æ–ª–∑ –≤–≤–µ—Ä—Ö, –∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∫–∞–∫ –±—ã –ª–µ–ø–∏–ª–∏—Å—å –∫ –≥–æ—Ä–µ, –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –∑–∞ 50 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–æ –ø–ª–æ—Å–∫–æ–π –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã. –≠—Ç–∏ 50 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ–ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–∏–º—ã –¥–ª—è –º–µ–Ω—è.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –¥–µ—Å—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç –ø–æ–¥—ä–µ–º–∞ —Å–∫–∞–ª–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å. –Ø –±—ã–ª –≤ —Ç—É–ø–∏–∫–µ. –ß–µ—Ä–µ–∑ —É—â–µ–ª—å–µ, –≤ –¥–≤—É—Ö—Å—Ç–∞—Ö –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –æ—Ç –º–µ–Ω—è –∏ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–∏–∂–µ, –ø—Ä–∏–ª–µ–ø–∏–ª–∞—Å—å —É –æ–±—Ä—ã–≤–∞ —Å–∞–∫–ª—è –ú—É—Å—ã. –í–æ–Ω –∏ –º–æ–π –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –ü—Ä–∞–≤–µ–µ, –≤ –ø–æ–ª–µ, —Å–∞–º –ú—É—Å–∞. –î–µ—Ç–∏ —Å–∫–∏—Ä–¥—É—é—Ç —Å–µ–Ω–æ. –Ý—è–¥–æ–º –±–µ–≥–∞–µ—Ç —Å–æ–±–∞–∫–∞. –Ø –∑–∞–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è –≤ —â–µ–ª–∏. –ù–∞—à–µ–ª —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ –º–µ—Å—Ç–æ, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –º–µ–Ω—è —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–Ω–æ, –∞ —è –≤–∏–¥–µ–ª —Å—Ä–∞–∑—É –≤—Å–µ—Ö.
–ò —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª –ø–ª–∞–Ω –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–∏—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π. –ò—Å–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å –µ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–µ–º –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏—Ö –Ω–∞ –ö–∞–≤–∫–∞–∑–µ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏—Ö —Å—É–º–µ—Ä–µ–∫. –ê –¥–æ –Ω–∏—Ö –µ—â—ë –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–æ–∂–∏—Ç—å. –ü–æ —Ç–µ–Ω–∏ –æ—Ç —Å–∞–∫–ª–∏ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –æ–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ —á–∞—Å–æ–≤. –ú–µ–Ω—è –µ—â—ë –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª—Å—è. –°—Ç–∞–ª–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ. –û—Ç –º–µ–Ω—è —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∑–∞–≤–∏—Å–µ–ª–æ. –í—Å—ë –∑–∞–≤–∏—Å–µ–ª–æ –æ—Ç —É–¥–∞—á–∏.
–¶–µ–ª—ã–π —á–∞—Å –Ω–∏—á–µ–≥–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π —è –ø—Ä–æ–∏–≥—Ä–∞–ª —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é, –∫–æ–≥–¥–∞ –∫–æ –º–Ω–µ —Å–Ω–∏–∑—É –±—É–¥–µ—Ç –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞—Ç—å—Å—è. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è –æ—Ç–±–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ–ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—é –±—É–¥–µ—Ç –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ —É–¥–æ–±–Ω–µ–µ –ø–æ–¥—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è. –ù–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, —Ä–∞–Ω–∏—Ç—å –Ω–æ–≥—É. –î–∞. –ï—Å–ª–∏ –º–µ–Ω—è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∞—Ç, –Ω–µ—á–µ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–Ω–∏—Å—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ. –Ø –¥–∞–∂–µ –ø–æ–¥—É–º—ã–≤–∞–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã, –≤ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å—Å—è –≤–Ω–∏–∑ —Å–æ —Å–∫–∞–ª—ã.
–í–æ–Ω –≤—ã—à–ª–∞ –∏–∑ —Å–∞–∫–ª–∏ –∂–µ–Ω–∞ –ú—É—Å—ã –∏ –ø–æ—à–ª–∞ –∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å —Ü—ã–ø–ª—è—Ç, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∂–∏–ª–∏ –≤ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–º –∫–æ—Ä–æ–±–µ –∏–∑ –º–µ–ª–∫–æ–π –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π —Å–µ—Ç–∫–∏. –í —Å–∞—Ä–∞–π –æ–Ω–∞ –Ω–µ –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª–∞. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–Ω—É—Ç –ú—É—Å–∞ —Å –¥–µ—Ç—å–º–∏ –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –∫ –¥–æ–º—É. –û–Ω–∏ –∑–∞—à–ª–∏ –≤ —Å–∞–∫–ª—é, –Ω–µ –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–≤ –≤ —Å–∞—Ä–∞–π. –ï—â–µ –º–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –∏–∑ —Å–∞–∫–ª–∏ –≤—ã—à–µ–ª –º–∞–ª—å—á–∏–∫. –û–Ω –≥—Ä—ã–∑ —è–±–ª–æ–∫–æ, –ø—Ä–∏–≤–µ–∑—ë–Ω–Ω–æ–µ –º–∞—Ç–µ—Ä—å—é –∏–∑ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏. –í—ã—à–µ–ª –ú—É—Å–∞ —Å –º–æ–µ–π –º–∏—Å–∫–æ–π. –ü–µ—Ä–µ–¥–∞–ª –µ—ë –º–∞–ª—å—á–∏–∫—É –∏ —Ç–æ—Ç –ø–æ—à–µ–ª –≤ —Å–∞—Ä–∞–π, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞–∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è. –Ø –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–ª–µ–¥–∏–ª –∑–∞ –Ω–∏–º. –í –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç –º–Ω–µ –¥–∞–∂–µ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å—Ç—ã–¥–Ω–æ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤–æ—Ç –æ–Ω –º–Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –ø–æ–µ—Å—Ç—å, –∞ –º–µ–Ω—è –Ω–µ—Ç. –ú–∞–ª—å—á–∏–∫ –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è. –ê –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –≤—ã—à–µ–ª, —Ç–æ –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–º—É —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ–≥–æ –≤–∏–¥—É –±—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, –∫–∞–∫ –æ–Ω –Ω–∞–ø—É–≥–∞–Ω. –û–Ω –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —Å–µ–±–µ, –∫–∞–∫ —Å–∫–∞–∂–µ—Ç –æ—Ç—Ü—É, —á—Ç–æ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫ –ø—É—Å—Ç. –û–Ω –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –¥–≤–µ—Ä–∏ —Å–∞–∫–ª–∏. –ü–æ—Å—Ç–æ—è–ª. –ü–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–∏–æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –¥–≤–µ—Ä—å –∏, –Ω–µ –∑–∞—Ö–æ–¥—è –≤–Ω—É—Ç—Ä—å, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–± —É–≤–∏–¥–µ–Ω–Ω–æ–º. –ü–æ—Ç–æ–º –æ—Ç–æ—à—ë–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å.
–ù–∞ –ø–æ—Ä–æ–≥–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ú—É—Å–∞ —Å –∫—É—Å–∫–æ–º —Ö–ª–µ–±–∞ –∏ –ª—É–∫–æ–º. –û–Ω –∂–µ–≤–∞–ª. –ú—É—Å–∞ –ø–æ—Å—á–∏—Ç–∞–ª —Å–ª–æ–≤–∞ –º–∞–ª—å—á–∏–∫–∞ —à—É—Ç–∫–æ–π. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –µ—â–µ —Ä–∞–∑, —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å, –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ —Å—ã–Ω–∞, –∞ —Ç–æ—Ç –ø–æ–ø—è—Ç–∏–ª—Å—è, –ú—É—Å–∞ –±—Ä–æ—Å–∏–ª —Ö–ª–µ–± –∏ –∑–∞–ª–µ—Ç–µ–ª –≤ —Å–∞—Ä–∞–π. –ß–µ—Ä–µ–∑ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã –æ–Ω –≤—ã–±–µ–∂–∞–ª –Ω–∞—Ä—É–∂—É –∏ –∑–∞–∫—Ä—É—Ç–∏–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –ó–∞–±–µ–∂–∞–ª –≤ —Å–∞–∫–ª—é –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –≤—ã–±–µ–∂–∞–ª —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º. –°–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞—Å–∫–æ—á–∏–ª –≤ —Å–∞—Ä–∞–π –∏, –≤—ã–±–µ–∂–∞–≤ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞, –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö. –ò–∑ —Å–∞–∫–ª–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤—Å—è —Å–µ–º–µ–π–∫–∞. –ñ–µ–Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ —á—Ç–æ-—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –ú—É—Å–µ –∏, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –ø–æ–≤–µ–ª–∞ —Ä—É–∫–æ–π –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ú—É—Å–∞ –∑–∞—Ä–µ–≤–µ–ª, –æ–Ω –æ—Ç –ø—É–∑–∞ –ø—É—Å—Ç–∏–ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –≤–¥–æ–ª—å –≥–æ—Ä—ã, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è —Å–∏–¥–µ–ª. –ù–∞ –º–µ–Ω—è —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –ø–æ—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –∫–∞–º—É—à–∫–∏. –ï—Å–ª–∏ –æ–Ω–∞ –≤—Å—ë –∂–µ –º–µ–Ω—è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∞, —è –ø—Ä–æ–ø–∞–ª. –ù–æ –ú—É—Å–∞ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª. –í –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª. –° —ç—Ç–æ–≥–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –ú—É—Å–∞ –Ω–∞—á–∞–ª –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –ø–æ–∏—Å–∫–∏ –º–µ–Ω—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–∏–¥–µ–ª —É –Ω–µ–≥–æ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –ø–æ–¥ –Ω–æ—Å–æ–º.
–°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ú—É—Å–∞ —É—à—ë–ª, –Ω–æ –º–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è —Å –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–º –º–Ω–µ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–º. –ü—Ä—è–º–æ —É —Å–∞—Ä–∞—è –æ–Ω–∏ –ø–æ—á–∞–ª–∏ –±—É—Ç—ã–ª–∫—É –≤–æ–¥–∫–∏. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –µ—â—ë –¥–≤–æ–µ. –û–Ω–∏ —Ç–æ–∂–µ –¥—ë—Ä–Ω—É–ª–∏ –ø–æ –ø–æ–ª—Å—Ç–∞–∫–∞–Ω–∞ –≤–æ–¥–∫–∏ –∏ —É—à–ª–∏. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–Ω—É—Ç —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –æ–±–∞ –æ–Ω–∏ —Ö–æ–¥—è—Ç –≤–Ω–∏–∑—É –ø–æ–¥–æ –º–Ω–æ—é. –û–¥–∏–Ω –ø–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —É—â–µ–ª—å—è, –≤–¥–æ–ª—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ —ç—Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥–æ –º–Ω–æ–π.
–Ø –±–æ—è–ª—Å—è –æ–¥–Ω–æ–≥–æ: —á—Ç–æ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∏–∑ —Å–µ–ª–∞ –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç –∫ –ú—É—Å–µ –∏ —Å–∫–∞–∂–µ—Ç, —á—Ç–æ –≤–∏–¥–µ–ª –º–µ–Ω—è. –ò–ª–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å–∞–º –ú—É—Å–∞ –ø–æ–π–¥—ë—Ç –≤ —Å–µ–ª–æ –∑–∞ –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–µ–π. –ù–æ –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –ø–∏—Ç—å –≤–æ–¥–∫—É.
–°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —á–∞—Å–∞ —è –±—ã–ª –∑–∞–Ω—è—Ç –æ—Ç—Å–ª–µ–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–µ–º –≤—Å–µ—Ö, –∑–∞–Ω—è—Ç—ã—Ö –≤ –º–æ–µ–π –ø–æ–∏–º–∫–µ. –û–Ω–∏ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω—ã—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π. –î–≤–æ–µ —Ç–∞–∫ –∏ —Ä–∞—Å—Ö–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–¥–æ –º–Ω–æ—é –≤–¥–æ–ª—å —É—â–µ–ª—å—è. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, —Ç–æ—Ç —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, —á—Ç–æ —Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—É. –û—Ç—Ç—É–¥–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –¥–∞–ª–µ–∫–æ –≤ –æ–±–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã.
–ß—É—Ç—å –ø–æ–∑–∂–µ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, —á—Ç–æ —Ö–æ–¥–∏–ª –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥–æ –º–Ω–æ—é, –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –Ω–∞ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫—É –≤—ã—à–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –ß—Ç–æ–±—ã –µ–≥–æ –ª—É—á—à–µ –≤–∏–¥–µ—Ç—å —è —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –ø–æ–Ω–∏–∂–µ. –û—Ç—Ç—É–¥–∞ –∏ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–π –∏ —É–¥–æ–±–Ω—ã–π —Å–ø—É—Å–∫ –∫ —Ä–µ–∫–µ. –û–Ω –±—ã–ª –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–µ–Ω –æ—Ç —Å–∞–∫–ª–∏ –ú—É—Å—ã, –Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç –≤–∑–æ—Ä–∞–º –∏–∑ —Å–µ–ª–∞. –ß—Ç–æ–±—ã –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è —ç—Ç–∏–º —Å–ø—É—Å–∫–æ–º, –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–æ–∂–¥–∞—Ç—å—Å—è —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã.
–ú—É—Å–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –∏–∑ —Å–∞–∫–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑. –û–Ω –ø—Ä–æ—à—ë–ª –ø–æ –æ–±—Ä—ã–≤—É –¥–æ —É—Ç—ë—Å–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞. –° —Ç–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –æ–Ω –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –≤–∏–¥–µ—Ç—å –≤—Å–µ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ–Ω –ø–∞–Ω–æ—Ä–∞–º–Ω–æ –±–¥–µ–ª, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º, —Å –¥–æ—Å–∞–¥—ã, –≤—Å–∫–∏–Ω—É–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö. –ß–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –≤ —É—â–µ–ª—å–µ –Ω–∞—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å –∏ –ø–æ—à–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–∞–∫–ª–∏. –ò–∑ —Å–∞–∫–ª–∏ –≤—ã–≥–ª—è–Ω—É–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω, –ø—Ä–∏–≤–ª–µ—á—ë–Ω–Ω—ã–π –∫ –ø–æ–∏—Å–∫–∞–º —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. –û–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –ú—É—Å–µ, —Ç–æ—Ç –≥–æ—Ä—Ç–∞–Ω–Ω–æ –æ—Ç–æ–∑–≤–∞–ª—Å—è –∏ –≤—Å–µ –æ–ø—è—Ç—å –ø–æ—à–ª–∏ –ø–æ —Å–≤–æ–∏–º –º–µ—Å—Ç–∞–º. –ú—É—Å–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Å–∞–∫–ª—é. –¢–∞–º –∑–∞–∂—ë–≥—Å—è —Å–≤–µ—Ç –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–∫–∏, —Ö–æ—Ç—è —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –µ—â—ë —Ç–æ—Ä—á–∞–ª–æ –º–µ–∂–¥—É –≥–æ—Ä –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞.
–¢—É—Ç —è –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è —É–∫—É—Å–∏–ª–∞ –∑–º–µ—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —É–ø–∞–ª –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω—å –≤ —Ä—É—Å–ª–µ —Ä—É—á—å—è. –ö–∞–∫ –Ω–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ —É–∫—É—à–µ–Ω–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ, —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –º–Ω–µ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –æ–±—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å –µ–≥–æ —Ä—É–∫–∞–º–∏. –í–æ–∫—Ä—É–≥ —É–∫—É—Å–∞ –±—ã–ª–∞ –±–æ–ª—å—à–∞—è –ø—Ä–∏–ø—É—Ö–ª–æ—Å—Ç—å, –∞ –≤ —Å–∞–º–æ–π —Ç–æ—á–∫–µ —É–∫—É—Å–∞ — –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è —è–º–æ—á–∫–∞. –ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ –±–æ–ª–µ–ª–æ.
–ü—Ä–∏–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è, —è —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –º–µ–Ω—è —É–∫—É—Å–∏–ª–∞ –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∞—è –≥–∞–¥—é–∫–∞. –ü–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–º –ú—É—Å—ã, –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –∑–º–µ–π –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –°–∞–º–∞ –∂–µ –≥–∞–¥—é–∫–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ–ø–∞—Å–Ω–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–µ—Å–Ω–æ–π –∏ –≤ –Ω–∞—á–∞–ª–µ –ª–µ—Ç–∞. –≠—Ç–æ, –æ–ø—è—Ç—å –∂–µ, —Å–æ —Å–ª–æ–≤ –ú—É—Å—ã. –ü–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –±—ã–ª–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–µ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è, —è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –≤—ã–∂–∏—Ç—å. –ü–æ–∫–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–π –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è —è–¥–∞ —è –Ω–µ –∑–∞–º–µ—á–∞–ª, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º—É —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ —É–∫—É—Å–∞ –∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –≠—Ç–æ –º–æ–≥–ª–∞ –±—ã—Ç—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ü–∞—Ä–∞–ø–∏–Ω–∞.
–û–∫–æ–ª–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ —Å–∫—Ä—ã–ª–æ—Å—å –∑–∞ –≥–æ—Ä–∞–º–∏. –ù–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–µ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∏. –ü–æ—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç—ã–π –≤–µ—Ç–µ—Ä –Ω–∞–≥–Ω–∞–ª —Ç—É—á–∏. –£–∂–µ –±—ã–ª–∏ —Å–ª—ã—à–Ω—ã —Ä–∞—Å–∫–∞—Ç—ã –≥—Ä–æ–º–∞. –Ø –ø—Ä–æ—Å–ª–µ–¥–∏–ª, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ —Å–≤–æ–∏ –ø–æ—Å—Ç—ã –∏ —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Å–∞–∫–ª–µ. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –ò —Ö–æ—Ç—è –∏–∑ —Å–µ–ª–∞ –º–µ–Ω—è –º–æ–≥–ª–∏ –µ—â—ë –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å, –º–µ–¥–ª–∏—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ù–∞—á–∞–≤—à–∏–π—Å—è –¥–æ–∂–¥—å –º–æ–≥ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å —Å–∫–ª–æ–Ω, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É —è –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∫ —Ä–µ–∫–µ, –≤ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–∫–æ–ª—å–∑–∫—É—é –≥–æ—Ä–∫—É.
–ü–æ –ø—É—Ç–∏ –¥–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞ –º–Ω–µ –ø–æ–ø–∞–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω —Å–ª–æ–∂–Ω—ã–π —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫. –ö–∞–∫ —Ä–∞–∑ –≤ —Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ —Ä–∞—Å—â–µ–ª–∏–Ω–∞ –∫–æ–Ω—á–∞–ª–∞—Å—å. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, —Ç–∞–º –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª—Å—è —Å–∫–ª–æ–Ω, –Ω–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª —Ç–æ—Ç –µ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –µ—â—ë –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è –∏–∑ —Å–∞–∫–ª–∏. –ß—É—Ç—å –æ–±–æ–≥–Ω—É–≤ —Å–∫–∞–ª—É, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è —Å–ø—É—Å–∫–∞ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω. –û—Ç –º–µ—Å—Ç–∞, –≥–¥–µ —è —Å–µ–π—á–∞—Å —Å–∏–¥–µ–ª, –¥–æ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞, –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–∞ –¥–≤–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç—ã. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏ –ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å. –Ø –µ—â—ë —Ä–∞–∑ —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ú—É—Å–∞ —Å –ø—Ä–∏—è—Ç–µ–ª—è–º–∏ –≤ —Å–∞–∫–ª–µ. –ü—Ä—ã–≥–Ω—É–ª –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω –∏ –µ–¥–≤–∞ –Ω–µ –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–ª—Å—è –ø–æ –Ω–µ–º—É –∫—É–±–∞—Ä–µ–º. –ù–∞ —Å–≤–æ–µ–π –±–æ–ª—å–Ω–æ–π, —É–∫—É—à–µ–Ω–Ω–æ–π –ø—Ä–µ—Å–º—ã–∫–∞—é—â–∏–º—Å—è –∑–∞–¥–Ω–∏—Ü–µ, –ø—Ä–æ–ø–∞—Ö–∞–ª –≤–Ω–∏–∑ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –∏ –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è, –≤—Å—ë –±—ã–ª–æ –≤ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ. –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è, –≤–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–ª–æ –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ –µ—â–µ –≤ –ø–æ–ª–µ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è. –î–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –≤–Ω–∏–∑—É –æ–∫–æ–ª–æ —Å—Ç–∞ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –∫—Ä—É—Ç–æ–≥–æ, –≥–æ–ª–æ–≥–æ, –Ω–æ —Ä–æ–≤–Ω–æ–≥–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞. –£–∂–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –ü—Ä–µ–¥–º–µ—Ç—ã, –¥–∞–∂–µ –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏, –µ–¥–≤–∞ —É–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å. –ö–æ–≥–¥–∞ —è –¥–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –¥–æ —Ä–æ—â–∏, —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ç–µ–º–Ω–æ, –∏ –ª–∏–≤–∞–Ω—É–ª –¥–æ–∂–¥—å. –ù–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –≥—Ä–æ–∑–∞.
–ù–∞–ø–∏–≤—à–∏—Å—å –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω–µ, –ø–µ—Ä–µ—à—ë–ª –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω—ã–π –±–µ—Ä–µ–≥. –ò –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —É–ø—ë—Ä—Å—è –≤ —à—Ç–∞–∫–µ—Ç–Ω–∏–∫ –∑–∞–±–æ—Ä–∞. –ü–µ—Ä–µ–ª–µ–∑. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –±—ã–ª –ø–æ–ª–æ–≥–∏–π —Å–∫–ª–æ–Ω, –ø–æ—Ä–æ—Å—à–∏–π –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–π –º–Ω–µ –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–æ–π, –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π —á—É—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ –º–µ—Ç—Ä–∞. –ü—Ä–∏—Å–µ–≤, –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –ú–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è—Å—å –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, —è –Ω–∞—á–∞–ª —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å.
–ö —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –≤–¥–æ–ª—å –ö–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞ –∏ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤ –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏—é.
–Ø –æ—Ü–µ–Ω–∏–ª —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –¥–æ –ú–∞–≥–∞—Å–∞ — —Å—Ç–æ–ª–∏—Ü—ã –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏ — –≤ 70 –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ó–∞ –¥–≤–∞-—á–µ—Ç—ã—Ä–µ –¥–Ω—è –º–æ–∂–Ω–æ –¥–æ–π—Ç–∏. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –µ—â—ë –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–µ–º—å–¥–µ—Å—è—Ç –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö –∑–∞–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞—é—Ç—Å—è –≤ —Å–µ–º—å—Å–æ—Ç. –Ø –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–µ–±–µ, –∫–∞–∫ –ø–æ–¥—Ö–æ–∂—É –∫ –ú–∞–≥–∞—Å—É, –∫ –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–º—É –¥–≤–æ—Ä—Ü—É –ê—É—à–µ–≤–∞ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ö–∞–∑–±–µ–∫–∞. –£ –Ω–µ–≥–æ —Ç–∞–º –≤–æ –¥–≤–æ—Ä—Ü–µ –µ—Å—Ç—å —Ç–∞–∫–∞—è –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞: –≤–∏–¥ –∏–∑ –¥–≤–æ—Ä—Ü–∞ –Ω–∞ –ö–∞–∑–±–µ–∫. –Ø —É–∂–µ –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–∫–∞–∂—É –≥–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Ü–∞–º, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª, –∫–∞–∫ –±—É–¥—É –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º. –ù—É –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ…
–ì—Ä–æ–∑–∞ —É—Å–∏–ª–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è –±—ã–ª–æ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å. –Ø –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –∫—É—Ä—Å –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤—Å–ø—ã—à–µ–∫ –º–æ–ª–Ω–∏–∏. –ß–∞—Å—Ç–æ –æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞–∑–∞–¥, –Ω–∞ –æ–≥–æ–Ω—ë–∫ –≤ —Å–∞–∫–ª–µ –ú—É—Å—ã.
–î–æ—Ä–æ–≥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Å–≤–µ—Ä—Ö—É —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∞—Å—å, —á—É—Ç—å –ª–∏ –Ω–µ –∫–∞–∫ —à–æ—Å—Å–µ, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –æ–±—ã—á–Ω–æ–π —Ä–∞–∑–±–∏—Ç–æ–π –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–∫–æ–π —Å –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ–π –∫–æ–ª–µ—ë–π. –°–ª–µ–≤–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –¥–≤–∞ –∂–∏–ª—ã—Ö –¥–æ–º–∞. –î–æ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–æ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Ç—Ä—ë—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–∫–µ —Å—Ç–æ—è–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω, –∏ —è –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–µ–ª–∞ –ø—Ä—è–º–æ –∫ –Ω–µ–º—É. –î–æ–º –Ω–µ –∂–∏–ª–æ–π. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ —Å—Ä–∞–∑—É, –Ω–æ –±–ª–∏–∑–∫–æ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∫ –Ω–µ–º—É –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –Ø —É–∂–µ —à—ë–ª –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –ù–µ –¥–æ—Ö–æ–¥—è –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–æ –¥–æ–º–∞, –Ω–∞—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ —Ç—É –¥–æ—Ä–æ–≥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –º–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑ –≤–∏–¥–µ–ª –∏–∑ —Å–∞–∫–ª–∏. –û–Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∏–≤–∞–ª–∞ –≥–æ—Ä–∫—É –∏ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –¥–∞–ª—å—à–µ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥. –Ø –¥–≤–∏–Ω—É–ª –∫ –Ω–µ–π. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Å–µ–ª–æ —Å–∫—Ä—ã–ª–æ—Å—å –∑–∞ —Ä–æ—â–µ–π. –ò–∑-–∑–∞ –¥–æ–∂–¥—è –∏–¥—Ç–∏ –±—ã–ª–æ –ª–µ–≥–∫–æ. –í–æ –≤—Å–ø—ã—à–∫–∞—Ö –º–æ–ª–Ω–∏–π –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç –¥–∞–ª–µ–∫–æ –≤–ø—Ä–∞–≤–æ, –∞ –∑–∞—Ç–µ–º –æ–ø—è—Ç—å –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–∫–µ. –ß—Ç–æ–±—ã —Å—Ä–µ–∑–∞—Ç—å –ø—É—Ç—å, –ø–æ—à—ë–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–∫. –ü–æ —Ç—Ä–∞–≤–µ. –î–æ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ü—Ä–æ–π–¥—è –¥–≤–µ —Ç—Ä–µ—Ç–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—è, –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞—Ö–æ–∂—É—Å—å –≤ –±–æ–ª–æ—Ç–µ. –í–µ–∑–¥–µ –≤–æ–¥–∞. –ì–¥–µ –ø–æ —â–∏–∫–æ–ª–æ—Ç–∫—É, –≥–¥–µ –ø–æ –∫–æ–ª–µ–Ω–æ. –ü—Ä–∏—á—ë–º, —è –∫–∞–∫-—Ç–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞–±–ª—É–¥–∏–ª—Å—è. –ù–µ –º–æ–≥ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–ø–µ—Ä—ë–¥, –Ω–æ –∏ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –ø—É—Ç—å –Ω–∞–∑–∞–¥. –ü–æ–ø–ª—É—Ç–∞–≤, –Ω–∞—à—ë–ª —Å—É—Ö–æ–π –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–æ—á–µ–∫. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∫–∞–∫–æ–π –æ–Ω –º–æ–≥ –±—ã—Ç—å —Å—É—Ö–æ–π, –µ—Å–ª–∏ —à—ë–ª –ø—Ä–æ–ª–∏–≤–Ω–æ–π –¥–æ–∂–¥—å? –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, —è –ø—Ä–∏—Å–µ–ª –Ω–∞ —Ç—Ä–∞–≤—É, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–∏–ª—ë–≥. –û–≥–æ–Ω—ë–∫ –≤ —Å–∞–∫–ª–µ –ú—É—Å—ã –≤—Å—ë —Ç–∞–∫ –∂–µ —á—ë—Ç–∫–æ –≤–∏–¥–µ–Ω –∏ –æ—Ç—Å—é–¥–∞.
–û—Ç–¥—ã—Ö–∞—Ç—å –Ω–∞ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∫–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –î–æ–∂–¥—å —É—Å–∏–ª–∏–ª—Å—è, –∏ —è —Å–∫–æ—Ä–æ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Å—Ç—Ä–æ–≤–∫–∞ —É–∂–µ –Ω–µ—Ç. –°–Ω–æ–≤–∞ —Å—Ç–æ—é –≤ –≤–æ–¥–µ. –ü–æ–ø—Ä–æ—Å—Ç—É, —è –ø–æ–ø–∞–ª –≤ —Ç–∞–∫–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –∑–∞–ª–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –≤–æ–¥–æ–π. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –Ω–µ –∑—Ä—è –æ–±—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –µ–≥–æ.
–Ý–µ—à–∏–ª –≤—Å—ë –∂–µ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–∞–ø—Ä—è–º–∏–∫. –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ –≤ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ–π —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ –∏ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ –ø–æ—è—Å –≤ –≤–æ–¥–µ, —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç —è –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –ï—â—ë —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å — –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∏–ª –≥–æ—Ä–∫—É. –î–æ–º –ú—É—Å—ã –ø—Ä–æ–ø–∞–ª –∏–∑ –≤–∏–¥—É. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø–æ—à–ª–∞ —á—É—Ç—å –≤–Ω–∏–∑. –°–ª–µ–≤–∞ –∑–∞–º–µ–ª—å–∫–∞–ª–∏ –æ–≥–æ–Ω—å–∫–∏. –ü—Ä–æ–π–¥—è –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –æ–∫–æ–ª–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞, —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Å–ª–µ–≤–∞ –µ—â—ë –æ–¥–Ω–æ —Å–µ–ª–æ. –û–Ω–æ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–æ—Å—å –≤ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–π –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ –≥–æ—Ä–∞–º–∏ –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞.
–ü—Ä–æ–π–¥—è –µ—â–µ —Å –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞, —É–≤–∏–¥–µ–ª –æ–≥–æ–Ω—å–∫–∏ –∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞, –∑–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —Ä–æ—â–µ–π. –ì—Ä–æ–∑—ã —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –Ω–æ –¥–æ–∂–¥—å –Ω–µ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è. –û—Ç—á—ë—Ç–ª–∏–≤–æ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –ª–∞–π —Å–æ–±–∞–∫. –ò–º –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ —Å–æ–±–∞–∫–∞ –∏–∑ —Å–µ–ª–∞ –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ. «–ü–µ—Ä–µ–ª–∞–π», — –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª —è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã –æ –¥–µ—Ç—è—Ö –ö–æ—Ä–Ω–µ—è –ß—É–∫–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ.
–î–æ—Ä–æ–≥–∞ –æ–±—Ä–µ—Ç–∞–ª–∞ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–∏ —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏. –í–¥–æ–ª—å –Ω–µ—ë —Ä–æ—Å–ª–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–æ–≤–Ω—ã–º —Ä—è–¥–æ–º. –ü–æ –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏ — –ø–æ—Å–∞–¥–∫–∏ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫–∞.
–û–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å—É –Ω–æ—á–∏ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –æ–≥–Ω–∏ –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ –∫—É—Ä—Å—É. –≠—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–µ–Ω—è–ª–æ –¥–µ–ª–æ. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å—Å—è.
–°–≤–µ—Ä–Ω—É–ª —Å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –ø–æ–¥ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è. –ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –≤—ã–º–æ—Ç–∞–ª—Å—è. –ù–∞—Å–∫–≤–æ–∑—å –ø—Ä–æ–º–æ–∫—à–∏–π, –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å —Ö–ª–µ–± –∏ —Å—ã—Ä –∏–∑ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞ –∫—É—Ä—Ç–∫–∏. –¢–æ, —á—Ç–æ —è –¥–æ—Å—Ç–∞–ª, —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ —Ö–ª–µ–±–æ–º, –Ω–∏ —Å—ã—Ä–æ–º. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –∂–µ–≤–∞—Ç—å —ç—Ç—É —Å–ª–∏–∑–∏—Å—Ç—É—é –º–∞—Å—Å—É –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –≤—ã–ø–ª—é–Ω—É–ª. –° —Ç–µ–º –∂–µ —É—Å–ø–µ—Ö–æ–º –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–∂–µ–≤–∞—Ç—å –∑–µ–º–ª—é. –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –∏ –æ—Ç –º–æ–µ–≥–æ –∫–∞–ª–µ–Ω–¥–∞—Ä–∏–∫–∞. –ú—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫ —Ç–æ–∂–µ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª. –û—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞—Å—á—ë—Å–∫–∞. –ü—Ä–∏–ø–∞—Å—ë–Ω–Ω—ã–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–∏—á–µ–∫ –∏ –∫–æ—Ä–æ–±–æ–∫ –≤—ã–∫–∏–¥—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –≤ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–µ –≤—ã—Å—É—à–∏—Ç—å –∏ –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏–º–∏.
–Ý–∞—Å—á—ë—Å–∫–∞ –∏ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏ — —ç—Ç–æ –≤—Å—ë, —á—Ç–æ —É –º–µ–Ω—è –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –æ—Ç –ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–π –∂–∏–∑–Ω–∏. –ò –≤—Å—ë –∂–µ —è –±—ã–ª –Ω–∞ —Å–≤–æ–±–æ–¥–µ. –ò –æ–±—è–∑–∞–Ω –±—ã–ª –¥–æ–π—Ç–∏. –° —ç—Ç–∏–º–∏ –º—ã—Å–ª—è–º–∏ –∏ —É—Å–Ω—É–ª. –£—Å–Ω—É–ª, —Å—Ç–æ—è. –ü–æ–¥ –¥–æ–∂–¥—ë–º. –ú–Ω–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å. –ù–µ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω, –º–æ–∂–Ω–æ –ª–∏ —Ç–∞–∫–æ–µ –¥–µ–∂—É—Ä–Ω–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Å–Ω–æ–º. –û–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –∏–ª–∏, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, –æ—á–Ω—É–ª—Å—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —É–∂–µ —á—É—Ç—å —Å–≤–µ—Ç–∞–ª–æ. –í–æ —Å–Ω–µ —è –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω–∏–ª—Å—è –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –¢–æ–ª—å–∫–æ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª—Å—è –∑–∞ –Ω–µ–≥–æ. –ù–µ –ø–æ–º–Ω—é, –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª –ª–∏ —è –≥–ª–∞–∑–∞. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –Ω–µ –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–ª–µ–¥–∏—Ç—å –∑–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π. –ö–∞–∫–∏–º-—Ç–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–º —Å–∞–º –Ω–∞—à—ë–ª —Å–ø–æ—Å–æ–± –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å.
–°–Ω–æ–≤–∞ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ–º–∞, –Ω–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ —Ä–µ–∑–∫–æ –≤–ª–µ–≤–æ. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ — –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –û–Ω–∞ –ø–æ—à–ª–∞ –ø–æ –≥–æ—Ä–∫–µ. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ –±—ã–ª –ª–µ—Å, –∞ —Å–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω—ã–π –≤–∏–¥ –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω—É, –Ω–∞ —Å–µ–ª–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±–æ–ª—å—à–∏–º. –û–¥–Ω–æ–π —É–ª–∏—Ü–µ–π –æ–Ω–æ —Ç—è–Ω—É–ª–æ—Å—å –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –Ω–∞ –¥–≤–∞. –°–µ–π—á–∞—Å —è —à—ë–ª –≤–¥–æ–ª—å —Å–µ–ª–∞, –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ –¥–≤—É—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –∏ –º–µ—Ç—Ä–∞–º–∏ —Ç—Ä–µ–º—è—Å—Ç–∞–º–∏ –≤—ã—à–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª—Å—è —Å–æ–±–∞—á–∏–π –ª–∞–π, –∞ —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª—Å—è –æ–Ω –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±–ª–∏–∂–µ, —á–µ–º –∏–∑ —Å–µ–ª–∞, —è –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –∏ –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª—Å—è. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —Å–ª—ã—à–∞–ª, –∫–∞–∫ –ø–ª–∞–∫–∞–ª —Ä–µ–±—ë–Ω–æ–∫. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –≥–¥–µ-—Ç–æ –±–ª–∏–∑–∫–æ! –¢–æ–≥–¥–∞ —è —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –≥–æ—Ä–Ω–æ–π –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ì–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ø–æ–∑–∂–µ —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –∫—Ä–∏—á–∞—Ç —à–∞–∫–∞–ª—ã.
–Ø —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –∫—É–¥–∞ –∏–¥—É. –ï—â–µ –ø–æ –Ω–∞–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏—è–º –æ—Ç —Å–∞–∫–ª–∏ –ú—É—Å—ã –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å, –ø–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –º–µ—Ä–µ, –¥–≤–µ –≥–æ—Ä—ã –Ω–∞ —Å–≤–æ—ë–º –ø—É—Ç–∏. –í—ã—Å–æ—Ç—É, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å —Å–∞–∫–ª—è, —è –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª –≤ —Ç—ã—Å—è—á—É –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞–¥ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ–º –º–æ—Ä—è. –°–µ–π—á–∞—Å —è –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã—à–µ. –°–∞–∫–ª—è –±—ã–ª–∞ —Å–∫—Ä—ã—Ç–∞ –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –≥–æ—Ä–∫–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —è –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª –µ—â—ë –Ω–æ—á—å—é. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–∂—ë–Ω–Ω–∞—è –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –≥–æ—Ä—ã, –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö —Ç—ã—Å—è—á —Ç—Ä—ë—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ó–∞ –Ω–µ—é — —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ –¥–ª–∏–Ω–Ω–∞—è –≤–¥–æ–ª—å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã, –Ω–æ –ø–æ–≤—ã—à–µ. –ß—Ç–æ –±—ã–ª–æ –¥–∞–ª—å—à–µ, —è –≤–∏–¥–µ—Ç—å —É–∂–µ –Ω–µ –º–æ–≥. –í –ø–ª–∞–Ω–∞—Ö –±—ã–ª–æ –æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å —ç—Ç–∏ –≥–æ—Ä—ã –Ω–∞–ø—Ä—è–º—É—é, –¥–≤–∏–≥–∞—è—Å—å —Ç–æ—á–Ω–æ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥.
–°–æ–≤—Å–µ–º —Ä–∞—Å—Å–≤–µ–ª–æ. –°–µ–ª–æ —Å–ª–µ–≤–∞ –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å. –Ø –¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ö–æ—Ç—å –∏ –≤–µ–ª–∞ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥, –Ω–æ –ø–æ–ª–æ–≥–æ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –≤–Ω–∏–∑. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ —Ä–µ–ª—å–µ—Ñ —Å—Ç–∞–ª –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è, –∏ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –≤–¥–æ–ª—å –Ω–µ—ë —Ç—è–Ω–µ—Ç—Å—è —Ä–æ–≤–Ω–∞—è –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–∞—è –≥—Ä—è–¥–∞. –≠—Ç–∞ –≥—Ä—è–¥–∞ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–æ—Å—å –∫ –ª–µ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≥–æ—Ä—ã –≤ –¥–≤–µ —Ç—ã—Å—è—á–∏ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –Ø –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –Ω–∞ –≥—Ä—è–¥—É –∏ –ø–æ—à—ë–ª –ø–æ –Ω–µ–π.
–≠—Ç–æ—Ç –ø—É—Ç—å –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á—ë–ª –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è. –ó–¥–µ—Å—å —Ç–æ–∂–µ –±—ã–ª–∞ –µ–¥–≤–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞. –£–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å —É–∑–∫–∞—è –∫–æ–ª–µ—è. –û–∫–æ–ª–æ –¥–µ–≤—è—Ç–∏ —á–∞—Å–æ–≤ —É—Ç—Ä–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—è —è —É–∂–µ –±—ã–ª –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã.
–° —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —è –ø—Ä–∏—à–µ–ª, —Å–∫–ª–æ–Ω –≥–æ—Ä—ã –±—ã–ª —Å–ª–∞–±–æ –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω. –ó–∞—Ç–æ —Å–ø—É—Å–∫ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥ — –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä—É—Ç. –° —ç—Ç–æ–π –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –≤—Ç–æ—Ä–∞—è –≤–∏–¥–Ω–µ–ª–∞—Å—å –≤—Å–µ–≥–æ –≤ –¥–≤—É—Ö —Å –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö. –í–µ—Ä—à–∏–Ω–∞, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è, —Ç—è–Ω—É–ª–∞—Å—å —Å —é–≥–∞ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–π –≥–æ—Ä—ã — –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ –ø—Ä–æ—Ç—è–∂–µ–Ω–Ω–∞—è.
–Ø –Ω–∞—à—ë–ª —Ä–æ–≤–Ω—É—é –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –¥–æ–ª–∏–Ω–∞ –∏ –ì–ª–∞–≤–Ω—ã–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –ö–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—Ç–∏—Ö–∞–ª –≤–µ—Ç–µ—Ä, —Å–Ω–∏–∑—É –±—ã–ª —Å–ª—ã—à–µ–Ω —à—É–º –≥–æ—Ä–Ω–æ–π —Ä–µ–∫–∏. –¢–æ —Å–µ–ª–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —è –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª —Ä–∞–Ω–Ω–∏–º —É—Ç—Ä–æ–º, –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ù–æ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–µ–ª–∞, –≤–¥–æ–ª—å —Ä–µ–∫–∏ —à–ª–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –≤–∏–¥–Ω–∞—è –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Ñ—Ä–∞–≥–º–µ–Ω—Ç–∞–º–∏. –°—É–¥—è –ø–æ –≤—Å–µ–º—É, –¥–∞–ª—å—à–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é –º–µ–∂–¥—É —Ç–æ–π –≥–æ—Ä–æ–π, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è —Å—Ç–æ—è–ª, –∏ —Ç–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –µ—â—ë –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∏—Ç—å. –ì–æ—Ä–∞ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ –∫ –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–º—É —Ö—Ä–µ–±—Ç—É. –Ý–µ–∫–∞ —Ç–∞–º —Ç–µ—á—å –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∞, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∞ –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É.
–£ –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞ –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –≤–∏–¥–Ω–µ–ª–∏—Å—å –æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–ª—è, –Ω–æ –¥–æ–º–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –æ–Ω–∏ –º–æ–≥–ª–∏ –±—ã—Ç—å –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥–æ –º–Ω–æ—é, –∏ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –∏—Ö —è –Ω–µ –º–æ–≥. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ –ø–æ–¥–Ω—è–ª–æ—Å—å —É–∂–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –≤—ã—Å–æ–∫–æ, —á—Ç–æ–±—ã –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç—å—Å—è –∏ –æ–±—Å–æ—Ö–Ω—É—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–æ—á–∏. –ù–æ —á—Ç–æ–±—ã –æ–±—Å–æ—Ö–Ω—É—Ç—å, –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –∏ –Ω–µ –ª–µ–∑—Ç—å –≤ –º–æ–∫—Ä—É—é —Ç—Ä–∞–≤—É. –ü–æ–∫–∞ —è –Ω–µ –º–æ–≥ —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å.
–û–±—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å —Å–∫–ª–æ–Ω –∏ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≥–æ—Ä—ã –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∑–∞–ø–∞–¥–∞ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –Ø –ø—Ä–æ–¥—Ä–∞–ª—Å—è –∫ —Å–∫–ª–æ–Ω—É —á–µ—Ä–µ–∑ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫ –∏ —É–ø—ë—Ä—Å—è –≤ –æ–±—Ä—ã–≤. –ü—Ä—è–º–æ –∏–∑ –æ–±—Ä—ã–≤–∞ —Ä–æ—Å–ª–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, –∫—Ä–æ–Ω—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –æ–±–∑–æ—Ä. –Ø —Ä–µ—à–∏–ª –≤—ã–π—Ç–∏ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∏ –∏—Å–∫–∞—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è —Å–ø—É—Å–∫–∞ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ. –ò –≤ —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –±–æ–ª—å—à–æ–π –º–∞–ª–∏–Ω–Ω–∏–∫.
–ö—É—Å—Ç—ã –º–∞–ª–∏–Ω—ã –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –º–Ω–µ –¥–æ –≥—Ä—É–¥–∏. –ü—Ä–∏–≥–∏–±–∞—è—Å—å, –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–π—Ç–∏ –Ω–µ–º–∞–ª–æ —Å–ø–µ–ª—ã—Ö —è–≥–æ–¥. –û—á–µ–Ω—å –º–Ω–æ–≥–∏–µ –≤–µ—Ç–∫–∏ —É–∂–µ –æ—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å, –Ω–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ –º–∞–ª–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –≥—Ä—è–∑–Ω–æ–π.
–ú–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—è—Å—å –Ω–∞–∑–∞–¥ –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, —è –ø–æ–µ–¥–∞–ª –º–∞–ª–∏–Ω—É. –ß–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ —ç—Ç–æ —É—Ç–æ–ª—è–ª–æ –∂–∞–∂–¥—É. –£–≤–ª—ë–∫—Å—è —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –Ω–µ —Å—Ä–∞–∑—É —Å—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –Ω–∞ —à–æ—Ä–æ—Ö–∏ —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ—é. –í—ã–ø—Ä—è–º–∏–ª—Å—è –≤–æ –≤–µ—Å—å —Ä–æ—Å—Ç –∏ –≤ —Ç—Ä—ë—Ö —à–∞–≥–∞—Ö —É–≤–∏–¥–µ–ª –º–µ–¥–≤–µ–¥—è. –û–Ω —Ç–æ–∂–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–±—ã—á–Ω–æ –¥–µ–ª–∞—é—Ç –±–µ–≥–ª—ã–µ –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—Ä–∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ —Å –º–µ–¥–≤–µ–¥–µ–º, –Ω–æ –±—ã–ª —É–≤–µ—Ä–µ–Ω –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –° –ø–µ—Ä–µ–ø—É–≥—É —è —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ –∑–∞—Ä—ã—á–∞–ª. –ú–µ–¥–≤–µ–¥—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, –±—ã–ª –º–µ–¥–≤–µ–∂–æ–Ω–∫–æ–º, –ø–æ–º—á–∞–ª—Å—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –ê —è –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –µ—â—ë –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–π, –≤—ã–±—Ä–∞–ª—Å—è –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ.
–í—Å—ë –∂–µ, –ª—é–¥–µ–π —è –±–æ—è–ª—Å—è –±–æ–ª—å—à–µ. –ê –¥–ª—è –ª–µ—Å–Ω—ã—Ö –æ–±–∏—Ç–∞—Ç–µ–ª–µ–π –±—ã–ª –ø–æ—á—Ç–∏ —Å–≤–æ–∏–º. –í—Å–µ –∑–∞–ø–∞—Ö–∏ —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∏–∑ –º–µ–Ω—è —É–∂–µ –≤—ã–≤–µ—Ç—Ä–∏–ª–∏—Å—å.
–°—Ç–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –≤–¥–æ–ª—å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã. –®–µ–ª –ø–æ –ª–µ—Å—É. –í—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—è –≤–∏–¥ —ç—Ç–æ–π –≥–æ—Ä—ã –∏–∑ —Å–∞–∫–ª–∏, —è –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—É–¥–µ—Ç –≤–∏–¥–Ω–∞ —Å–∞–º–∞ —Å–∞–∫–ª—è. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ, –µ—â—ë —Ä–∞–∑ –ø–æ—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è: –¥–æ —Å–∞–∫–ª–∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–û—Ç —é–∂–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã —è —É—à—ë–ª –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –Ω–∞ –¥–≤–∞. –ó–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–π —Å–∫–ª–æ–Ω –≥–æ—Ä—ã, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –º–Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è, –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª —É–∂–µ –Ω–µ —Ç–∞–∫–∏–º –Ω–µ–ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–Ω—ã–º.
–ü–æ–¥–æ–π–¥—è –±–ª–∏–∂–µ –∫ —Å–∫–ª–æ–Ω—É, —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –æ–±—Ä—ã–≤. –û–Ω –±—ã–ª –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫—Ä—É—Ç, —á—Ç–æ –≤ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—Ç—ã –ª–∏—Å—Ç—å–µ–≤ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Ä–µ–∫–∞ –∏ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å —à–∞–Ω—Å—ã –Ω–∞ —Å–ø—É—Å–∫ –∏ –æ—Ü–µ–Ω–∏–ª. –®–∞–Ω—Å—ã –Ω—É–ª–µ–≤—ã–µ.
–í–Ω–∏–∑—É –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å, –ø–æ–¥–±–∏—Ä–∞—è –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ. –õ—é–¥–µ–π —Å —Ç–∞–∫–æ–π –≤—ã—Å–æ—Ç—ã –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏—Ç—å. –ü–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞–º –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–∞ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å –≤—ã—Å–æ—Ç—É. –û–Ω–∞ –ø—Ä–µ–≤—ã—à–∞–ª–∞ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–ê–≤—Ç–æ–±—É—Å —à—ë–ª –Ω–∞ —é–≥. –≠—Ç–æ –º–æ–≥–ª–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥–æ –º–Ω–æ—é –∂–∏–ª–∏ –ª—é–¥–∏, –¥–æ–º–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ü—Ä–∏–≥–ª—è–¥–µ–≤—à–∏—Å—å –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–µ–µ, —è —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –º–æ—Å—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –≤ —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —É—â–µ–ª—å—è. –Ø –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è, —á—Ç–æ, —Å–ø—É—Å—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å, –º–Ω–µ —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è –≤–±—Ä–æ–¥ –ø–µ—Ä–µ–π—Ç–∏ —Ä–µ–∫—É. –ú–æ—Å—Ç –∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –Ω–µ–Ω—É–∂–Ω–æ–π —Ä–æ—Å–∫–æ—à—å—é. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, —á—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–∞ —É –º–æ—Å—Ç–∞ –º–æ–≥–ª–∞ –±—ã—Ç—å —á—Ä–µ–≤–∞—Ç–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–µ–π —Å –ª—é–¥—å–º–∏.
–î–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –¥–∞–ª—å—à–µ –ø–æ –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–µ–≤–µ—Ä–∞. –ú–µ—Å—Ç–∞–º–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å —É—á–∞—Å—Ç–∫–∏, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∏–∂–µ, –Ω–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∞–∫–∏—Ö –ø–æ–ø—ã—Ç–æ–∫ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∏—á–µ–º. –Ø —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª—Å—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å-—Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —É–ø–∏—Ä–∞–ª—Å—è –≤ –Ω–µ–ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–∏–º—ã–π –æ–±—Ä—ã–≤. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –ø—É—Ç–∏ –≤–¥–æ–ª—å –≥–æ—Ä—ã —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ß—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –¥–∞–ª—å—à–µ, –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ª–µ–∑—Ç—å –∫ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ. –ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é —è –Ω–∞—É—á–∏–ª—Å—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è—Ç—å —Ç–∞–∫–∏–µ –ª–æ–∂–Ω—ã–µ —Å–ø—É—Å–∫–∏.
–ù–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –≤–Ω–æ–≤—å –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∞. –Ý–µ—à–∏–ª –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ –Ω–µ–π. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ —É—Å—Ç–æ–π—á–∏–≤–æ –ø–æ—à–ª–∞ –≤–Ω–∏–∑, –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–µ–≤–µ—Ä–∞. –°–∫–æ—Ä–µ–µ, —ç—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –∞ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤–æ–∑–∏–ª–∏ —Ç–µ–ª–µ–∂–∫—É, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, —Å –º–æ–ª–æ–∫–æ–º. –ë—ã–ª–∞ –≤–∏–¥–Ω–∞ —É–∑–∫–∞—è –∫–æ–ª–µ—è.
–ú–µ—Å—Ç–∞–º–∏ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –ø—Ä—è–º–æ –∫ –æ–±—Ä—ã–≤—É. –ú–µ–Ω–µ–µ —á–µ–º –∑–∞ —á–∞—Å —è —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –¥–æ –≤—ã—Å–æ—Ç—ã –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –æ—Ç —É—Ä–æ–≤–Ω—è –≤–æ–¥—ã. –ó–¥–µ—Å—å –ê—Ä–≥—É–Ω –≥—Ä–µ–º–µ–ª —É–∂–µ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –∑–∞–≥–ª—É—à–∞–ª —à—É–º –≤–µ—Ç—Ä–∞ –≤ –∫—Ä–æ–Ω–∞—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤. –ö–æ–≥–¥–∞ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∞ –∫ –æ–±—Ä—ã–≤—É –≤ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π —Ä–∞–∑, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –≤ —É—â–µ–ª—å–µ –Ω–∞ –≤–æ–¥–µ –º–æ—Ç–æ—Ä–Ω—É—é –ª–æ–¥–∫—É. –ú–µ—Å—Ç–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å –Ω–µ–æ–±–∏—Ç–∞–µ–º—ã–º–∏, –∫–∞–∫ –±—ã —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –∏ —Å—Ç–∞–ª –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—Ç—å. –ù–∞—à–µ–ª —É–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ —É –æ–±—Ä—ã–≤–∞ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∏. –° —Å–∞–º–æ–π —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∏ –º–µ–Ω—è –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å. –ó–¥–µ—Å—å –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π –≤–∏–¥ –Ω–∞ —Ä–µ–∫—É. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª –æ–±–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –±–µ—Ä–µ–≥–∞, –¥–æ—Ä–æ–≥—É –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –ê—Ä–≥—É–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –ø–æ –∫–∞–º–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–µ –Ω–∞–¥ —Ä–µ–∫–æ–π. –í—ã—Å–æ—Ç—É —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã —è –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª –≤ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –û–±—Ä—ã–≤ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã —É—Ö–æ–¥–∏–ª –ø—Ä—è–º–æ –≤ –≤–æ–¥—É.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —Ç—Ä–æ–∏—Ö –ª—é–¥–µ–π, –∫—É–ø–∞—é—â–∏—Ö—Å—è –≤ —Ä–µ—á–∫–µ. –û–ø—è—Ç—å –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –º–æ—Ç–æ—Ä–∫–∞. –û–Ω–∞ –≥—Ä–æ–º–∫–æ —Ä—ã—á–∞–ª–∞, –¥–≤–∏–≥–∞—è—Å—å –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ —é–≥. –ù–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Ä–µ–∫–∏ –≤ –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω–æ–π —Å–∫–∞–ª–µ –±—ã–ª –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –≥—Ä–æ—Ç. –ú–æ—Ç–æ—Ä–∫–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞ –∏ —Å–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –≤ —ç—Ç–æ–º –≥—Ä–æ—Ç–µ.
–Ø –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –¥–æ–∂–∏–¥–∞—Ç—å—Å—è —É—Ö–æ–¥–∞ –ª—é–¥–µ–π –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –¥–æ–ª–≥–æ. –°–æ–ª–Ω—ã—à–∫–æ —É–∂–µ –ø—Ä–æ–±–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å —Å–∫–≤–æ–∑—å —Ç—É—á–∏ –∏ –ª–∏—Å—Ç—å—è –Ω–∞ —ç—Ç—É —á–∞—Å—Ç—å —Å–∫–ª–æ–Ω–∞. –ë—ã–ª —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π –≤–µ—Ç–µ—Ä. –Ø —Ä–µ—à–∏–ª –∂–¥–∞—Ç—å –∏ —Å—É—à–∏—Ç—å—Å—è. –Ý–∞–∑–≤–µ—Å–∏–ª —Å–≤–æ–∏ —à–º–æ—Ç–∫–∏ –Ω–∞ –∫—É—Å—Ç–∞—Ö. –ü—Ä–∏–ª–µ–≥. –•–æ—Ç–µ–ª –¥–∞–∂–µ –ø–æ—Å–ø–∞—Ç—å, –Ω–æ –≤–µ—Ç–µ—Ä –±—ã–ª —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–µ–µ, —á–µ–º —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã. –ë—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ. –ü–æ–¥—ã—Å–∫–∞–ª —Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–æ –∑–∞ –≤–µ—Ç—Ä–æ–º. –ü—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—Ç—å.
–ú–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è —É–∂–µ –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫–∏, –∏ –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –ú–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–¥—Ä–µ–º–∞—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ —è —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤–Ω–∏–∑, —Ä–µ–±—è—Ç —Ç–∞–º –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–ù–∞–ø—Ä–∞—Å–Ω–æ —è –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è, —á—Ç–æ –∫—É—Ä—Ç–∫–∞ –∏ —à—Ç–∞–Ω—ã –≤—ã—Å–æ—Ö–Ω—É—Ç. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —Ç–∞–∫–∏–µ –∂–µ –º–æ–∫—Ä—ã–µ. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ —è –∏—Ö –æ–¥–µ–ª, —Å—Ç–∞–ª–æ —Ç–µ–ø–ª–µ–µ. –°–Ω–æ–≤–∞ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∏ –ø–æ—à—ë–ª –∫ –ê—Ä–≥—É–Ω—É. –ü—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏–µ —Å–∫–æ—Ä–æ–≥–æ —É—Ç–æ–ª–µ–Ω–∏—è –∂–∞–∂–¥—ã –≥–Ω–∞–ª–æ –º–µ–Ω—è –∫ –≤–æ–¥–µ. –°–ø—É—Å–∫ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –≤—Å—ë –ø–æ–ª–æ–∂–µ –∏ –≤–¥—Ä—É–≥ –∑–∞ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–º —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —à–∞–ª–∞—à. –¢—É—Ç –∂–µ –ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –≤ –∫—É—Å—Ç—ã. –ù–∞—à—ë–ª –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è –Ω–∞–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏—è –∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –ø–æ–ª—É—á–∞—Å–∞. –ù–∏–∫–æ–≥–æ. –û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∑–∏–ª—Å—è –∫ —à–∞–ª–∞—à—É. –í–æ—à—ë–ª –≤–Ω—É—Ç—Ä—å. –ù–∏—á–µ–≥–æ, –ø–æ–ª–µ–∑–Ω–µ–µ –∂–µ—Å—Ç—è–Ω–æ–π –±–∞–Ω–∫–∏ –∏–∑-–ø–æ–¥ –∫–∏–ª—å–∫–∏, –Ω–∞–π—Ç–∏ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –ù–æ –∏ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–æ–±—Ä–µ—Ç–µ–Ω–∏–µ. –í –±–∞–Ω–∫—É –º–æ–∂–Ω–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å —Ä–æ—Å—É —Å —Ç—Ä–∞–≤—ã –∏ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–π. –Ý–æ—Å—ã –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ, –Ω–æ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ –Ω–∞–ø–∏—Ç—å—Å—è –±–µ–∑ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è —Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –±—ã–ª–∏ —Ç—â–µ—Ç–Ω—ã.
–û—Ç —à–∞–ª–∞—à–∞ –¥–æ —Ä–µ–∫–∏ —Ä—É–∫–æ–π –ø–æ–¥–∞—Ç—å. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Å—Ç–∞–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∏ –≤–±—Ä–æ–¥, –Ω–∏ –≤–ø–ª–∞–≤—å –º–Ω–µ –µ—ë –Ω–µ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å. –î–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–≥–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ò –∫–∞–∫–∏—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤! –Ý–µ—á–∫–∞ –Ω–µ—Å–ª–∞—Å—å —Å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å—é. –í —Ç–µ—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö, –≥–¥–µ –Ω–∞ –ø—É—Ç–∏ –ø–æ—Ç–æ–∫–∞ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å –±–æ–ª—å—à–∏–µ –≤–∞–ª—É–Ω—ã, –≤–æ–ª–Ω–∞ –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º–∏ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç—É –±–æ–ª–µ–µ –º–µ—Ç—Ä–∞. –ü–æ—Ö–æ–¥ –Ω–∞ –º–æ—Ç–æ—Ä–∫–µ –ø–æ —Ç–∞–∫–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–º–Ω–∏–Ω–µ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å—É–º–∞—Å—à–µ–¥—à–∏–º –¥–µ–ª–æ–º.
–í–æ–¥–∞ –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω–µ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –≥—Ä—è–∑–Ω–∞—è, —á—Ç–æ, –¥–∞–∂–µ –Ω–∞–π–¥—è —Ç–∏—Ö—É—é –∑–∞–≤–æ–¥—å —É –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –∏ –∑–∞—á–µ—Ä–ø–Ω—É–≤ –≤–æ–¥—É –±–∞–Ω–æ—á–∫–æ–π, —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ø–∏—Ç—å —ç—Ç—É –≥—Ä—è–∑—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞–±—Ä–∞—Ç—å –≤–æ–¥—ã, —Ñ–∏–ª—å—Ç—Ä—É—è –µ—ë —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–æ—Å–æ–≤–æ–π –ø–ª–∞—Ç–æ–∫. –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–æ—Å—å. –°–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤—ã–π —Å–ª–æ–π –≤–æ–¥—ã –≤ –±–∞–Ω–∫–µ –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –µ—ë –¥–Ω–∞. –Ø —Å—Ç–æ—è–ª —É —Ä–µ–∫–∏, –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–µ–ª—å–∑—è –±—ã–ª–æ –Ω–∞–ø–∏—Ç—å—Å—è.
–°—Ç–∞–ª –∏—Å–∫–∞—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤—ã. –í —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–µ–≤–µ—Ä–∞, –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—é, –ê—Ä–≥—É–Ω –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –¢–∞–º –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤—ã. –ë—ã–ª–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —É–ø–∞–≤—à–∏–µ –≤ —Ä—É—Å–ª–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, –Ω–æ –∏—Ö —Å—Ç–≤–æ–ª—ã –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –¥–æ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã –ø–æ—Ç–æ–∫–∞.
–í–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ —è —Å—Ç–∞–ª –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —é–≥, –∫ –º–æ—Å—Ç—É. –ü–æ –º–æ–∏–º —Ä–∞—Å—á—ë—Ç–∞–º –¥–æ –Ω–µ–≥–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞. –ü—Ä–æ–¥–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—â–æ–±—É –∏ –≤–∞–ª–µ–∂–Ω–∏–∫ — –¥–µ–ª–æ –Ω–µ —Ü–∞—Ä—Å–∫–æ–µ. –ù–æ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –º–∏–º–æ –≥—Ä–æ—Ç–∞, –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å –µ–≥–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä—ã. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –∞–Ω–≥–∞—Ä. –í–Ω—É—Ç—Ä—å –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ –∑–∞–≥–Ω–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à–æ–π —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç.
–ü–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –ø–æ—á—Ç–∏ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–µ–º —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç—ã –¥–æ–º–æ–≤. –ò—Ö –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ. –°—É–¥—è –ø–æ –≤—Å–µ–º—É, –ª—é–¥–∏ —É—à–ª–∏ –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –ª–µ—Ç –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –Ω–∞–∑–∞–¥. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –¥–∞–∂–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–æ —Å–æ —Å—Ç–∞–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–º –≤—ã—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤.
–û–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä—ë—Ö –ø–æ–ø–æ–ª—É–¥–Ω–∏ —è –¥–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –¥–æ –º–æ—Å—Ç–∞. –ü–æ—Ç–æ–∫ –ø–æ–¥ –º–æ—Å—Ç–æ–º —Ä–µ–≤–µ–ª –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –º–æ—â–Ω–æ. –î–∞–º–±–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—É–∂–∏–≤–∞–ª–∞ —Ä–µ—á–∫—É. –Ý—è–¥–æ–º —Å –º–æ—Å—Ç–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥ –±—ã–ª –ø–æ–ª–æ–≥–∏–π. –í –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö —Ç–∞–º —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å –ª—É–∂–∏ –ø–æ—Å–ª–µ –¥–æ–∂–¥—è. –Ø –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö-—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—É–¥–µ—Ç –∑–∞—á–µ—Ä–ø–Ω—É—Ç—å –≤–æ–¥—ã –∏ –Ω–∞–ø–∏—Ç—å—Å—è. –ü–æ—Ç–µ—Ä—è–≤ –±–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å, —è –ø–æ—à—ë–ª –∫ –ª—É–∂–∞–º. –ó–∞—á–µ—Ä–ø–Ω—É–ª –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–π, –∏–∑ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π — —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –æ–¥–∏–Ω: –≤–æ–¥–∞ –≤ –ª—É–∂–∞—Ö –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∞—Å—å –æ—Ç –∞—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–π.
–ú–∞—à–∏–Ω—É –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –∏ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –ø–æ–∑–¥–Ω–æ. –ì—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫ –µ—Ö–∞–ª –∫ –º–æ—Å—Ç—É —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —é–≥–∞. –¢–æ –µ—Å—Ç—å, –ø–æ –º–æ–µ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ. –Ø –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –º–æ–µ–π —Ä—É—Å—Å–∫–æ–π –º–æ—Ä–¥—ã –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≤–∏–¥, —á—Ç–æ —Å—Ç–∏—Ä–∞—é –≤ –ª—É–∂–µ –ø–ª–∞—Ç–æ—á–µ–∫. –ì—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª –ø–æ –º–æ—Å—Ç—É –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∏ —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—É. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ —Ç–∞–º –∫—Ä—É—Ç–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –≤–≤–µ—Ä—Ö –∏ –¥–∞–ª—å—à–µ —à–ª–∞ –ø–æ —Ä–æ–≤–Ω–æ–º—É —É—á–∞—Å—Ç–∫—É —Å–∞–º–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã. –ë–æ–∫–æ–≤—ã–º –∑—Ä–µ–Ω–∏–µ–º —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≤ –∫—É–∑–æ–≤–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã, —Å–ø–∏–Ω–æ–π –∫ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—é, —Å–∏–¥—è—Ç –≤–æ–æ—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω—ã–µ –ª—é–¥–∏. –î–≤–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –≤ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–µ. –û–Ω–∏ —É–∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏ –º–µ–Ω—è, –Ω–æ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø—Ä–æ—è–≤–ª—è–ª–∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–∞. –Ø —É–ø–æ—Ä–Ω–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —Å—Ç–∏—Ä–∞—Ç—å –ø–ª–∞—Ç–æ—á–µ–∫. –ö–æ–≥–¥–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –æ—Ç—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ –æ—Ç –º–µ–Ω—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Å—Ç–æ, –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª —Å–µ–±–µ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å –≥–æ–ª–æ–≤—É –∏ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –Ω–µ—ë. –ó–∞–º–µ—Ç–∏–≤, —á—Ç–æ —è –∏—Ö –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –≤—Å—Ç–∞–ª–∏ –∏ –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–º–∞—Ö–∞–ª–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏. –û–¥–∏–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª. –í –æ—Ç–≤–µ—Ç —è —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–º–∞—Ö–∞–ª –∏–º. –°–ª–∞–≤–∞ –±–æ–≥—É, –º–∞—à–∏–Ω–∞ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å.
–ß—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –∏—Å–∫—É—à–∞—Ç—å —Å—É–¥—å–±—É, –æ—Ç–æ—à—ë–ª –æ—Ç –≤–æ–¥—ã –∏ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –≤ –∫—É—Å—Ç–∞—Ö. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫—É. –ê –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å…
–î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ, –ø–µ—Ä–µ–π–¥—è –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –º–æ—Å—Ç–∞, —è –Ω–µ –º–æ–≥ —Å—Ä–∞–∑—É —Å–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –≤ –ª–µ—Å—É. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–æ–±–∏—Ç–∞ –≤ —Å–∫–∞–ª–µ, –∏ —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏, –∫—Ä–æ–º–µ –∫–∞–∫ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –¥–∞–ª—å—à–µ –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∞–º –∑–µ–ª—ë–Ω–∫–∞ –ª–µ—Å–∞ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∫ –Ω–µ–π. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Å–ª–æ–∂–Ω—è–ª–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –∏ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞ —ç—Ç–∏–º –º–µ—Å—Ç–æ–º –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø–æ–¥–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∞ –≤–ª–µ–≤–æ. –Ø –¥–∞–∂–µ –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –Ω–µ –º–æ–≥ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞—é—â–µ–π—Å—è –º–∞—à–∏–Ω—ã.
–ü—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª –æ–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞. –ù–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –º–∞—à–∏–Ω—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏—Ç—å, –∏–ª–∏ –∂–¥–∞—Ç—å –Ω–æ—á–∏. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∏ –Ω–æ—á—å –º–∞–ª–æ –º–µ–Ω—è–ª–∞ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –≤–µ—â–µ–π. –ú–∞—à–∏–Ω—É —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–µ–≤–µ—Ä–∞ —è –±—ã –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –ø–æ–∑–¥–Ω–æ.
–ü–µ—Ä–≤–∞—è –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å –Ω–µ—É–¥–∞—á–µ–π. –ï–¥–≤–∞ –¥–æ—à—ë–ª –¥–æ –º–æ—Å—Ç–∞, –∫–∞–∫ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –∏–∑-–∑–∞ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —é–≥–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –º–∞—à–∏–Ω–∞. –ß—É—Ç—å —É—Å–ø–µ–ª –¥–æ–±–µ–∂–∞—Ç—å –¥–æ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –±–µ–ª–∞—è «—à–µ—Å—Ç—ë—Ä–∫–∞». –í —Å–∞–ª–æ–Ω–µ –¥–≤–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω–∞ —Å–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –∑–∞ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–º, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–∏–ª, —Ä–≤–∞–Ω—É–ª –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç. –ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–∏ –≤–∑–ª–µ—Ç–µ–ª –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—É. –ë–µ–∂–∞–ª –∏ –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ –æ–±—Ä—ã–≤: –Ω–µ —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è –ª–∏ –º–Ω–µ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è —Ç–∞–º? –•–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ–≤–∏—Å–Ω—É–≤ –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö? –í—Ä—è–¥ –ª–∏. –ò —Ç—É—Ç —è —É–≤–∏–¥–µ–ª —Ç–∞–∫–æ–µ, —á—Ç–æ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –≤ –¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞ –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ. –° —ç—Ç–æ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∫–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –±—ã–ª –≤–∏–¥–µ–Ω –¥—Ä—É–≥–æ–π, –≤ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–µ. –û–Ω –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –±–µ—Ä–µ–≥—É –ê—Ä–≥—É–Ω–∞ –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–µ. –ü–æ —ç—Ç–æ–º—É —É—á–∞—Å—Ç–∫—É –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –µ—Ö–∞–ª –º–æ—Ç–æ—Ü–∏–∫–ª —Å –∫–æ–ª—è—Å–∫–æ–π. –ê –¥–æ –∑–µ–ª—ë–Ω–∫–∏ –±—ã–ª–æ –µ—â—ë –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è — —ç—Ç–æ –µ—â—ë –¥–∞–ª—å—à–µ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤–ø–µ—Ä—ë–¥!
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –Ω—ã—Ä–Ω—É–ª –≤ –∑–µ–ª—ë–Ω–∫—É –∏ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –≤–∑–ª–µ—Ç–µ–ª –ø–æ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—É—é —Ä–æ–≤–Ω—É—é –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É, –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å –≤—ã—à–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –ø–æ–¥–æ –º–Ω–æ—é –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–µ–∫–æ—Ç–∞–ª –º–æ—Ç–æ—Ü–∏–∫–ª.
–Ø –¥–æ–ª–≥–æ –ª–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ. –î–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –Ω–µ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –≤ —Å–µ–±—è –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–∞–¥—Ä—ã–≤–∞. –°–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –ø–∏—Ç—å. –ï—Å–ª–∏ –Ω–µ —É—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –º–∞–ª–∏–Ω—É, —è –Ω–µ –ø–∏–ª –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—É—Ç–∫–∏. –ü—Ä–æ —Å—É—Ö–∏–µ –≥–æ–ª–æ–¥–∞–Ω–∏—è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å–ª—ã—à–∞–ª, –Ω–æ –æ–Ω–∏ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞—é—Ç —Ç–∞–∫–∏—Ö —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –Ω–∞–≥—Ä—É–∑–æ–∫.
–¢—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞ –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ –≥–æ—Ä–µ –±—ã–ª–∞ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —É—Ç–æ–ø—Ç–∞–Ω–Ω–æ–π. –û–Ω–∞ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–µ –∫—Ä—É—Ç–æ –∏ —É–∫–ª–æ–Ω—è–ª–∞—Å—å –ø–æ –≥–æ—Ä–µ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —é–≥–∞. –¢–æ –µ—Å—Ç—å, –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –≤ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –º–Ω–µ –∏ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è. –ï—â–µ —Å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã —Ç–æ–π –≥–æ—Ä—ã —è –≤—ã–±–∏—Ä–∞–ª –º–µ—Å—Ç–∞, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ —É–¥–æ–±–Ω–æ –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –≤–∑–æ–π—Ç–∏ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É. –ü–æ –∑–µ–ª—ë–Ω–∫–µ, –ø–æ—Ä–æ—Å—à–µ–π –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏, —è –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è. –£–∂–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –ø–æ–¥—Ç—è–≥–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö. –ú–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ª—É—á—à–µ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –Ω–µ –∑–∞—Ä–æ—Å—à–µ–º—É –ª–µ—Å–æ–º —Å–∫–ª–æ–Ω—É. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Ç–∞–º –º–µ–Ω—è –≤–∏–¥–Ω–æ, –Ω–æ –≤–µ–¥—å –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–≤ –æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å, —Å–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –≤ –ª–µ—Å—É. –°–∏–ª—ã —É –º–µ–Ω—è –µ—â—ë –±—ã–ª–∏, –Ω–æ –∂–∞–∂–¥–∞…
–ü–æ —ç—Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≥–æ—Ä—ã —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–æ —è –Ω–µ –º—ë—Ä–∑. –î–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è. –ò –¥—É–º–∞–ª, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–± –æ–¥–Ω–æ–º: –≥–¥–µ –≤–∑—è—Ç—å –≤–æ–¥—ã? –ü—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—é—é —Ä–æ—Å—É –∏ –¥–æ–∂–¥–µ–≤—ã–µ –∫–∞–ø–ª–∏ –≤ –∫–æ–Ω—Å–µ—Ä–≤–Ω—É—é –±–∞–Ω–∫—É. –ü–æ—Ö–ª–æ–ø–∞–ª —Å–µ–±—è –ø–æ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω—É, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –±—ã—Ç—å –±–∞–Ω–æ—á–∫–∞ –∏–∑ –ø–æ–¥ –∫–∏–ª—å–∫–∏. –ü—É—Å—Ç–æ. –¢–∞–º –ª–µ–∂–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–ª–∞—Ç–æ—á–µ–∫, –ø–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–Ω–Ω—ã–π –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω–µ. –û–Ω —É–∂–µ —É—Å–ø–µ–ª –≤—ã—Å–æ—Ö–Ω—É—Ç—å –∏ —Å—Ç–∞–ª –±–µ—Å—Ñ–æ—Ä–º–µ–Ω–Ω—ã–º –∫—É—Å–æ—á–∫–æ–º –≥—Ä—è–∑–∏. –Ø –±—ã–ª –≥–æ—Ç–æ–≤ –∑–∞–ø–ª–∞–∫–∞—Ç—å –æ—Ç –æ—Ç—á–∞—è–Ω–∏—è. –ù–æ —É–¥–∞—á–∞ —É–ª—ã–±–Ω—É–ª–∞—Å—å.
–°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø—Ä–æ—à—ë–ª –º–∏–º–æ. –ü–æ—Ç–æ–º –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è, –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è –∏ –µ–¥–≤–∞ –Ω–µ –∑–∞–ø–ª—è—Å–∞–ª –æ—Ç —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–∏. –Ø –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –º–∏–º–æ –±–∞—Ä–∞–Ω—å–µ–≥–æ –≤–æ–¥–æ–ø–æ—è –Ω–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–æ–∫–∞—Ç–æ–π –ø–æ–ª—è–Ω–∫–µ.
–ò–∑ –∫–∞–º–Ω–µ–π –±–∏–ª —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫, –∞ —á—É—Ç—å –ø–æ–Ω–∏–∂–µ — –¥–≤–∞ —Å–∞–º–æ–¥–µ–ª—å–Ω—ã—Ö, –≤—ã–¥–æ–ª–±–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏–∑ –±—Ä—ë–≤–µ–Ω, –∫–æ—Ä—ã—Ç–∞. –í–æ–¥–∞ –∑–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∞ –æ–¥–Ω–æ –∏ –ø–µ—Ä–µ—Ç–µ–∫–∞–ª–∞ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ.
–ù–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å –æ —Ç–æ–º, –∫—Ç–æ –∏ –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–∏–ª –∏–∑ —ç—Ç–∏—Ö –∫–æ—Ä—ã—Ç, —è –ø—Ä–∏–ª—å–Ω—É–ª –∫ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–º—É. –ü—Ä–∏–ª—å–Ω—É–ª — —ç—Ç–æ –º—è–≥–∫–æ. –ü–æ–≥—Ä—É–∑–∏–ª—Å—è –º–æ—Ä–¥–æ–π –≤ –≤–æ–¥—É –¥–æ —Å–∞–º—ã—Ö —É—à–µ–π –∏ –ø–∏–ª, –ø–æ–∫–∞ —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏—è. –•–≤–∞—Ç–∞–Ω—É–ª –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª –ø—Ä–æ—Ü–µ–¥—É—Ä—É. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π –ø–æ–¥—Ö–æ–¥ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —É–º–µ—Ä–∏–ª –º–æ–π –ø—ã–ª, –∏ —è —Å—Ç–∞–ª –ø–∏—Ç—å, –∫–∞—Å–∞—è—Å—å –≤–æ–¥—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≥—É–±–∞–º–∏.
–û–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞ —è –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—å —ç—Ç–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ç–Ω–æ–µ –±–∞—Ä–∞–Ω—å–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –ë–æ—è–ª—Å—è –æ—Ç–æ–π—Ç–∏ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –∫–∞–∂–¥–∞—è –∫–ª–µ—Ç–∫–∞ —Ç–µ–ª–∞ –≤–¥–æ–≤–æ–ª—å –Ω–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω–∞ –≤–ª–∞–≥–æ–π. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π –æ–±—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª –≤—Å—é –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –≤–æ–¥–æ–ø–æ—è, –Ω–æ –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –Ω–∞–π—Ç–∏ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π —ë–º–∫–æ—Å—Ç–∏ –¥–ª—è –≤–æ–¥—ã.
–û–∫–æ–ª–æ —à–µ—Å—Ç–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –Ω–∞—á–∞–ª –ø–æ–¥—ä—ë–º. –í–Ω–∞—á–∞–ª–µ —Ä–µ—à–∏–ª –∏–¥—Ç–∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –¢—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∏ –æ—Ç –≤–æ–¥–æ–ø–æ—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—Ä—É–¥–Ω—ã–º –¥–µ–ª–æ–º — –∫–∞—Ä–∞–±–∫–∞–Ω—å–µ –ø–æ –∫—Ä—É—Ç–æ–º—É —Å–∫–ª–æ–Ω—É –æ—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –û—Ç–¥—ã—Ö —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∫–∞—Ä–∞–±–∫–∞–Ω—å–µ. –í –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫—É. –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫-—Ç–æ —Ç–∞–º –Ω–µ —Ö–æ–¥–∏–ª, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∑–∞—Ç–æ –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ —Å–ª–µ–¥–æ–≤ –±–∞—Ä–∞–Ω—å–∏—Ö –Ω–æ–≥. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª —É–ø–æ–¥–æ–±–∏—Ç—å—Å—è –±–∞—Ä–∞–Ω–∞–º. –ü–æ–π—Ç–∏ –∏—Ö —Ç—Ä–æ–ø–æ–π. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∏–∑ –º–µ–Ω—è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª—Å—è –±—ã –æ—Ç–ª–∏—á–Ω—ã–π –±–∞—Ä–∞–Ω. –°–∫–æ—Ä–æ —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –±–æ–ª–µ–µ —Ä–∞–∑—É–º–Ω–æ–≥–æ –ø—É—Ç–∏ –≤ –≥–æ—Ä—É —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –æ—Ç—ã—Å–∫–∞—Ç—å.
–ë–∞—Ä–∞–Ω—å—è —Ç—Ä–æ–ø–∞ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –≤–∏–ª—è–ª–∞ —Å–∞–º—ã–º –Ω–µ–≤–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–º—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –Ω–æ —è —à—ë–ª –≤–≤–µ—Ä—Ö, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –∑–∞–¥—ã—Ö–∞—è—Å—å. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–æ–∫ –≤ –ø—É—Ç–∏ –Ω–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —è —Å–±–∏–≤–∞–ª—Å—è —Å —Ç—Ä–æ–ø—ã, –Ω–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –∏ –≤–Ω–æ–≤—å –æ—Ç—ã—Å–∫–∏–≤–∞–ª –µ—ë. –ö–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –≤ —Ç–∞–∫–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –æ–Ω–∞ —Ä–µ–∑–∫–æ —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –¥–∞–∂–µ —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª–∞—Å—å –≤–Ω–∏–∑, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ø—É—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç — –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–π.
–¢–∞–∫ —è –æ–±–æ—à—ë–ª –æ–±—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤–∏–¥–µ–ª –µ—â–µ —Å –ø—Ä–µ–¥—ã–¥—É—â–µ–π –≥–æ—Ä—ã. –Ø –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –≤ —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –º–Ω–µ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏. –ë–∞—Ä–∞–Ω—å—è —Ç—Ä–æ–ø–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –≤ –º–µ—Ç—Ä–µ –Ω–∞–¥ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–π —Ç–æ—á–∫–æ–π –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –ï–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –≤–æ–ª–Ω–æ–≤–∞–ª–æ, —ç—Ç–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ —Ç–æ–º, –∫—É–¥–∞ –∂–µ —à–ª–∏ –±–∞—Ä–∞–Ω—ã? –Ý–∞—Å—Å—É–∂–¥–∞—è –ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–∏, –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ –≥–Ω–∞–ª–∏ –∏–∑ –¥–µ—Ä–µ–≤–Ω–∏ —Å–Ω–∏–∑—É –Ω–∞ –∞–ª—å–ø–∏–π—Å–∫–∏–µ –ª—É–≥–∞. –ì–Ω–∞–ª–∏ —É—Ç—Ä–æ–º. –ê –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –æ–Ω–∏ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è –±—ã –º–æ–≥ –ø–æ—Å–ø–æ—Ä–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –Ω–∏ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è, –Ω–∏ –≤—á–µ—Ä–∞ –±–∞—Ä–∞–Ω–æ–≤ –Ω–∞ —Ç—Ä–æ–ø–µ –∏ —É –≤–æ–¥–æ–ø–æ—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–æ –ø–æ—Å–ø–æ—Ä–∏—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ —Å –∫–µ–º.
–ü—Ä–µ–¥–∞–≤–∞—è—Å—å —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏–º —Ä–∞—Å—Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è–º, —è –≤–¥—Ä—É–≥ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –±–ª–µ—è–Ω–∏–µ. –ü—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è. –ë–ª–µ—è–Ω–∏–µ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª–æ—Å—å. –ï–º—É –≤—Ç–æ—Ä–∏–ª–æ –±–ª–µ—è–Ω–∏–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥—Ä—É–≥–æ–π —Ç–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –æ–∫—Ä–∞—Å–∫–∏. –û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è—Å—å –≤–≤–µ—Ä—Ö, —è –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–æ–≤–Ω—ã–π –ø–æ–ª–æ–≥–∏–π —Å–∫–ª–æ–Ω –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª –∫–æ—à–∞—Ä—É. –ü–æ—Ç–æ–º –µ—â—ë –æ–¥–Ω—É. –ê –ø–æ—Ç–æ–º —É–≤–∏–¥–µ–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∑–∞–≥–æ–Ω—è–ª –æ–≤—Ü—É –≤ —Ç—Ä–µ—Ç—å—é –Ω–µ–±–æ–ª—å—à—É—é –∫–æ—à–∞—Ä—É. –ó–∞–≥–Ω–∞–ª –µ—ë –∏ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –¥–≤–µ—Ä—å –Ω–∞ –≤–µ—Ä—Ç—É—à–∫—É.
–ë—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–º–µ—Ä–∫–∞–ª–æ—Å—å. –Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –¥–æ–º–∏–∫ –ø–∞—Å—Ç—É—Ö–∞.
–û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—è—Å—å, –æ—Ç–æ—à—ë–ª –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –≤–¥–æ–ª—å —Å–∫–ª–æ–Ω–∞. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ç–µ–º–Ω–æ. –ò–¥—Ç–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ —è —É–∂–µ –Ω–µ –º–æ–≥. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –Ω–µ –º–æ–≥ –∏–¥—Ç–∏, –Ω–µ –∏–∑–¥–∞–≤–∞—è –ª–∏—à–Ω–∏—Ö –∑–≤—É–∫–æ–≤. –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª —Å –∫–∞–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –æ–±—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∫–æ—à–∞—Ä—ã, –Ω–µ—Ç –ª–∏ –∏ —Ç–∞–º –≤–æ–æ—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π. –û—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –∂–¥–∞—Ç—å —É—Ç—Ä–∞.
–°–∫–ª–æ–Ω, –≤ —Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ —è —Å—Ç–æ—è–ª, –±—ã–ª —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –ø–æ–∫–∞—Ç. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–∞ –æ—â—É–ø—å, –∏—Å–∫–∞—Ç—å –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ–ª–æ–≥–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –¢–∞–∫–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ —è –Ω–∞—à—ë–ª –º–µ–∂–¥—É —Ç—Ä–µ–º—è –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏. –°–µ–ª. –î–æ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–∞ –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –∂–¥–∞—Ç—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–∞—Å–æ–≤, –∞ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ. –ù–∞–∫—Ä–∞–ø—ã–≤–∞–ª –¥–æ–∂–¥–∏–∫. –ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª, —á—Ç–æ –∏–∑ –¥–æ–º–∏–∫–∞ –≤—ã—à–µ–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –û–Ω –≤–∫–ª—é—á–∏–ª —Ñ–æ–Ω–∞—Ä–∏–∫ –∏ –ø—Ä–æ—à—ë–ª –∫ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π –∫–æ—à–∞—Ä–µ. –ü–æ–∫–æ–ø–∞–ª—Å—è —Ç–∞–º —Å –¥–≤–µ—Ä—å—é –∏ —É—à—ë–ª –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –ù–µ–±–æ –µ—â—ë –±—ã–ª–æ —á—É—Ç—å –ø–æ–¥—Å–≤–µ—á–µ–Ω–æ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–π –∑–∞—Ä—ë–π –∏ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞ —É –¥–æ–º–∏–∫–∞ —Å—Ç–æ–∏—Ç —Å–æ–±–∞–∫–∞. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤–µ—Ç–µ—Ä –ø–æ–¥–¥—É–≤–∞–ª –æ—Ç –º–µ–Ω—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –°–æ–±–∞–∫–∞ –º–µ–Ω—è —É—á—É—è–ª–∞ –∏ –∑–∞—Ä—ã—á–∞–ª–∞. –Ø –∑–∞–º–µ—Ä. –°—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –¥—ã—à–∞—Ç—å. –≠—Ç–æ–≥–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–Ω–µ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ! –°–±–µ–∂–∞—Ç—å –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞ –∏ –±—ã—Ç—å –ø–æ–π–º–∞–Ω–Ω—ã–º –∑–∞ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫—É –∫—Ä–∞–∂–∏ –æ–≤–µ—Ü. –ò–Ω–∞—á–µ, —á–µ–º –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏—Ç—å –º–æ—ë –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏–µ –∑–¥–µ—Å—å? –°–æ–±–∞–∫–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞—Ä—ã—á–∞–ª–∞. –ò–∑ –¥–æ–º–∏–∫–∞ –≤—ã—à–µ–ª –ø–∞—Å—Ç—É—Ö —Å —Ä—É–∂—å—ë–º. –û–Ω –ø–æ—Ç—Ä–µ–ø–∞–ª —Å–æ–±–∞–∫—É –ø–æ –∑–∞–≥—Ä–∏–≤–∫—É, –Ω–æ —Ç–∞ –Ω–µ —É–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å. –¢–æ–≥–¥–∞ –ø–∞—Å—Ç—É—Ö –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –Ω–∞ –Ω–µ—ë –∏ –≤—Å—Ç–∞–ª –Ω–∞ –æ–±—Ä—ã–≤–µ, –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞—è—Å—å. –°–æ–±–∞–∫–∞ –æ–ø—è—Ç—å –∑–∞—Ä—ã—á–∞–ª–∞, –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –Ø –≥–æ—Ç–æ–≤ –±—ã–ª –ø—Ä–æ–≤–∞–ª–∏—Ç—å—Å—è —Å–∫–≤–æ–∑—å –∑–µ–º–ª—é. –ù—É, —Ö–æ—Ç—å –±—ã –≤–µ—Ç–µ—Ä –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª –¥—É—Ç—å –≤ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É!
–ü–∞—Å—Ç—É—Ö –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Å–Ω–æ–≤–∞ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å —Å–æ–±–∞–∫—É, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–¥–Ω—è–ª –¥–≤—É—Å—Ç–≤–æ–ª–∫—É –∏ –ø–∞–ª—å–Ω—É–ª –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç–≤–æ–ª–∞ —á—É—Ç—å –ø–æ–≤—ã—à–µ –º–æ–µ–π –≥–æ–ª–æ–≤—ã. –ù–∞ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –ª–∏—Å—Ç—å—è. –°–ª–∞–≤–∞ –±–æ–≥—É, —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∫–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ. –°–æ–±–∞–∫–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–∞—Å—å, –∑–∞–≤–∏–ª—è–ª–∞ —Ö–≤–æ—Å—Ç–æ–º –∏ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∞ –∫ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–π –∫–æ—à–∞—Ä–µ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –æ–Ω–∞ –Ω–µ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∞ –∫–æ –º–Ω–µ!
–ü–∞—Å—Ç—É—Ö –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –¥–≤–µ—Ä—å —Å–≤–æ–µ–π —Ö–∏–∂–∏–Ω—ã –∏ –ø–æ–∑–≤–∞–ª —Å–æ–±–∞–∫—É. –¢–∞, –Ω–µ –¥–æ–±–µ–∂–∞–≤ –¥–æ –∫–æ—à–∞—Ä—ã, —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –∏ –ø—Ä—è–º–∏–∫–æ–º –Ω—ã—Ä–Ω—É–ª–∞ –≤ –¥–≤–µ—Ä—å —Ö–∏–∂–∏–Ω—ã. –í–∏–¥–∏–º–æ, —Ç–∞–∫–æ–π —á–µ—Å—Ç–∏ –æ–Ω–∞ —É–¥–æ—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Ä–µ–¥–∫–æ. –ò–Ω—Ü–∏–¥–µ–Ω—Ç –±—ã–ª –∏—Å—á–µ—Ä–ø–∞–Ω. –ú–µ–Ω—è –∑–∞—Ç—Ä—è—Å–ª–æ.
–Ø –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª –æ—Ç –∏—Å–ø—É–≥–∞ –º–µ–Ω—è —Ç—Ä—è—Å—ë—Ç –∏–ª–∏ –æ—Ç —Ö–æ–ª–æ–¥–∞. –õ–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω–µ. –¢–∞–∫ —Ç–µ–ø–ª–µ–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–≥—Ä–µ–µ—à—å –∑–µ–º–ª—é —Å–ø–∏–Ω–æ–π. –ö –¥–æ–∂–¥—é —è —É–∂–µ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫. –ü—Ä–æ—Å—Ç—É–¥–∏—Ç—å—Å—è –Ω–µ –±–æ—è–ª—Å—è. –í –º–æ—ë–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ —ç—Ç–æ, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–º –≤–∫–ª—é—á–∏–ª –≤—Å–µ —Å–≤–æ–∏ —Å–∏–ª—ã –¥–ª—è –≤—ã–∂–∏–≤–∞–Ω–∏—è…
–Ø —É—Å–Ω—É–ª.
–ö–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–æ—Å—å. –í—Å—ë —Ç–∞–∫ –∂–µ –∏–¥—ë—Ç –¥–æ–∂–¥—å. –ù–æ –ª–µ–≤–æ–º—É –±–æ–∫—É, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ç–µ–ø–ª–µ–µ, —á–µ–º –ø—Ä–∞–≤–æ–º—É. –ü–æ–¥ –±–æ–∫–æ–º –∏ –ø–æ–¥ –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–æ–π —É –º–µ–Ω—è –ª–µ–∂–∞–ª–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –∂–∏–≤–æ–µ. –°–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –±—ã –∏—Å–ø—É–≥–∞—Ç—å—Å—è. –ù–æ —è –Ω–µ –∏—Å–ø—É–≥–∞–ª—Å—è. –ü–æ–¥—É–º–∞–ª — –ø—É—Å—Ç—å –ª–µ–∂–∏—Ç. –¢–∞–∫ —Ö–æ—Ç—è –±—ã —Ç–µ–ø–ª–µ–µ…
–Ø —á–∞—Å—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—ã–ø–∞–ª—Å—è –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–±—ã–≤–∞–ª—Å—è, –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–≤, –Ω–µ –æ–ø–∞—Å–Ω–æ –ª–∏ –º–æ—ë –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–≤–µ—Ç–∞—Ç—å, –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –ü–æ—à–µ–≤–µ–ª–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –≤—Å—Ç–∞—Ç—å. –£ –º–µ–Ω—è –∏–∑-–ø–æ–¥ –±–æ–∫–∞ –º–µ—Ç–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –∫–∞–±–∞–Ω—á–∏–∫. –í–æ—Ç —Ç–∞–∫ –º—ã –ø–æ–º–æ–≥–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥—É —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç—å—Å—è –Ω–æ—á—å—é.
–ö–æ—à–∞—Ä –±—ã–ª–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º. –ò—Ö –±—ã–ª–æ —à–µ—Å—Ç—å. –ù–æ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∏ –±—ã–ª–∏ –µ—â—ë –¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç –º–µ–Ω—è. –Ø –æ—Ç–æ—à—ë–ª –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –µ—â—ë –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Å—Ç–æ –∏ –ø–æ–ª–µ–∑ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ù–µ —Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –º–æ–∏ —Ç–∏—Ç–∞–Ω–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ —É—Å–∏–ª–∏—è –ø–æ –ø–æ–∫–æ—Ä–µ–Ω–∏—é —Å–∫–ª–æ–Ω–∞, —è –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–æ–≥ —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç—å—Å—è. –≠—Ç–æ –∏–∑-–∑–∞ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –µ–ª. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–µ—Å—Ç–µ—Ä–ø–∏–º–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –ø–∏—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ä–∞—Å—Å–≤–µ–ª–æ, –¥–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –¥–æ –∞–ª—å–ø–∏–π—Å–∫–∏—Ö –ª—É–≥–æ–≤. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ –Ω–∏–º —è —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –ª–µ–≥–∫–æ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å –ø–æ–¥—ä—ë–º. –ù–æ –ø–ª–æ—Ö–æ —è –∑–Ω–∞–ª –∞–ª—å–ø–∏–π—Å–∫–∏–µ –ª—É–≥–∞.
–¢—Ä–∞–≤–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø—Ä–æ–¥–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è, –±—ã–ª–∞ –≤—ã—à–µ –º–µ–Ω—è. –ö–∞–∂–¥—ã–π —à–∞–≥ –¥–∞–≤–∞–ª—Å—è –Ω–µ–∏–º–æ–≤–µ—Ä–Ω—ã–º–∏ —É—Å–∏–ª–∏—è–º–∏. –≠—Ç–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–µ–µ, —á–µ–º –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–º—É —Å–Ω–µ–≥—É. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –Ω–æ–≥—É —Å –º–µ—Å—Ç–∞ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ù–æ–≥–∞ –Ω–∞–º–µ—Ä—Ç–≤–æ –∑–∞—Å—Ç—Ä–µ–≤–∞–µ—Ç –≤ —Ç—Ä–∞–≤–µ. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –≤—ã–ø—É—Ç—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏–∑ —Ç—Ä–∞–≤—ã, –∑–∞–¥–∏—Ä–∞—Ç—å –Ω–æ–≥—É –ø–æ–≤—ã—à–µ –∏ –≤–Ω–µ–¥—Ä—è—Ç—å –Ω–∞ –Ω–æ–≤–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –ü—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –ø—Ä–∏–≥–∏–±–∞—Ç—å —Ç—Ä–∞–≤—É –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –∏ –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ –Ω–µ–π. –ù–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–µ, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —ç—Ç–æ –∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ê –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–µ—Ç –∫—Ä—É—Ç–æ–π —Å–∫–ª–æ–Ω. –ü–æ —Ç–æ–π –∂–µ —Ç—Ä–∞–≤–µ —è –∏ —Å–æ—Å–∫–∞–ª—å–∑—ã–≤–∞–ª –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ.
–ú–æ–∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –æ–±–∏–ª—å–Ω–µ–π—à—É—é —Ä–æ—Å—É —Å —Ç—Ä–∞–≤—ã –∏ —Ü–≤–µ—Ç–æ–≤, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞–ø–∏—Ç—å—Å—è, –Ω–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –Ω–∏ –∫ —á–µ–º—É. –ú–∏—Ä–∏–∞–¥—ã —Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–∫ —Å–≤–µ—Ä–∫–∞–ª–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –≤ –ª—É—á–∞—Ö –≤–æ—Å—Ö–æ–¥—è—â–µ–≥–æ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞, —è –±—ã–ª –Ω–∞—Å–∫–≤–æ–∑—å –º–æ–∫—Ä—ã–π –∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —É–º–∏—Ä–∞–ª –æ—Ç –∂–∞–∂–¥—ã. –í–∏–¥–∏–º–æ, –≤–ª–∞–≥–∏ –≤ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–º–µ –±—ã–ª–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ, –∏ —Ç–µ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–∏–µ –∫–∞–ø–ª–∏ —Ä–æ—Å—ã, —á—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏ –≤ —Ä–æ—Ç, –≤–æ—Å–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –∑–∞–ø–∞—Å—ã –≤–æ–¥—ã. –ù–æ –∂–∞–∂–¥—ã –æ–Ω–∏ –Ω–µ —É—Ç–æ–ª—è–ª–∏.
–ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ —è –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —É–∂–µ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞–ª—Å—è –∫ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã, –Ω–æ –ø–æ–¥–Ω—è–≤—à–∏—Å—å –ø–æ–≤—ã—à–µ, –≤–∏–¥–µ–ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π —Å–∫–ª–æ–Ω –∏ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –æ—Ç–æ–¥–≤–∏–≥–∞–ª–∞—Å—å –æ—Ç –º–µ–Ω—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞, –∞ —Ç–æ –∏ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç. –Ø —É–ø–æ—Ä–Ω–æ —à—ë–ª –∫ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ, –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª, –Ω–æ –∏ —ç—Ç–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –ª–æ–∂–Ω–æ–π. –°–∫–ª–æ–Ω —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª —Ç–∞–∫–∏–º –∫—Ä—É—Ç—ã–º, –∫–∞–∫ –≤–Ω–∏–∑—É, –Ω–æ –∏ —Å–∏–ª—ã –∏—Å—Å—è–∫–∞–ª–∏.
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, —è —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –∞–ª—å–ø–∏–π—Å–∫–∏—Ö –ª—É–≥–æ–≤ —Å –º–µ–Ω—è –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ. –≠—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ —è —Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ–ª–µ–∂–∞—Ç—å. –ü—Ä–∏–≥–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –ø–æ–Ω–∏–∂–µ –∫ –∑–µ–º–ª–µ, —É–≤–∏–¥–µ–ª —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∂–∏–≤–æ–π –Ω–µ—á–∏—Å—Ç–∏, —á—Ç–æ –º–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –Ω–µ –ø–æ —Å–µ–±–µ.
–°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —Ä—ã–≤–æ–∫ –∫ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –ª–æ–∂–Ω–æ–π –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ —è —Å–æ–≤–µ—Ä—à–∞–ª –æ–±—ã—á–Ω—ã–º —Å–ø–æ—Å–æ–±–æ–º — –æ—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É — –ø–æ –ª–µ—Å—É. –ù–æ –≤–æ—Ç –ª–µ—Å –∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ—é —Å–Ω–æ–≤–∞ –∞–ª—å–ø–∏–π—Å–∫–∏–µ –ª—É–≥–∞. –î–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏—Ç—å –ø–æ–¥—ä—ë–º –ø–æ –ª–µ—Å—É, –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–∫–ª–æ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –≤–ø—Ä–∞–≤–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç. –ò —è –ø–æ—à—ë–ª –≤–ø—Ä–∞–≤–æ. –ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —É–≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –≤—ã—Å–æ–∫–æ –∑–∞–±—Ä–∞–ª—Å—è. –Ø —É–≤–∏–¥–µ–ª –∏ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≥–æ—Ä—ã, –∏ —Å–∞–∫–ª—é –ú—É—Å—ã, –∏ —Å–µ–ª–æ —É –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è –≥–æ—Ä—ã, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –º–µ—Å—è—Ü–∞. –≠—Ç–æ –≤–∑–±–æ–¥—Ä–∏–ª–æ –º–µ–Ω—è.
–Ø —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø–æ–º–Ω–∏–ª –æ—á–µ—Ä—Ç–∞–Ω–∏—è –≥–æ—Ä—ã, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∏–∂–µ –≤ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π —Å–≤–æ–µ–π —á–∞—Å—Ç–∏. –Ø —à—ë–ª –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ —Ç—É–¥–∞.
–ê–ª—å–ø–∏–π—Å–∫–∏–π –ª—É–≥ —É–∂–µ –Ω–µ –º–µ—à–∞–ª –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –≤–≤–µ—Ä—Ö, —è —à–µ–ª –ø–æ –ª–µ—Å—É. –ö–∞–∫-—Ç–æ —Ç—É–ø–æ —à—ë–ª, –≤ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–µ, —á—Ç–æ –∏ –Ω–µ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è—Å—å, –≤—ã–π–¥—É –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É. –í–µ–¥—å –≤ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –æ–Ω–∞ –Ω–∏–∂–µ.
–ê –¥–∞–ª—å—à–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ü–æ –≤—Å–µ–π –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –±—ã–ª–æ –æ–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–∏ —á–∞—Å–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª —Å–µ–±—è, –ª–µ–∂–∞—â–∏–º –Ω–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–æ–ª—è–Ω–µ. –ö–∞–∫ —Ç—É–¥–∞ –ø–æ–ø–∞–ª, –Ω–µ –ø–æ–º–Ω–∏–ª. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–æ–≤–Ω–∞—è –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å. –Ø —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞—Ö–æ–∂—É—Å—å —É–∂–µ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ. –ü–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å, –∏ –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É –º—É—á–∏–ª–∞ –∂–∞–∂–¥–∞. –ò –≤—Å—ë –∂–µ —è –ø–æ—à—ë–ª. –ü–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –≤ —Å–µ–±—è. –Ý–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —É—Å–Ω—É–ª –æ—Ç —É—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–æ—Å–ø–∞–ª –≤–µ—Å—å –¥–µ–Ω—å. –ò–¥—Ç–∏ –ø–æ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –±—ã–ª–æ –ª–µ–≥–∫–æ. –ß—É—Ç—å –≤–≤–µ—Ä—Ö, —á—É—Ç—å –≤–Ω–∏–∑. –ù–µ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ. –í—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –±–∞—Ä–∞–Ω—å—é —Ç—Ä–æ–ø—É –∏ —É–∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –æ–±–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–ø–æ—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ —Å–ø–æ—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —É–ø–∞–ª, –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∏. –ê –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª —Ü–µ–ª—ã–π –≤—ã–≤–æ–¥–æ–∫ –∏–∑ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã—Ö — –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª — –±–µ–ª—ã—Ö –≥—Ä–∏–±–æ–≤. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏–µ –±–æ—Ä–æ–≤–∏–∫–∏. –Ø —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º —Å–æ–¥—Ä–∞–ª —à–ª—è–ø–∫—É —Å –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö. –®–ª—è–ø–∫—É –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—É –∏ –≤—ã–¥–∞–≤–∞—Ç—å –∑–∞ —Å–æ–º–±—Ä–µ—Ä–æ. –í –Ω–µ–π –±—ã–ª–æ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞ –∫–∏–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º–æ–≤, –∞ –¥–∏–∞–º–µ—Ç—Ä — –ø–æ–ª–º–µ—Ç—Ä–∞. –ü–æ–Ω—é—Ö–∞–ª — –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π —Å—ä–µ–¥–æ–±–Ω—ã–π –∑–∞–ø–∞—Ö. –ù–æ, –∫ —Å–æ–∂–∞–ª–µ–Ω–∏—é, —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å–ø–∏—á–µ–∫, —á—Ç–æ–±—ã —Ä–∞–∑–∂–µ—á—å –∫–æ—Å—Ç—ë—Ä –∏ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –≥—Ä–∏–±—ã. –ï—Å—Ç—å –∏—Ö —Å—ã—Ä—ã–º–∏ —è –Ω–µ —Ä–µ—à–∏–ª—Å—è.
–î–≤–∏–≥–∞—è—Å—å –¥–∞–ª—å—à–µ, —É–≤–∏–¥–µ–ª —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç —Å–µ–±—è –≥—Ä–æ–º–∞–¥–Ω–æ–µ, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ–µ –Ω–∞ –Ω–µ–æ–Ω–æ–≤–æ–µ, —Å–≤–µ—á–µ–Ω–∏–µ. –Ø –æ–±—Ö–æ–¥–∏–ª –±–æ–ª—å—à—É—é –æ–¥–∏–Ω–æ–∫—É—é —Å–∫–∞–ª—É, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –Ω–∞—Ä–æ—á–Ω–æ —Å —Å–∏–ª–æ–π, –≤–æ–Ω–∑—ë–Ω–Ω—É—é –≤ —Ç–µ–ª–æ –≥–æ—Ä—ã. –¢–∞–∫ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –æ—Ç –º–∏—Ä–∞ —Å–µ–≥–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏–≥–ª—è–¥–µ–≤—à–∏—Å—å –ø–æ–≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–µ–µ, –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Å–≤–µ—á–µ–Ω–∏–µ –∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –æ—Ç —Å–∫–∞–ª—ã, –Ω–∞—Å–∫–≤–æ–∑—å –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ–º. –í—ã—Å–æ—Ç–æ—é —Å–∫–∞–ª–∞ –±—ã–ª–∞ –æ–∫–æ–ª–æ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –∏ —Ç–æ–ª—â–∏–Ω–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–∞. –Ý–æ–≤–Ω–æ–π, –ø–æ—á—Ç–∏ –ø—Ä—è–º–æ—É–≥–æ–ª—å–Ω–æ–π —Ñ–æ—Ä–º—ã. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –±—ã–ª–æ –∑–∞ —Å–∫–∞–ª–æ–π –∏ –æ–Ω–∞ –≤—Å—è —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∞—Å—å —Ä–æ–≤–Ω—ã–º –∏ –º—è–≥–∫–∏–º —Ç–∞–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —Å–≤–µ—Ç–æ–º.
–°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª –º—Ä–∞–º–æ—Ä. –ü–æ–º–Ω—é –≤ –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä–µ –¥–µ–¥–∞ —Å–µ–º—å —Å–ª–æ–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏–∑ –º—Ä–∞–º–æ—Ä–∞. –¢—è–∂—ë–ª–µ–Ω—å–∫–∏–µ –∏ –Ω–∞ –æ—â—É–ø—å –±–∞—Ä—Ö–∞—Ç–∏—Å—Ç—ã–µ. –û–¥–Ω–æ–≥–æ, —Å–∞–º–æ–≥–æ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ, —è –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª. –ú–Ω–µ –∑–∞ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ, –Ω–µ –∑–∞ –ø–æ—Ç–µ—Ä—é, –∞ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª—Å—è. –ê –µ—â—ë –±—ã–ª–∞ –º—Ä–∞–º–æ—Ä–Ω–∞—è –ø–µ–ø–µ–ª—å–Ω–∏—Ü–∞ —Å –≥–æ–ª—É–±–µ–º. –û–Ω–∞ —Ç–∞–∫ –∂–µ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—á–∏–≤–∞–ª–∞. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∫–∞–ª–∞ —ç—Ç–∞ –±—ã–ª–∞ –±–æ–ª–µ–µ —Ä–æ–≤–Ω–æ–≥–æ –∏ –¥–∞–∂–µ –±–æ–ª–µ–µ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞ — –∏–∑ –±–µ–ª–æ–≥–æ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –≤ –∂–µ–ª—Ç–∏–∑–Ω—É –∏ —Å–ª–æ–Ω–æ–≤—É—é –∫–æ—Å—Ç—å. –í–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–∫–∞–ª—ã –≤–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ –≤–∞–ª—è–ª–∏—Å—å —Ç–∞–∫–∏–µ –∂–µ –∫–∞–º–Ω–∏. –Ø, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–∞–±—Ä–∞–ª –∏—Ö –ø–æ–ª–Ω—ã–µ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω—ã, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Ç–æ–º, —É–∂–µ –¥–æ–º–∞, —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∏–∑ –Ω–∏—Ö –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∏.
–ö –∑–∞—Ö–æ–¥—É —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ —è –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Å–µ–±—è –ø–ª–æ—Ö–æ, –Ω–æ –Ω–µ —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —ç—Ç–æ–º—É. –ù–µ —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è –∏ —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Ç—Ä–∞–≤–µ —É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞, –∏ —á—Ç–æ —Å–Ω–æ–≤–∞ —É—Ç—Ä–æ. –Ø –±—ã–ª –±–æ–ª–µ–Ω –∏ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª —ç—Ç–æ. –ê –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–¥—Ç–∏. –£–∂–µ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –Ω–∏ –ø–∏—Ç—å, –Ω–∏ –µ—Å—Ç—å. –í –≥–æ–ª–æ–≤–µ —à—É–º–µ–ª–æ. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –∏ –ø–æ—à—ë–ª, —Å—Ç–∞–ª–æ –ª–µ–≥—á–µ. –ü–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –ø–æ–ø–∞–ª—Å—è –∫—É—Å—Ç —à–∏–ø–æ–≤–Ω–∏–∫–∞. –ü–ª–æ–¥—ã –±—ã–ª–∏ –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–µ, –Ω–æ –º–µ–ª–∫–∏–µ. –ü–æ–∂–µ–≤–∞–ª –∫–æ–∂—É—Ä—É –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –ø–ª–æ–¥–æ–≤. –°–æ–∫ –ø—Ä–æ–≥–ª–æ—Ç–∏–ª, –∞ –≤–æ—Ç —Å–∞–º—É –∫–æ–∂—É—Ä—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤—ã–ø–ª—é–Ω—É—Ç—å, –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–Ω–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π –æ–Ω–∞ –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å.
–Ø —É–∂–µ –Ω–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –º–µ–Ω—è –ø–æ–∫–∞—á–∏–≤–∞–ª–æ. –ù–µ –º–æ–≥ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –∫—É–¥–∞ –∏–¥—É. –ì–¥–µ-—Ç–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –≤ –º–æ–∑–≥–∞—Ö —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–µ–∫—Ç–æ —Ä–∞–∑—É–º–Ω—ã–π –∏ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å—Å—è —Ö–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º —Å–≤–µ—Ç–∞. –ù–æ —Å–∏–ª —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Å–æ—Å—Ä–µ–¥–æ—Ç–æ—á–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏–∏ —Ç–µ–ª–∞, –ø–æ–º—è–≥—á–µ —É–ø–∞—Å—Ç—å –∏ —Ä–æ–≤–Ω–æ –≤—Å—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏, –Ω–µ –¥–æ–ø—É—Å–∫–∞—è –≥–æ–ª–æ–≤–æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è.
–í –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —É–∂–µ –≤–µ—á–µ—Ä. –°—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è —Å–ª–∏–∑—ã–≤–∞—Ç—å –≤–æ–¥—É —Å –ø–æ–∫—Ä—ã–≤—à–∏—Ö—Å—è –≤–ª–∞–≥–æ–π —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–π, –Ω–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –∑–∞—á–µ–º —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—é. –ü–∏—Ç—å –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –í–æ—Ç –∏ –≤—Å–µ –≤–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è —ç—Ç–æ–≥–æ –±–æ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –¥–Ω—è.
–í –ø–æ–ª—É–±—Ä–µ–¥—É –ø—Ä–æ—Å—ã–ø–∞–ª—Å—è –Ω–æ—á—å—é. –Ø –Ω–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Ç–µ–ø–ª–æ –º–Ω–µ –∏–ª–∏ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ, –Ω–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –±–æ–ª—å. –û–Ω–∞ –∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∏–∑ —É–∫—É—à–µ–Ω–Ω–æ–π –∑–º–µ—ë–π —è–≥–æ–¥–∏—Ü—ã –∏ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∞ —É–∂–µ –ø–æ–ª —Å–ø–∏–Ω—ã –∏ –ª–µ–≤—É—é –Ω–æ–≥—É.
–û–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –≤ —Å–µ–±—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É—Ç—Ä–æ–º, –Ω–∞ —á–µ—Ç–≤—ë—Ä—Ç—ã–π –¥–µ–Ω—å —Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–∏–π –ø–æ –≥–æ—Ä–∞–º. –ë–æ–ª—å –ª–æ–∫–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ –ª–µ–≤–æ–π —è–≥–æ–¥–∏—Ü–µ. –í—Å—è –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Ç–≤–µ—Ä–¥–∞—è, –±—É–¥—Ç–æ –∑–∞–º—ë—Ä–∑—à–∞—è. –ù–æ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –º–µ—à–∞–ª–∞. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —è —Å—Ç–∞–ª –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –¥—É–º–∞—Ç—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –∏–¥—Ç–∏ –∫ –ª—é–¥—è–º.
–Ý–∞—Å—Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏—è –æ—Å–Ω–æ–≤—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ª–∏—á–Ω–æ–º –æ–ø—ã—Ç–µ –ø–æ—Å–µ—â–µ–Ω–∏–π –ß–µ—á–Ω–∏ –≤ –ø—Ä–æ—à–ª—ã–µ –≥–æ–¥—ã. –Ø –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∏ –¥–µ–≤—è–Ω–æ—Å—Ç–æ —á–µ—Ç–≤—ë—Ä—Ç–æ–≥–æ –∏ –¥–µ–≤—è–Ω–æ—Å—Ç–æ –ø—è—Ç–æ–≥–æ –≥–æ–¥–æ–≤. –ë–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –≤—ã–≥–æ–¥–Ω–æ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–æ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤. –®–∞–º–∏–ª—å –ë–∞—Å–∞–µ–≤ –æ—Ç–¥–∞–ª –Ω–∞–º –ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤–æ–≥–æ –≤–∑–≤–æ–¥–∞ –Ω–æ—á—å—é –¥–æ–≤—ë–∑ –Ω–∞—Å –¥–æ –ê—á—Ö–æ–π-–ú–∞—Ä—Ç–∞–Ω–∞ –∏ –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª –∫ —Å–µ–±–µ –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—á–µ–≤–∞—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç—É —É–∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –º—ã –≤–µ–∑—ë–º –ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–µ–∑ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤, –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω–æ —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –∏ –µ—â—ë –¥–æ–≤–µ–∑–ª–∏ –¥–æ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω–∏ –≤ –æ–±—ä–µ–∑–¥ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç–æ–≤! –ö–æ—Ä–æ—á–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–∞ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –ø–æ—á–≤–∞ –¥–ª—è –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ª—é–¥–∏ –ø–æ–π–º—É—Ç –º–µ–Ω—è –∏ –æ–∫–∞–∂—É—Ç –ø–æ–º–æ—â—å. –¢–æ–≥–¥–∞ –∂–µ —è –≤—ã–¥—É–º–∞–ª —Å–µ–±–µ –ª–µ–≥–µ–Ω–¥—É. –Ø — —Ç–∞—Ç–∞—Ä–∏–Ω. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª —Å—é–¥–∞ –Ω–∞ –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∫–∏. –ü–æ—à—ë–ª –≤ –ª–µ—Å –∏ –∑–∞–±–ª—É–¥–∏–ª—Å—è. –õ–µ–≥–µ–Ω–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–ª–æ—Ö–∞—è, –Ω–æ –≥–æ–ª–æ–≤–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –Ω–µ –≤ –ø–æ–ª–Ω—É—é —Å–∏–ª—É, –∏ –ª—É—á—à–µ–π —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å.
–ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –±—ã–ª–æ —É—Ç—Ä–æ. –Ø –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –Ω–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª—Å—è, –∫–∞–∫ –æ–∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è –ø–æ—Ç–æ–º. –°–ø—É—Å–∫–∞–ª—Å—è —Å –≥–æ—Ä—ã, —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∏–¥—É –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —é–≥–∞. –ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ —è —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª—Å—è –ø–æ —Ç–æ–º—É –∂–µ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –≥–æ—Ä—ã, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –¥–≤—É–º—è –¥–Ω—è–º–∏ –Ω–∞–∑–∞–¥ —Å —Ç–∞–∫–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è.
–°–ø—É—Å–∫–∞–ª—Å—è —Ç—è–∂–µ–ª–æ. –û—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –°–∫–ª–æ–Ω –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä—É—Ç–æ–π. –í—ã—à–µ–ª –∫ –æ–±—Ä—ã–≤—É. –ù–µ–≤—ã—Å–æ–∫–∏–π –æ–±—Ä—ã–≤. –ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª—Å—è –æ–≤—Ä–∞–≥. –í –æ–≤—Ä–∞–≥–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –ª—é–¥–µ–π –∏ —Å—Ç—É–∫ —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–≤. –°–æ–±–ª–∞–∑–Ω –∏–¥—Ç–∏ –∫ –ª—é–¥—è–º –±—ã–ª –≤–µ–ª–∏–∫, –Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —É –º–µ–Ω—è —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ —É–º–∞ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å —ç—Ç–æ–≥–æ –≤ –ª–µ—Å—É. –ß–µ–º –±–æ–ª—å—à–µ –ª—é–¥–µ–π –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ —É–≤–∏–¥—è—Ç –º–µ–Ω—è, —Ç–µ–º –±–æ–ª—å—à–µ —à–∞–Ω—Å–æ–≤ –Ω–∞ —É—Å–ø–µ—Ö. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ, —è –µ—â—ë –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–∞–º–æ—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –≤—ã–∂–∏–≤–∞–Ω–∏–µ. –ü–æ—Å–ª–µ –¥–≤—É—Ö —Å—É—Ç–æ–∫ –±–µ—Å–ø–∞–º—è—Ç—Å—Ç–≤–∞ —è –º–æ–≥ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è, –∏ –≥–æ–ª–æ–≤–∞ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞.
–û–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞ —è —Å–∏–¥–µ–ª –∏ –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª—Å—è, –Ω–æ —Ç–∞–∫ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏ –Ω–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª. –ó–∞ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–ø—É—Å–∫ —Å –≥–æ—Ä—ã –ø–æ –æ–≤—Ä–∞–≥—É –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ —É–¥–æ–±–Ω–µ–µ. –ï–≥–æ –∫–∞–º–µ–Ω–∏—Å—Ç–æ–µ –¥–Ω–æ, –≤—ã–º—ã—Ç–æ–µ –ø–æ—Ç–æ–∫–∞–º–∏ –≤–æ–¥—ã, —É—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –≤–Ω–∏–∑ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞–º–∏. –î–ª–∏–Ω–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã –¥–≤–∞ — —Ç—Ä–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞. –í—ã—Å–æ—Ç–∞ — –º–µ—Ç—Ä — –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞. –¢–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã —Ä–æ–≤–Ω—ã–µ. –ù–∞ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤ –≤—ã–µ–º–∫–∞—Ö —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª–∏—Å—å —á–∏—Å—Ç—ã–µ –ª—É–∂–∏. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –∏ —Å–∞–º-—Ç–æ –æ–≤—Ä–∞–≥ –∏–∑–Ω–∞—á–∞–ª—å–Ω–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–º. –°–ø—É—Å–∫–∞—è—Å—å –ø–æ –¥–Ω—É, —è –Ω–∞–π–¥—É —á–∏—Å—Ç—É—é –≤–æ–¥—É.
–î–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤ –æ–≤—Ä–∞–≥, –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —É–º–∞ –Ω–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ä—É–±–∏—Ç—å –¥–µ—Ä–µ–≤–æ, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –µ–≥–æ –Ω–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É —Ç—Ä–µ–º—è –º–µ—Ç—Ä–∞–º–∏ –Ω–∏–∂–µ –∏ —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è —Ç—É–¥–∞ –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –ê –¥–∞–ª—å—à–µ — –ø–µ—Ä–µ–π—Ç–∏ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —Ä–æ—Å–ª–æ —É–∂–µ –∏–∑ –Ω–µ–¥—Ä —Å–∞–º–æ–≥–æ –æ–≤—Ä–∞–≥–∞.
–ò–º–µ—è —Ç–æ–ø–æ—Ä, —è —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª –ø—Ä–æ–¥–µ–ª–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –∑–∞ –¥–µ—Å—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –ø—Ä–æ–∫–æ–≤—ã—Ä—è–ª—Å—è –±–æ–ª–µ–µ –¥–≤—É—Ö —á–∞—Å–æ–≤.
–ù–∞ –¥–Ω–µ –æ–≤—Ä–∞–≥–∞ —è, –≤–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, –Ω–∞—à—ë–ª —á–∏—Å—Ç—É—é –ª—É–∂—É –∏ –Ω–∞–ø–∏–ª—Å—è. –ü–æ—à—ë–ª –≤–Ω–∏–∑. –û—Ç–ª–∏—á–Ω–æ! –¢–∞–∫–æ–π —Å–ø—É—Å–∫ —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è. –ò–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è —Å —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—É, –∫–∞—Ä–∞–±–∫–∞—è—Å—å –ø–æ –∫–∞–º–Ω—é. –≠—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç–∞ –ø—Ä–µ–≤—ã—à–∞–ª–∞ –¥–≤–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞. –í –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø—Ä—ã–≥–∞–ª –≤–Ω–∏–∑. –Ø –¥–∞–∂–µ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —Ä–∞—Å—Å–ª–∞–±–∏–ª—Å—è, –∞ –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ-—Ç–æ, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –∏ –Ω–µ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å.
–õ—É–∂–∏ –Ω–∞ –∫–∞–º–Ω—è—Ö –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ. –Ø –º–æ–≥ –ø–∏—Ç—å —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è. –í–æ–∑–ª–µ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –ª—É–∂ —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª —Å–≤–µ—Ç—è—â–∏–π—Å—è –ø—É—à–∏—Å—Ç—ã–π —à–∞—Ä–∏–∫. –í–∑—è–ª –µ–≥–æ, –ø–æ–∫—Ä—É—Ç–∏–ª –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –∏ —Å—É–Ω—É–ª –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω. –°–Ω–æ–≤–∞ —Å—Ç–∞–ª —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è. –ö–æ–≥–¥–∞ —Ä–µ—à–∏–ª –Ω–∞–ø–∏—Ç—å—Å—è, —Ç–æ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –ª—é–¥–µ–π. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∏–∂–µ –ø–æ –æ–≤—Ä–∞–≥—É. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, —è —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è –∏ –ø–æ—à—ë–ª –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ. –ù–æ –≥–æ–ª–æ—Å–∞ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏. –í–æ—Ç –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç — –∏, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –∑–∞ –Ω–∏–º –ª—é–¥–∏! –ù–æ —Ç–∞–º –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ —è —Å–ª—ã—à–∞–ª –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏.
–Ø –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è — –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏. –ò –≤–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—á–∞–ª –¥–æ–≥–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –º–æ–≥—É—Ç –±—ã—Ç—å —Å–ª—É—Ö–æ–≤–æ–π –≥–∞–ª–ª—é—Ü–∏–Ω–∞—Ü–∏–µ–π, –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—É –∑–∞–ø—Ä—ã–≥–∞–ª –º–æ–π –±–µ–ª—ã–π –ø—É—à–∏—Å—Ç—ã–π —à–∞—Ä–∏–∫. –Ø –Ω–∏ —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –æ–Ω –∑–æ–≤—ë—Ç –º–µ–Ω—è –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ —Å–æ–±–æ–π. –Ø –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è –∏ –ø–æ—à—ë–ª. –®–∞—Ä–∏–∫, –ø–æ–¥–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞—è, —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –º–Ω–µ –ø—É—Ç—å. –Ø —Ç–∞–∫ –ø—Ä–∏–æ–±–æ–¥—Ä–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ —É–∂–µ –±–µ–∂–∞–ª –∑–∞ –Ω–∏–º –ø–æ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞–º. –£–∂–µ –≤–∏–¥–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –≤ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—Ç—ã –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤—ã –æ–≤—Ä–∞–≥–∞. –í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç —è –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ –∑–∞–º—à–µ–ª–æ–º –∫–∞–º–Ω–µ –∏ –±–æ–ª—å–Ω–æ —É–ø–∞–ª.
–° –±–æ–ª—å—é –ø—Ä–∏—à–ª–æ –∏ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ –Ω–µ—Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥—è—â–µ–≥–æ. –Ø –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Ç—Ä–µ–∑–≤–æ –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é, –∏, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –Ω–µ —Å–º–æ–≥, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –ø—É—à–∏—Å—Ç—ã–π —à–∞—Ä–∏–∫ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ–¥–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–µ. –ò –≤—Å—ë –∂–µ, –∫–∞–∫–∏–º-—Ç–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª —Å–≤–æ—ë —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ. –° –¥–æ—Å–∞–¥–æ–π –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –≤—ã–∑–≤–∞–Ω–æ –æ–Ω–æ –∏ –∑–º–µ–∏–Ω—ã–º —É–∫—É—Å–æ–º, –∏ –æ–±—â–µ–π —Å–ª–∞–±–æ—Å—Ç—å—é. –ü–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ —ç—Ç–æ –≥–∞–ª–ª—é—Ü–∏–Ω–∞—Ü–∏—è, —Ç–æ —è —Å—É–º–µ—é —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ–º —à–∞—Ä–∏–∫–∞. –ù–µ —Å–º–æ–≥. –ü—Ä–æ–≤—ë–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç: –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –®–∞—Ä–∏–∫, –ø–æ –º–æ–∏–º —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è–º, –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –ø–µ—Ä–µ–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤ –∑–æ–Ω—É –æ–±–∑–æ—Ä–∞ –º–æ–µ–≥–æ –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞. –ë–∞—Ö–∞–ª–∞–π. –®–∞—Ä–∏–∫ —É–ø–æ—Ä–Ω–æ –ø—Ä—ã–≥–∞–ª –Ω–∞ —Ç–æ–º –∂–µ –º–µ—Å—Ç–µ. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –≤—Å—Ç–∞–ª –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –µ–º—É:
— –ú–Ω–µ –Ω–∞ —Ç–µ–±—è –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –Ω–∞–ø–ª–µ–≤–∞—Ç—å. –¢–µ–±—è –Ω–µ—Ç.
–ò –ø–æ—à—ë–ª –¥–∞–ª—å—à–µ. –ü—Ä–æ—à—ë–ª —Ç—Ä–∏ –∏–ª–∏ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã –≤–Ω–∏–∑. –û–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è. –®–∞—Ä–∏–∫ —Ç–∞–∫ –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –≤ –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ —è –µ–≥–æ –æ—Å–∫–æ—Ä–±–∏–ª.
— –í–æ—Ç —Ç–∞–∫, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — –≤ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —Ä–∞–∑ –±—É–¥–µ—à—å —Å–ª—É—à–∞—Ç—å—Å—è.
–£–∂–µ –±–µ–∑ –ø–æ–º–æ—â–∏ —à–∞—Ä–∏–∫–∞ —è –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –û–≤—Ä–∞–≥, –∫ –º–æ–µ–º—É —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é, –≤–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è, –∏ —è —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –±—ã–ª–∞ –≤ –∫–∞–∫–∏—Ö-–Ω–∏–±—É–¥—å —Å–æ—Ä–æ–∫–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö, –Ω–æ –ø—É—Ç—å –∫ –Ω–µ–π –ø—Ä–µ–≥—Ä–∞–∂–¥–∞–ª –æ–±—Ä—ã–≤. –û–±—Ä—ã–≤ –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–∏–π. –ú–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Å–µ–º—å. –ò–∑ –Ω–∏—Ö —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–≤–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞ — –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω—ã–µ. –ù–∏–∂–µ –æ–±—Ä—ã–≤ –ø–ª–∞–≤–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Å–∫–ª–æ–Ω –∏–∑ –æ—Å—ã–ø–∞–≤—à–µ–≥–æ—Å—è —â–µ–±–Ω—è. –ü—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ —â–µ–±–µ–Ω—å –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—â–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –Ω–æ –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ —è –≤—ã–±—Ä–∞–ª –¥—Ä—É–≥–æ–π –ø—É—Ç—å. –°–∫–ª–æ–Ω–∏–ª –∫ —Å–µ–±–µ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É –º–æ–ª–æ–¥–æ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∏ —Ä–µ—à–∏–ª, –¥–µ—Ä–∂–∞—Å—å –∑–∞ –Ω–µ—ë, —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —â–µ–±—ë–Ω–∫—É. –í —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–≤–∏—Å –Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ –∏ —É–ø—ë—Ä—Å—è –Ω–æ–≥–∞–º–∏ –≤ —Å—Ç–µ–Ω–∫—É –æ–±—Ä—ã–≤–∞, –≤–µ—Ä—Ö—É—à–∫–∞ –æ–±–ª–æ–º–∏–ª–∞—Å—å. –Ø –ø–æ–ª–µ—Ç–µ–ª —Å–ø–∏–Ω–æ–π –≤–Ω–∏–∑ –Ω–∞ —â–µ–±—ë–Ω–∫—É. –°–∫–æ–ª—å–∑—è –ø–æ –Ω–µ–π –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –≤–ø–µ—Ä—ë–¥, –¥–æ–ª–µ—Ç–µ–ª –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–æ —Å–∞–º–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ—á—É—Ö–∞–ª—Å—è –∏ –ø–æ–¥–Ω—è–ª –≥–æ–ª–æ–≤—É, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è —è –≤ —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–µ –æ—Ç –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–≥–æ –∫–∞–º–Ω—è. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä–∞—Å–∫—Ä–æ–∏—Ç—å —á–µ—Ä–µ–ø.
–ü–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è —è –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª. –ü–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –µ—Ö–∞–ª–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞. –®–∞—Ä–æ–≤–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞ –£–ê–ó–∏–∫. –ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–≥ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ, —è —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –∑–∞ –∫–∞–º–Ω–µ–º. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–ª–∞, —Ç–∞–∫ –∂–µ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–∑–∞–ª –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –∫–∞–º–Ω—è, –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ —Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–µ —á–∞—Å–æ–≤, —Å —Ç–∞–∫–∏–º —Ä–∞—Å—á—ë—Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –∑–∞ –∫–∞–º–Ω–µ–º.
–ú–Ω–µ —ç—Ç–æ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å.
–ö–æ–≥–¥–∞ –£–ê–ó–∏–∫ –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–ª –º–∏–º–æ, –ø–æ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–º –∑–≤—É–∫–∞–º —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –≤–µ–∑—É—Ç —è—â–∏–∫–∏ —Å –ø—É—Å—Ç—ã–º–∏ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∞–º–∏. –ê –∫–æ–≥–¥–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ —Å–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –∏–∑ –≤–∏–¥—É, –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∏ –ø–æ—à—ë–ª –≤ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –µ—Ö–∞–ª –£–ê–ó.
–í–¥–æ–ª—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ —Ç–µ–∫–ª–∞ —Ä–µ–∫–∞. –¢–µ—á–µ–Ω–∏–µ –µ—ë –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫–∏–º –±—É—Ä–Ω—ã–º, –∫–∞–∫ –¥–≤–∞ –¥–Ω—è –Ω–∞–∑–∞–¥. –í–¥—Ä—É–≥, —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –º—É–∑—ã–∫—É. –û–Ω–∞ —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å –≥–æ—Ä—ã, –∏–∑ –ª–µ—Å–∞ –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –ê—Ä–≥—É–Ω–∞. –ì–∞–ª–ª—é—Ü–∏–Ω–∞—Ü–∏–µ–π —ç—Ç–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –Ø –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –≤ —Å–µ–±—è. –Ý–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±–∞–∑–∞ –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ —Ç–∞–º –µ—Å—Ç—å –º–µ–¥–ø—É–Ω–∫—Ç. –í –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –Ω—É–∂–Ω–æ –∏–¥—Ç–∏ —Ç—É–¥–∞. –•–æ—Ç—è –≥–æ–ª–æ—Å–æ–≤ –ª—é–¥–µ–π –≤ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —è –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª, —ç—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–Ω–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –¥–æ –±–∞–∑—ã –±—ã–ª–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –í—Å—ë –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ — –∏ —Ç–∞–Ω—Ü–µ–≤–∞–ª—å–Ω–∞—è –º—É–∑—ã–∫–∞, –∏ –ø—É—Å—Ç—ã–µ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏ — —Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å.
–Ø —à–µ–ª –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º–æ–≥—É –±—ã—Ç—å –∫–µ–º-—Ç–æ –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω. –î–æ–ª–≥–æ –ª–∏ —à—ë–ª, –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é, –Ω–æ –º–µ–Ω—è –ø—Ä–∏–≤—ë–ª –≤ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ —Ç–æ—Ç –∂–µ –∑–≤—É–∫ –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∏–º—ã—Ö –±—É—Ç—ã–ª–æ–∫. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã–µ. –Ø –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª –º–∞—à–∏–Ω—É –≤ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö.
–ë–µ–∂–∞—Ç—å –±—ã–ª–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–æ. –Ø –≤–∑—è–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä –≤ –ø—Ä–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É, —Å–¥–µ–ª–∞–ª —Å–≤–∏—Ä–µ–ø–æ–µ –ª–∏—Ü–æ –∏ –∑–∞—à–∞–≥–∞–ª —Ç–∞–∫–∏–º —Ç–≤–µ—Ä–¥—ã–º —à–∞–≥–æ–º, –∫–∞–∫–∏–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–≥.
–ü—Ä–æ–µ–∑–∂–∞—è –º–∏–º–æ, –º–∞—à–∏–Ω–∞ —á—É—Ç—å –ø—Ä–∏—Ç–æ—Ä–º–æ–∑–∏–ª–∞. –ö—Ä–∞–µ–º –≥–ª–∞–∑–∞ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —Å–º–æ—Ç—Ä—è—Ç —Ç—Ä–æ–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ü–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –º–µ—Ä–µ, –≤—Å–µ –±—ã–ª–∏ –≤ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–µ. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –æ–Ω–∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª–∏ –º–µ–Ω—è –∑–∞ —Å—É–º–∞—Å—à–µ–¥—à–µ–≥–æ. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ –≥–∞–∑–∞–Ω—É–ª–∞ –∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∞ –¥–∞–ª—å—à–µ. –Ø –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —Ç–∞–∫ –∂–µ —Ç–≤—ë—Ä–¥–æ –∏–¥—Ç–∏ –≤–ø–µ—Ä—ë–¥.
–ù–µ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–≤ –∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞, –£–ê–ó–∏–∫ —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –≤–ø—Ä–∞–≤–æ –∏ —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è –≤ –ª–µ—Å—É —É –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è –≥–æ—Ä—ã. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–µ—Ç —Ä–µ—á–∫–∏. –î–∞–ª–µ–∫–æ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–µ–∫–æ–µ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ –∑–∞–±–æ—Ä–∞ –∏ –æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–µ –Ω–∞ –≤–∑–≥–æ—Ä–æ—á–∫–µ.
–°—Ç–∞–ª –∏—Å–∫–∞—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ, –∫—É–¥–∞ –±—ã —É–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è. –ü–æ–ø–∞–¥–∞—Ç—å –∫ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å.
–°–∫—Ä—ã–ª—Å—è –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –æ–≤—Ä–∞–≥–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –ø—Ä—è–º–æ –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ü—Ä–æ—à—ë–ª –ø–æ –Ω–µ–º—É –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏, –≤—ã–ø–æ–ª–∑ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω –≥–æ—Ä—ã –∏ –ø–æ—à—ë–ª –≤–¥–æ–ª—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –Ω–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –≤—ã—à–µ –Ω–µ—ë. –ë—ã–ª–æ –æ–∫–æ–ª–æ —à–µ—Å—Ç–∏ —á–∞—Å–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∞. –í–¥–æ–ª—å —Å–∫–ª–æ–Ω–∞ —à—ë–ª –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ, –∏ —Å—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–ª—Å—è –≤ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–º –∂–µ –æ–≤—Ä–∞–≥–µ. –î–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –∫ –ª—é–¥—è–º —Ä–µ—à–∏–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–µ—Ç. –£—Å—Ç—Ä–æ–∏–≤—à–∏—Å—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –±—ã–ª–∞ –≤–∏–¥–Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –Ω–µ—é –∏ –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª—Å—è: –Ω–µ –∏—â—É—Ç –ª–∏ –º–µ–Ω—è —Ç–µ, –∫—Ç–æ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª –º–∏–º–æ –Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω–µ. –ù–æ, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –∏–º –±—ã–ª–æ –Ω–µ –¥–æ –º–µ–Ω—è. –ì–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ø–æ–∑–∂–µ —è —É–∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ –ú—É—Å–∞ –≤ —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–ª –∑–¥–µ—Å—å. –û–Ω –∏—Å–∫–∞–ª –º–µ–Ω—è, –∏ –µ–º—É —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –≤–∏–¥–µ–ª–∏.
–í –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–∏ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã —Å–∏–¥–µ–ª –∏ –∏–≥—Ä–∞–ª –ø—É—à–∏—Å—Ç—ã–º —à–∞—Ä–∏–∫–æ–º, —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–≤ –µ–≥–æ –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–µ –∫—É—Ä—Ç–∫–∏. –ó–∞—Å–Ω—É–ª. –ü—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∞—Ö. –û—á–µ–Ω—å –æ–≥–æ—Ä—á–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ —à–∞—Ä–∏–∫–∞ –Ω–µ—Ç. –£–∂–µ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –ü–æ–∫–∞ –≤—ã–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –∏–∑ –æ–≤—Ä–∞–≥–∞, —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –í—ã—à–µ–ª –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –≤ —Ç–æ –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∞ –∫ –ª–µ—Å—É –º–∞—à–∏–Ω–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –¢—É—Ç –∂–µ, —É —Ä–∞–∑–≤–∏–ª–∫–∏ –¥–æ—Ä–æ–≥ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –¥–∏–∫–∞—è –≥—Ä—É—à–∞. –ü–ª–æ–¥—ã –≤–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ. –ù–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –∏ –Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ. –¢–æ–≥–¥–∞ —è, –±—ã–ª–æ, —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ –∏ —Å–ø–∞—Å—ë—Ç –º–µ–Ω—è –æ—Ç –≥–æ–ª–æ–¥–∞. –ò –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∏ –∫ –∫–æ–º—É –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –∑–∞ –ø–æ–º–æ—â—å—é. –ù–∞—á–∞–ª –∂–µ–≤–∞—Ç—å –≥—Ä—É—à–∏. –ù–∞ –≤–∫—É—Å — —Ç—Ä–∞–≤–∞-—Ç—Ä–∞–≤–æ–π, –Ω–æ —è –µ–ª. –¢–∞–∫ –Ω—É–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã –≤—ã–∂–∏—Ç—å.
–ù–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–∏–Ω—É—Ç, –∫–∞–∫ –º–µ–Ω—è –≤—ã—Ä–≤–∞–ª–æ. –ò –≤–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –æ—Ç—á—ë—Ç–ª–∏–≤–æ –ø–æ–Ω—è—Ç, —á—Ç–æ —É–º—Ä—É, –µ—Å–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–µ –ø–æ–π–¥—É –∫ –ª—é–¥—è–º. –ò –ø–æ—à—ë–ª.
–ó–∞–±–æ—Ä, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª—Å—è –ø—Ä—è–º–æ –∑–∞ —Ä–∞–∑–≤–∏–ª–∫–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –ú–µ—Å—Ç–∞–º–∏ —ç—Ç–æ –±—ã–ª –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —à—Ç–∞–∫–µ—Ç–Ω–∏–∫, –º–µ—Å—Ç–∞–º–∏ — –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–∏–π –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∑–∞–±–æ—Ä –∏–∑ –Ω–µ–æ—Ç—ë—Å–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–∞–º–Ω—è. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ — –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–ª–µ—Ç–µ–Ω—å. –ú–Ω–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —è –∏–¥—É –≤ –±–µ–ª–æ–π —Ä—É–±–∞—à–∫–µ –∏ –º–µ–Ω—è —Å–µ–π—á–∞—Å –≤—Å–µ–º –≤–∏–¥–Ω–æ. –ù–æ —ç—Ç–æ —Å—Ç–æ–∏—Ç –æ—Ç–Ω–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ –±–æ–ª–µ–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ. –í –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º —è —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–∞–ª, –∫—É–¥–∞ –∏ –∑–∞—á–µ–º –∏–¥—É. –Ø –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –º—ë—Ä—Ç–≤—ã–π –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –Ω—É–∂–µ–Ω. –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — –≤—ã–∂–∏—Ç—å. –ê –¥–∞–ª—å—à–µ, –ø—É—Å—Ç—å –¥–∞–∂–µ –∏ –ø–æ–º—É—á–∏—Ç—å—Å—è, –Ω–æ –∂–∏—Ç—å –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –±–µ–∂–∞—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞–¥–æ…
–î–≤–∞–∂–¥—ã —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è –≤ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–º –∫—é–≤–µ—Ç–µ –æ—Ç –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–≤—à–∏—Ö –º–∏–º–æ –º–∞—à–∏–Ω. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ–¥–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å –≤–ª–µ–≤–æ. –ì–æ—Ä–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å, –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –æ–¥–∏–Ω –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ—á–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∏ –æ–±—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞. –ú–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤—É—Ö—Å—Ç–∞—Ö –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ — –¥–æ–º. –í –¥–æ–º–µ —Å–≤–µ—Ç. –Ø –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –∏–¥—Ç–∏ –∏ —É–∂–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª –∑–≤—É–∫–∏ —Ä–µ–∫–∏. –û–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫–∞–ª–∞ —É –≤—ã—Å–æ—á–µ–Ω–Ω–æ–π –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω–æ–π –≥–æ—Ä—ã. –î–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Ä–µ–∫–∏. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞ –¥–æ–º–æ–º — –º–æ—Å—Ç. –û—Å–Ω–æ–≤–Ω–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —à–ª–∞ –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç, –Ω–æ —è —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –Ω–∞ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–∫—É, –≤–µ–¥—É—â—É—é –≤ —Å–µ–ª–æ.
–ú–Ω–µ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –∏–¥—Ç–∏ –≤ –¥–æ–º —É –º–æ—Å—Ç–∞. –ú–µ—Å—Ç–æ —Ç–∞–º –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫–æ–µ, —á—Ç–æ –∏ –ª–µ–Ω–∏–≤—ã–π –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –±—ã –ª–∞—Ä—ë–∫. –î–æ–º –±—ã–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π, —Å–ø—Ä–∞–≤–Ω—ã–π. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –∂–∏–≤—É—Ç —Ç–æ—Ä–≥–∞—à–∏. –ê –º–Ω–µ –±—ã–ª–∏ –Ω—É–∂–Ω—ã –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–µ –ª—é–¥–∏.
–ü–æ–π–¥—è –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Å—Ç–æ, —É–≤–∏–¥–µ–ª –∑–∞ –∑–∞–±–æ—Ä–æ–º –æ–≥–æ–Ω—ë–∫. –û–Ω –≥–æ—Ä–µ–ª –Ω–∞–¥ –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ–º –¥–æ–º–∞, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –æ—Ç –∑–∞–±–æ—Ä–∞. –ü–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞–º –∏ –ø—Ä–∏–æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –∫–∞–ª–∏—Ç–∫—É.
— –•–æ–∑—è–∏–Ω, — –ø–æ–∑–≤–∞–ª —è. — –•–æ–∑—è–∏–Ω!..
–ò–∑ –¥–æ–º—É –≤—ã—à–µ–ª –º–æ–ª–æ–¥–æ–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. –ó–∞ –Ω–∏–º — –¥–≤–µ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã. –ù–æ –≤—Å–µ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞—à–ª–∏ –≤ –¥–æ–º. –Ø –≤–æ—à—ë–ª –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ–∑–≤–∞–ª —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞.
–ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –≤—ã—à–µ–ª —Å —Ä—É–∂—å—ë–º. –ü–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫–æ –º–Ω–µ —à–∞–≥–æ–≤ –Ω–∞ –¥–µ—Å—è—Ç—å –∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª:
— –í —á—ë–º –¥–µ–ª–æ? –ß—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å?
— –ü–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç–µ, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è, — –∑–∞–±–ª—É–¥–∏–ª—Å—è –≤ –ª–µ—Å—É –∏ –≤–æ—Ç —É–∂–µ –¥–≤–æ–µ —Å—É—Ç–æ–∫ –ø–ª—É—Ç–∞—é. –ü–æ–º–æ–≥–∏—Ç–µ, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞!
–ß–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –∂–µ—Å—Ç–æ–º –ø–æ–∑–≤–∞–ª –≤ –¥–æ–º, –Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–µ–º—É, –ø–µ—Ä–≤—ã–º –¥–µ–ª–æ–º –∑–∞–±—Ä–∞–ª —É –º–µ–Ω—è –∏–∑ —Ä—É–∫ —Ç–æ–ø–æ—Ä.
— –ß—Ç–æ —ç—Ç–æ –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞—Ö? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
–ê –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω—ã —É –º–µ–Ω—è — —è —Å–æ–≤—Å–µ–º –æ–± —ç—Ç–æ–º –∑–∞–±—ã–ª — –±—ã–ª–∏ –∑–∞–±–∏—Ç—ã –±–µ–ª—ã–º –º—Ä–∞–º–æ—Ä–æ–º, —á—Ç–æ —è –µ—â—ë –¥–≤–∞ –¥–Ω—è –Ω–∞–∑–∞–¥ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –¥–ª—è –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–æ–≤ —É –ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω–æ–π —Å–∫–∞–ª—ã. –ö–∞–º–Ω–∏ —è –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª.
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤–æ—à–ª–∏ –≤ –¥–æ–º, —è –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª—Å—è –µ–≥–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞–º. –ê –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —ç—Ç–æ –±—ã–ª –∫—Ä—ã—Ç—ã–π –¥–≤–æ—Ä? –í–¥–∞–ª–µ–∫–µ, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Å–æ—Ä–æ–∫–∞, —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª–æ–º —Ç—Ä–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã. –ú–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —è —à—ë–ª –¥–æ –Ω–∏—Ö —Ü–µ–ª—É—é –≤–µ—á–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –∏ –Ω–∏–∑–∫–æ–º—É –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏—é, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—â–µ–º—É –∫–æ—Ä–æ–≤–Ω–∏–∫.
–ñ–µ–Ω—â–∏–Ω–∞–º –∏ –ø–∞—Ä–Ω—é —è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª —Å–≤–æ—é –ª–µ–≥–µ–Ω–¥—É –æ —Ç–∞—Ç–∞—Ä–∏–Ω–µ –∏–∑ –ß–µ–±–æ–∫—Å–∞—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∑–∞–±–ª—É–¥–∏–ª—Å—è –≤ –ª–µ—Å—É. –û–Ω–∏ –∫–∏–≤–∞–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏, —Å–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ –∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª–∏ –ø–æ–µ—Å—Ç—å.
–ö–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –µ—Å—Ç—å —è –Ω–µ –º–æ–≥. –ú–æ–≥ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–∏—Ç—å. –ú–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –≤—ã–ø–∏–ª —Ç—Ä–∏ –∫—Ä—É–∂–∫–∏ –≥–æ—Ä—è—á–µ–≥–æ —Å–ª–∞–¥–∫–æ–≥–æ —á–∞—è. –ü–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è —Å–ø–∞—Ç—å. –ú–µ–Ω—è –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –≤ –ø—É—Å—Ç—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É, –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü –∏ –¥–∞–ª–∏ –Ω–µ–∫–æ–µ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ –ø–æ–¥—É—à–∫–∏. –ù–∞–∫—Ä—ã–ª–∏ –æ–¥–µ—è–ª–æ–º. –ó–∞—Å–Ω—É–ª –ø–æ—á—Ç–∏ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ, —É—Å–ø–µ–≤ –ø–æ–¥—É–º–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∏ –≤ –º–æ–∫—Ä–æ–π –æ–¥–µ–∂–¥–µ –ø–æ–¥ –æ–¥–µ—è–ª–æ–º —Ç–µ–ø–ª–æ.
–Ý–∞–∑–±—É–¥–∏–ª–∏ –ø–∏–Ω–∫–∞–º–∏. –Ø –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏. –í–æ–∫—Ä—É–≥ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã. –î–≤–æ–µ –∏–∑ —Å–µ–º–µ—Ä—ã—Ö –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω—ã –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞–º–∏.
— –ö—Ç–æ —Ç—ã —Ç–∞–∫–æ–π? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö. — –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–π —Å–≤–æ—é –Ω–æ—á–Ω—É—é —Å–∫–∞–∑–∫—É.
–û—Ç —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ—é, —Ä—ã–∂–µ–≥–æ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞, —è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª —É–¥–∞—Ä –≤ —É—Ö–æ. –ß—Ç–æ-–ª–∏–±–æ –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–µ –∏–º–µ–ª–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ —Å–º—ã—Å–ª–∞. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ –º–æ–≥–ª–∏ –∑–Ω–∞—Ç—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è —Ä–∞–∑—ã—Å–∫–∏–≤–∞—é—Ç. –Ø —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –≤—Å—ë —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ –µ—Å—Ç—å.
–ü–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–≤ –±—ã–ª–æ –º–∞–ª–æ. –û—Ç–∫—É–¥–∞ —à—ë–ª? –ö–∞–∫ —à—ë–ª? –û–Ω–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∫–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏. –ú–µ–Ω—è –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É, –æ–∫–Ω–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –ü—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –≤–æ–¥—ã, –∏ —è –≤—ã–º—ã–ª—Å—è. –í—Å–µ –º–æ–∏ —à–º–æ—Ç–∫–∏ –∑–∞–±—Ä–∞–ª–∏, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞—Ç—å. –ü–æ–æ–±–µ—â–∞–ª–∏ –≤–æ –≤—Å—ë–º —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –∏ –æ—Ç–≤–µ–∑—Ç–∏ –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É —Å –Ý–æ—Å—Å–∏–µ–π.
–ü–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–≤–æ–µ —Å—É—Ç–æ–∫ —è —Ç–∞–∫ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏ –Ω–µ –µ–ª. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–∏–ª –∏ —Å–ø–∞–ª. –ù–∞—á–∞–ª –ø–æ–Ω–µ–º–Ω–æ–≥—É –µ—Å—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π –¥–µ–Ω—å.
–í –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –º–µ–±–µ–ª–∏. –ó–∞—Ç–æ — –º–æ—Ä–µ –∫–æ–≤—Ä–æ–≤. –û–Ω–∏ –≤–∏—Å–µ–ª–∏ –Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö –∏ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ —Å–≤—ë—Ä–Ω—É—Ç—ã–º–∏ –≤ —Ä—É–ª–æ–Ω—ã. –í—Å–µ–≥–æ —è –Ω–∞—Å—á–∏—Ç–∞–ª –∏—Ö –¥–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å. –ö –¥–≤–µ—Ä–∏ –Ω–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –µ—ë –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–æ–π. –ò–∑ –æ–∫–Ω–∞ –±—ã–ª–∏ –≤–∏–¥–Ω—ã –Ω–∞–¥–≤–æ—Ä–Ω—ã–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∏. –ú–µ–∂–¥—É –Ω–∏–º–∏ –≤–∞–∂–Ω–æ —Ä–∞—Å—Ö–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∞ –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∞—è –æ–≤—á–∞—Ä–∫–∞. –¶–µ–ø—å –¥–∞–≤–∞–ª–∞ –µ–π –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –≥—É–ª—è—Ç—å –∏ –ø–æ–¥ –º–æ–∏–º –æ–∫–Ω–æ–º. –í –æ–∫–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –∏ –≥–æ—Ä—É. –ï—ë –æ–±—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç—ã–π —Å–∫–ª–æ–Ω –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Å—Ç–æ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ —Ä–µ—á–∫–æ–π, —à—É–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Å–ª—ã—à–∞–ª. –ó–∞ –Ω–∞–¥–≤–æ—Ä–Ω—ã–º–∏ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∞–º–∏ –¥–æ —Å–∞–º–æ–π —Ä–µ–∫–∏ —Ç—è–Ω—É–ª–æ—Å—å –ø–æ–ª–µ. –î–æ —Ä–µ–∫–∏ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≥–æ—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—ã–ª–∞ –≤–∏–¥–Ω–∞ –∏–∑ –æ–∫–Ω–∞, –∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —è –æ–∂–∏–¥–∞–ª —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ —é–≥–µ, –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–µ. –í–æ—Ç —Ç—É—Ç –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –≤—Ç–æ—Ä—É—é –≥–æ—Ä—É –Ω–∞ —Å–≤–æ—ë–º –ø—É—Ç–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –æ–¥–æ–ª–µ–ª, —Ö–æ—Ç—è –∏ —Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ –µ—ë –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –Ω–µ –≤–∞–∂–Ω–æ.
–ó–º–µ–∏–Ω—ã–π —É–∫—É—Å –ª–æ–∫–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ —è–≥–æ–¥–∏—Ü–µ –≤ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é —à–∏—à–∫—É, –≤–µ–ª–∏—á–∏–Ω–æ–π —Å –∫—É—Ä–∏–Ω–æ–µ —è–π—Ü–æ. –û–Ω–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—è–ª–∞ –æ—Å–æ–±—ã—Ö —Ö–ª–æ–ø–æ—Ç –∏ –Ω–µ –º–µ—à–∞–ª–∞ —Å–∏–¥–µ—Ç—å. –Ø –æ–±—â–∞–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å –æ–¥–Ω–∏–º —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–º. –û–Ω –Ω–∞–∑–≤–∞–ª—Å—è –î–∏–º–æ–π. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ä–µ–¥–∫–æ. –î–∏–º–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª –ø—Ä–∏ –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–µ. –í–Ω–µ—à–Ω–µ, —Å–æ—à—ë–ª –±—ã –∑–∞ –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–≥–æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –ø–∞—Ä–Ω—è. –û–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–ª—É–∂–∏–ª –ø–æ–¥ –ù–∏–∂–Ω–∏–º –ù–æ–≤–≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º. –í –ê—Ä–∑–∞–º–∞—Å–µ. –î–∞–∂–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –ø–µ—Ä–µ–µ—Ö–∞—Ç—å —Ç—É–¥–∞ –∫ —Å–≤–æ–µ–π –Ω–µ–≤–µ—Å—Ç–µ, –Ω–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ —É –Ω–∏—Ö —Ç–∞–º –Ω–µ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å.
–í—Å–µ –º—É–∂—á–∏–Ω—ã –∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, –±—ã–ª–∏ –±—Ä–∞—Ç—å—è–º–∏ –∏ —Å—ë—Å—Ç—Ä–∞–º–∏. –≠—Ç–æ—Ç –¥–æ–º –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª –º–ª–∞–¥—à–µ–º—É –∏–∑ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ — –î–∏–º–µ. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –æ—Ç—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ–±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç–∏. –î–æ–º —É —Ä–µ–∫–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —è –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –∏–¥—Ç–∏ –Ω–æ—á—å—é, –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª —Ç–æ–∂–µ —ç—Ç–æ–π —Å–µ–º—å–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –Ω–µ–≤–∑–Ω–∞—á–∞–π —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ –≤—ã—Å–æ—Ç–µ –≥–æ—Ä—ã, —á—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –≤–∏–¥–Ω–∞ –∏–∑ –æ–∫–Ω–∞, –î–∏–º–∞ –ø–æ—Ö–≤–∞–ª–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç –∑–∞–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Å–∞–º—ã–π –≤–µ—Ä—Ö –∑–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç. –≠—Ç–æ –æ–Ω, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø—Ä–∏–≤—Ä–∞–ª, –Ω–æ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫. –ú–µ–Ω—è –ø–∞—Å–ª–∏.
–ù–∞ —á–µ—Ç–≤—ë—Ä—Ç—ã–π –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –≤ —ç—Ç–æ–º –¥–æ–º–µ, —è–≤–∏–ª—Å—è —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π –∏–∑ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤.
— –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è —è –µ–¥—É –≤ –≥–æ—Ä–æ–¥, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ü–æ–π–¥—É –∫ «—Ç—Ä—ë–º –¥—É—Ä–∞–∫–∞–º» –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞—é—Å—å —É–∑–Ω–∞—Ç—å –≤—Å—ë –æ —Ç–µ–±–µ. –ï—Å–ª–∏ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ç—ã –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –æ—Ç–≤–µ–∑—ë–º —Ç–µ–±—è —Ç—É–¥–∞, –∫—É–¥–∞ —Ç—ã —Å–∫–∞–∂–µ—à—å.
–Ø —Å–∏–ª—å–Ω–æ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è –≤ –µ–≥–æ –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–æ –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ –≤—Å—ë –∂–µ –±—ã–ª–∞. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–±–µ–≥–∞. –®–∞–Ω—Å—ã –Ω–∞ —É—Å–ø–µ—Ö –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å.
–í–µ—Å—å –¥–µ–Ω—å –î–∏–º–∞ –Ω–µ –æ—Ç—Ö–æ–¥–∏–ª –æ—Ç –º–µ–Ω—è. –û–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –≤ –¥–æ–º–µ —É –º–æ—Å—Ç–∞ –µ—Å—Ç—å –∏—Ö –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–ª–∫—É –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω–∞ — —á—É—Ç—å. –Ý–∞–±–æ—Ç—ã –≤ —Å–µ–ª–µ –Ω–µ—Ç. –ñ–∏—Ç—å –Ω–µ –Ω–∞ —á—Ç–æ. –ü–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞ –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π –±–µ—Ä—É—Ç —É –Ω–∏—Ö –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã –≤ –¥–æ–ª–≥. –≠—Ç–æ –µ—â—ë –±–æ–ª—å—à–µ —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è–ª–æ –≤ –º—ã—Å–ª–∏, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –ø—Ä–æ–¥–∞–¥—É—Ç. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø—Ä–∏—à—ë–ª —Å—Ç–∞—Ä—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç.
— –í—Å—ë –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ó–∞–≤—Ç—Ä–∞ –ø–æ–µ–¥–µ—à—å.
— –ö—É–¥–∞ –ø–æ–µ–¥—É? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ú—ã –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–¥–∏–º —Ç–µ–±—è —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–º –æ—Ä–≥–∞–Ω–∞–º. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç—ã —Å–∏–¥–∏ —Ç–∏—Ö–æ. –ù–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ, —á—Ç–æ–±—ã –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∏–∑ –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —è –ø–æ–º–æ–≥–∞—é —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º.
–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —É—Ç—Ä–æ –º–µ–Ω—è –ø–æ–∫–æ—Ä–º–∏–ª–∏ –∏ –≤—ã–≤–µ–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –¢–∞–º –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–µ—Ä–æ–π «—à–µ—Å—Ç—ë—Ä–∫–∏» —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –≤—Å–µ –±—Ä–∞—Ç—å—è. –û—Ç–∫—Ä—ã–ª–∏ –±–∞–≥–∞–∂–Ω–∏–∫. –ü–æ—Å—Ç–µ–ª–∏–ª–∏ —Ç—É–¥–∞ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü, –∫–∏–Ω—É–ª–∏ –ø–æ–¥—É—à–∫—É.
— –ü–æ–ª–µ–∑–∞–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –º–Ω–µ. — –ù–µ –≥–æ–∂–µ, —á—Ç–æ–±—ã —Ç–µ–±—è –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ —Å–µ–ª–µ. –¢–∞–∫ –±—É–¥–µ—Ç –ª—É—á—à–µ.
–õ–µ–∂–∞—Ç—å –≤ –±–∞–≥–∞–∂–Ω–∏–∫–µ «—à–µ—Å—Ç—ë—Ä–∫–∏» –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —É–¥–æ–±–Ω–æ. –°–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª–∏ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–∞–∂–µ –ø–æ–¥—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É. –ü—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –≤—Å—ë —Å–µ–ª–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º. –û—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ: –±—ã–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —Å–ª—ã—à–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –º–Ω–æ–≥–æ –ª—é–¥–µ–π. –ü–æ –≥–æ—Ä–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –µ—Ö–∞–ª–∏ –æ–∫–æ–ª–æ –ø–æ–ª—É—á–∞—Å–∞. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —Å—Ä–µ–¥–∏ –≥–æ—Ä. –ë—Ä–∞—Ç—å—è –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –Ø –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è –≤ –±–∞–≥–∞–∂–Ω–∏–∫–µ. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–Ω—É—Ç –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å —Ä—è–¥–æ–º –¥—Ä—É–≥–∞—è –º–∞—à–∏–Ω–∞. –ï—â—ë —á–µ—Ä–µ–∑ –º–∏–Ω—É—Ç—É –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∏ –±–∞–≥–∞–∂–Ω–∏–∫. –Ø –≤—ã–ª–µ–∑.
–ú—ã –±—ã–ª–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–æ –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –Ω–∞–¥ —É—â–µ–ª—å–µ–º. –ú–Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ—Å–µ—Å—Ç—å –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é «—à–µ—Å—Ç—ë—Ä–∫—É» –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ. –Ý—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ–π —Å–ª–µ–≤–∞ —Å–µ–ª —Ö–º—É—Ä—ã–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º.
— –ö—É–¥–∞ –º—ã –µ–¥–µ–º? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
–û–Ω –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª.
— –ö —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—é? — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ö —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—é, — –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
–ú—ã –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–Ω–∞—è –º–∞—à–∏–Ω–∞, —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –≤–µ–ª–µ–ª –ø—Ä–∏–≥–Ω—É—Ç—å—Å—è. –Ø –≤—Å—ë –ø–æ–Ω—è–ª. –ù–∏—á–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ —ç—Ç–∞ –ø–æ–µ–∑–¥–∫–∞ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–≤–µ—â–∞–ª–∞. –í –ª—É—á—à–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –º–µ–Ω—è –ø—Ä–æ–¥–∞–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–º —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞–º. –í —Ö—É–¥—à–µ–º — –≤–µ–∑—É—Ç –∫ —Ç–µ–º –∂–µ. –°–µ—Ä–¥—Ü–µ —Å–∂–∞–ª–æ—Å—å, –∏ —è –ø–æ–¥—É–º–∞–ª: «–ì–¥–µ –∂–µ —Ç—ã, –±–æ–≥? –ü–æ—á–µ–º—É –Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞–µ—à—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã —è —Å–µ–π—á–∞—Å –∂–µ —É–º–µ—Ä?» –ù–æ –±–æ–≥ –±—ã–ª –≥–ª—É—Ö. –°–ª–æ–≤–Ω–æ –Ω–∞—Å–º–µ—à–∫—É —Å—É–¥—å–±—ã –Ω–∞–¥ —Å–æ–±–æ–π —è –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–ª —Å–ª–æ–≤–æ, –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω–æ–µ –Ω–∞ —Ä–µ–∑–∏–Ω–æ–≤–æ–º –∫–æ–≤—Ä–∏–∫–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–ª–æ–≤–æ «SAMARA».
–ò–∑ –±–∞—Ä–¥–∞—á–∫–∞ —à–æ—Ñ–µ—Ä –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –¥–ª—è –º–µ–Ω—è —á—ë—Ä–Ω—É—é —Ç—Ä–∏–∫–æ—Ç–∞–∂–Ω—É—é —à–∞–ø–æ—á–∫—É –∏ –≤–µ–ª–µ–ª –Ω–∞–¥–µ—Ç—å. –Ø —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª –∑–∞—á–µ–º. –ù–∞–¥–µ–ª –∏ –Ω–∞—Ç—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞.
— –ü–æ–∫–∞ –º–æ–∂–µ—à—å —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫.
–ú—ã —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏—Å—å –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω—É –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –ø–æ—Å—ë–ª–æ–∫ –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –í–µ–¥–µ–Ω–æ. –ú–Ω–µ –≤–µ–ª–µ–ª–∏ –ø—Ä–∏–≥–Ω—É—Ç—å—Å—è. –°–Ω–æ–≤–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–æ—Å–æ–º –∑–∞–º–∞—è—á–∏–ª–∏ —Ä–µ–∑–∏–Ω–æ–≤—ã–µ –±—É–∫–≤—ã —Å–ª–æ–≤–∞ «SAMARA». –°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —á–∞—Å —è —Ç–∞–∫ –∏ –µ—Ö–∞–ª, –ø—Ä–∏–≥–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –ø–æ—á—Ç–∏ –∫ –ø–æ–ª–∏–∫—É –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ù–∞ —à–æ—Å—Å–µ –±—ã–ª–æ –æ–∂–∏–≤–ª—ë–Ω–Ω–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –¥–≤–æ—Ä. –ú–µ–Ω—è –≤—ã–≤–µ–ª–∏ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∏–∑–±–∏–ª–∏. –ù–æ –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ —Ç–∞–∫ –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –∏ –Ω–µ –ø–æ–ø–∞–ª–∏. –Ø —É–ø–∞–ª, —Å–≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è –∏ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –≥–æ–ª–æ–≤—É –∏ –ª–∏—Ü–æ —Ä—É–∫–∞–º–∏. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, —è –ø–æ–ø–∞–ª –∫ –ø—Ä–µ–∂–Ω–∏–º —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞–º. –ë–∏–ª–∏ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ, –Ω–æ –ø–æ–æ–±–µ—â–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –±—É–¥—É—Ç –±–∏—Ç—å –µ—â—ë.
–ó–∞—á–µ–º-—Ç–æ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ –¥–∂–∏–ø –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª–∏ –∏–∑ –¥—Ä—É–≥–æ–π –¥–≤–µ—Ä—Ü—ã. –ö—Ä—É–ø–Ω—ã–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –≤–∑—è–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ —Ä—É–∫—É, –∏ —è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π —É–¥–∞—Ä —Ä–µ–±—Ä–æ–º –ª–∞–¥–æ–Ω–∏ –ø–æ —à–µ–µ.
— –ë—É–¥–µ—à—å –∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –æ—Ç –Ω–∞—Å –Ω–µ —É–±–µ–∂–∏—à—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. — –ú—ã —Ç–µ–±–µ –Ω–µ —Ö—É—Ö—Ä—ã-–º—É—Ö—Ä—ã, –∞ –±—ã–≤—à–∞—è –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–∞—è –≥–≤–∞—Ä–¥–∏—è.
— –ß—Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –±—É–¥–µ—Ç —Å–æ –º–Ω–æ–π? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —É–∂–µ –µ—Ö–∞–ª–∏.
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –æ–Ω. — –≠—Ç–æ, –∫–∞–∫ —Ä–µ—à–∞—Ç –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä—ã. –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Å–∏–¥–µ–ª–∞ —Å–º–∏—Ä–Ω–æ –∏ —É–∂–µ –¥–∞–≤–Ω–æ –¥–æ–º–∞, –∞ —Ç—ã –≤—Å—ë –ø—Ä–æ–±–µ–≥–∞–ª.
–°–∫–æ—Ä–æ –º—ã –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞. –®–æ—Ñ–µ—Ä –ø–æ–≤—ë–ª –º–µ–Ω—è –≤–Ω—É—Ç—Ä—å –≥–∞—Ä–∞–∂–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏–π –∞–≤—Ç–æ—Å–µ—Ä–≤–∏—Å —Å –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –ø–æ–ª–∞–º–∏ –∏ –ø–æ–¥—ä—ë–º–Ω–∏–∫–æ–º. –Ø –≤—Å–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤–∏–¥–µ–ª —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏–∫–æ—Ç–∞–∂ —à–∞–ø–æ—á–∫–∏. –ß–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–µ—Ä–Ω–æ–π –ø—Ä–æ—ë–º –∑–∞—à–ª–∏ –≤ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ. –¢—É—Ç –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ –∂–µ–ª–µ–∑–æ–∫, —Ç–∏—Å–∫–∏, —Å–ª–µ—Å–∞—Ä–Ω—ã–π —Å—Ç–æ–ª. –í —É–≥–ª—É, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –∑–∞ –¥–≤–µ—Ä—å—é –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç–Ω–∞—è –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–∞—è –∫—Ä—ã—à–∫–∞ –ª—é–∫–∞. –Ý—è–¥–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –≤–∏–¥–∏–º–æ, —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –¥–æ–º–∞. –î–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—É—é –∫—Ä—ã—à–∫—É –æ–Ω —Å–¥–≤–∏–Ω—É–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –≤—Ç–æ—Ä—É—é, –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—É—é, –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –∑–∞–º–æ–∫ –Ω–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–π –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –∫—Ä—ã—à–∫–µ –∏ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª —Ä—É–∫–æ–π –≤–Ω–∏–∑.
— –î–∞–≤–∞–π.
— –ü–æ–ª–µ–∑–∞–π —Ç—É–¥–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—å.
–Ø —Å—Ç–∞–ª –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤—Å—Ç–∞–ª –Ω–∞ –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–π –ø–æ–ª, –∫—Ä—ã—à–∫–∞ –∑–∞—Ö–ª–æ–ø–Ω—É–ª–∞—Å—å. –ó–∞–≥—Ä–µ–º–µ–ª –∑–∞–º–æ–∫, –∑–∞–∫—Ä—ã–ª–∏ –≤—Ç–æ—Ä—É—é –∫—Ä—ã—à–∫—É –∏ –∑–∞–¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—É—é.
–í –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ –≥–æ—Ä–µ–ª —Ç—É—Å–∫–ª—ã–π —Å–≤–µ—Ç. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ç–æ—è—Ç—å –≤ –ø–æ–ª–Ω—ã–π —Ä–æ—Å—Ç. –ë–µ—Ç–æ–Ω–Ω–∞—è –∫–æ—Ä–æ–±–∫–∞ — —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –Ω–∞ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –º–µ—Ç—Ä–∞ — —Å –∞–ª—é–º–∏–Ω–∏–µ–≤—ã–º –±–∏–¥–æ–Ω–æ–º –∏–∑-–ø–æ–¥ –º–æ–ª–æ–∫–∞ –≤ —É–≥–ª—É. –í —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ — —Ç–æ–ø—á–∞–Ω, –∞ –Ω–∞ –Ω—ë–º —Å–∏–¥–∏—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –±—ã–ª –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ –ª–µ—Å–Ω–æ–≥–æ –≥–Ω–æ–º–∞. –í—Å—ë –ª–∏—Ü–æ –µ–≥–æ –∑–∞—Ä–æ—Å–ª–æ —á—ë—Ä–Ω–æ–π —â–µ—Ç–∏–Ω–æ–π.
— –¢—ã –∫—Ç–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
–Ø —Ç–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª —Ç–∞–∫ –Ω–∞–ø—É–≥–∞–Ω –æ–±–µ—â–∞–Ω–∏—è–º–∏ —Å–∫–æ—Ä–æ–π —Ä–∞—Å–ø—Ä–∞–≤—ã –Ω–∞–¥ —Å–æ–±–æ–π, —á—Ç–æ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–µ–π—á–∞—Å –ø–æ–∑–æ–≤—ë—Ç –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö, –∏ –æ–Ω–∏ –Ω–∞—á–Ω—É—Ç –∏–∑–¥–µ–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞–¥–æ –º–Ω–æ—é. –û–Ω –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –º–æ–π –∏—Å–ø—É–≥ –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª:
— –≠—Ç–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ —Ç–µ–±—è —Å—é–¥–∞ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏. –Ø –∑–¥–µ—Å—å —É–∂–µ –ø–æ—á—Ç–∏ —Ç—Ä–∏ –º–µ—Å—è—Ü–∞ —Å–∏–∂—É –æ–¥–∏–Ω.
— –ó–∞ —á—Ç–æ —Ç–µ–±—è –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –¢—Ä–µ–±—É—é—Ç –≤—ã–∫—É–ø.
— –¢–∞–∫ —Ç—ã –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫?
— –ù—É!
— –ò —è —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ…
— –ú–µ–Ω—è –∑–æ–≤—É—Ç –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–æ–º, — –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª—Å—è –æ–Ω.
— –Ø — –í–∏–∫—Ç–æ—Ä.
— –ï—Å—Ç—å —Ö–æ—á–µ—à—å?
— –ù–µ—Ç.
— –¢–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–π.
–ù—É, —è –µ–º—É –∏ –∏–∑–ª–æ–∂–∏–ª —Å–≤–æ—é –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é. –°–∞—à–∫–æ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ —Å–µ–±–µ. –û–Ω –∏–∑ –£–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã. –ß–µ—Ä–∫–∞—Å—Å–∫–∞—è –æ–±–ª–∞—Å—Ç—å, —Å–µ–ª–æ –¢–µ–Ω–∫–∏. –ó–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –≤—ã–ø–µ–∫–∞–ª —Ö–ª–µ–± –¥–ª—è –æ–¥–Ω–æ—Å–µ–ª—å—á–∞–Ω. –î–µ–ª–æ —à–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, –Ω–æ –¥–µ–Ω–µ–≥ –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ. –¢–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —Ä–µ—à–∏–ª –∑–∞–Ω—è—Ç—å—Å—è –µ—â—ë –∏ –±–µ–Ω–∑–∏–Ω–æ–º. –ê –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –±–µ–Ω–∑–∏–Ω–∞ — –æ–¥–∏–Ω –∫—Ä–∏–º–∏–Ω–∞–ª. –ß—Ç–æ–±—ã –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∫—É –±–µ–∑ –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤, –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω. –¢–∞–º –µ–≥–æ –∏ –ø–æ—Ö–∏—Ç–∏–ª–∏. –ü—Ä—è–º–æ –≤ —Ç–∞–ø–æ—á–∫–∞—Ö, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–µ–π—á–∞—Å –æ–Ω —Å–∏–¥–∏—Ç.
–í—ã–≤–µ–∑–ª–∏ –≤ –ß–µ—á–Ω—é –∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ –≥–ª—É–±–æ–∫—É—é –∑–µ–º–ª—è–Ω—É—é –Ω–æ—Ä—É. –î–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ —Ç–∞–º –Ω–µ–¥–µ–ª—é. –ü–æ—Ç–æ–º — —Å—é–¥–∞, –≤ –ë–∞–º—É—Ç. –î–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞ –°–∞—à–∫–æ –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏—Ç—å –¥–æ–º–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã —Ç–∞–º —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –¥–ª—è –≤—ã–∫—É–ø–∞. –ó–∞ –Ω–µ–≥–æ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏ —Å—Ç–æ —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤.
— –¢—ã —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤—á–∏–∫, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –ó–∞ –º–µ–Ω—è —Ç—Ä–µ–±—É—é—Ç –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞.
— –Ø —É–∂–µ –¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞ –∑–≤–æ–Ω–∏–ª –¥–æ–º–æ–π, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –°–∞—à–∫–æ. — –ü–æ–∫–∞ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å –¥–≤–µ —Ç—ã—Å—è—á–∏ –±–∞–∫—Å–æ–≤. –ß—Ç–æ –±—É–¥—É –¥–µ–ª–∞—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏–µ–¥—É? –ß–µ–º –±—É–¥—É –æ—Ç–¥–∞–≤–∞—Ç—å?
–ß—Ç–æ–±—ã –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏—Ç—å –¥–æ–º–æ–π, –°–∞—à–∫–æ –≤—ã–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –∑–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –æ—Ç –ë–∞–º—É—Ç–∞. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω —Å–ø—É—Ç–Ω–∏–∫–æ–≤–æ–π —Å–≤—è–∑–∏. –ü–æ—Ç–æ–º—É –∏ –æ—Ç–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ.
— –Ø —É–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Ö–æ–∑—è–∏–Ω—É, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–∑–≤–∞–ª —Ä–µ–±—è—Ç. –ü—É—Å—Ç—å —É—Å—Ç—Ä–æ—è—Ç –º–Ω–µ –µ—â—ë —Å–µ–∞–Ω—Å —Å–≤—è–∑–∏.
— –ê —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–∞ —Ä–µ–±—è—Ç–∞?
— –ë–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã.
— –ß–∞—Å—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Å—é–¥–∞ –Ω–∞–≤–µ–¥—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è?
— –ï—Å–ª–∏ –±—ã —á–∞—Å—Ç–æ! –ù–µ –¥–æ–∑–æ–≤—ë—à—å—Å—è –Ω–∏–∫–æ–≥–æ.
–≠—Ç–æ –º–µ–Ω—è –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–æ. –í—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å—Å—è —Å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º–∏ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å.
–°–ø–∞—Ç—å –≤–¥–≤–æ—ë–º –Ω–∞ —É–∑–∫–æ–º —Ç–æ–ø—á–∞–Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –î—ã—Ä—è–≤–æ–µ –æ–¥–µ—è–ª–æ –∫–∞–∂–¥—ã–π –≤–æ —Å–Ω–µ —Ç—è–Ω—É–ª –Ω–∞ —Å–µ–±—è. –ü–æ–¥—É—à–∫–∞ –æ–¥–Ω–∞. –ú—ã —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å —Å–ø–∞—Ç—å –ø–æ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–∏. –ö–æ—Ä–º–∏–ª–∏ —Ä–∞–∑ –≤ –¥–µ–Ω—å. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª –∫—Ä—ã—à–∫–∏, –∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä—å –æ–ø—É—Å–∫–∞–ª–∞—Å—å –∫–∞—Å—Ç—Ä—é–ª—è —Å –≥–æ—Ä—è—á–∏–º –æ–≤–æ—â–Ω—ã–º –∏–ª–∏ –º–æ–ª–æ—á–Ω—ã–º —Å—É–ø–æ–º, —Ö–ª–µ–±, —á–∞–π, –≤ –∫–∞—Å—Ç—Ä—é–ª–µ –∂–µ, –±—É—Ç—ã–ª–∫–∞ —Å –≤–æ–¥–æ–π. –õ–∏—Ü–∞ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞ –¥–æ–º–∞ –º—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ä—É–∫—É.
–Ý–∞–∑ –≤ –¥–≤–æ–µ —Å—É—Ç–æ–∫ –≤—ã–¥–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø–∞—á–∫–∞ «–ü—Ä–∏–º—ã». –°–∞—à–∫–æ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –ø—Ä–∏–±–∞–≤–∫–∏ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç, –≤–µ–¥—å —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∫—É—Ä–∏–ª—å—â–∏–∫–æ–≤ —Å—Ç–∞–ª–æ –¥–≤–æ–µ. –ù–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–∏–±–∞–≤–∏–ª–∏. –ö—É—Ä–∏–ª–∏ –ø–æ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–µ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã –Ω–µ —á–∞—â–µ, —á–µ–º —Ä–∞–∑ –≤ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —á–∞—Å–∞. –í—Å—ë –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–µ–∑–∞–ª–∏—Å—å –≤ «–±–∞–ª–¥—É» –∏ –º–µ—á—Ç–∞–ª–∏, –∫–∞–∫, –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–≤—à–∏—Å—å, –ø—Ä–∏–µ–¥–µ–º –≤ –°–∞–º–∞—Ä—É –∏ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–π–¥—ë–º –≤ –Ω–æ—á–Ω–æ–π –∫–ª—É–± «–≠–∫–≤–∞—Ç–æ—Ä». –°–∞–º —è –±—ã–ª —Ç–∞–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑, –∏ —Ç–æ –Ω–∞ —Å—ä—ë–º–∫–∞—Ö. –ù–æ –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–∞—Ö –ß–µ—á–Ω–∏ –ø–æ-–æ—Å–æ–±–æ–º—É –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–µ—Ç –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∞—è —Ä–æ—Å–∫–æ—à—å. –í «–≠–∫–≤–∞—Ç–æ—Ä–µ» –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –∑–∞–∫–∞–∑–∞—Ç—å –º–æ–ª–æ—á–Ω—É—é –ª–∞–ø—à—É, –≤—ã–∫—É—Ä–∏—Ç—å –ø–æ «–ü—Ä–∏–º–µ» –∏ —Å—ã–≥—Ä–∞—Ç—å –≤ «–±–∞–ª–¥—É». –ù–µ —Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –°–∞—à–∫–æ –±—ã–ª —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Ü–µ–º, –≤ «–±–∞–ª–¥—É» –æ–Ω –∏–≥—Ä–∞–ª –≤–µ–ª–∏–∫–æ–ª–µ–ø–Ω–æ.
«–ë–∞–ª–¥–∞» — —ç—Ç–æ —Ç–∞–∫–∞—è –∏–≥—Ä–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞—Å—á–µ—Ä—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Ç–∞–±–ª–∏—Ü–∞, –ø—è—Ç—å –Ω–∞ –ø—è—Ç—å –∫–ª–µ—Ç–æ–∫, –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ –ø–∏—à–µ—Ç—Å—è –∏—Å—Ö–æ–¥–Ω–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ, –∞ –¥–∞–ª—å—à–µ –∫–∞–∂–¥—ã–π –∏–∑ –∏–≥—Ä–æ–∫–æ–≤, –ø–æ–æ—á–µ—Ä—ë–¥–Ω–æ, –ø—Ä–∏–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç –∫ –Ω–µ–º—É –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–π –±—É–∫–≤–µ. –¢–∞–∫ –ø—Ä–∏–ø–∏—Å—ã–≤–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ–±—ã –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–æ–≤–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ. –ö–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –±—É–∫–≤ –≤ —ç—Ç–æ–º –Ω–æ–≤–æ–º —Å–ª–æ–≤–µ –∏ –µ—Å—Ç—å –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –æ—á–∫–æ–≤ –∑–∞ –æ–¥–∏–Ω —Ö–æ–¥.
–ú—ã –∏–≥—Ä–∞–ª–∏ —Å –°–∞—à–∫–æ –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω—ã—Ö. –ß–µ—Ä—Ç–∏–ª–∏ –∫–ª–µ—Ç–æ—á–∫–∏ –Ω–∞ –ø—É—Å—Ç—ã—Ö –ø–∞—á–∫–∞—Ö, –Ω–∞ –æ–±—Ä—ã–≤–∫–∞—Ö –≥–∞–∑–µ—Ç, –Ω–∞ —Å–ø–∏—á–µ—á–Ω–æ–π –∫–æ—Ä–æ–±–∫–µ. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –°–∞—à–∫–æ –∂—É–ª—å–Ω–∏—á–∞–ª –∏ –≤—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —É–∫—Ä–∞–∏–Ω—Å–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –≤—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –Ω–∞—É—á–Ω—ã–µ.
–°–≤–µ—Ç –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –≥–æ—Ä–µ–ª —Ü–µ–ª—ã–µ —Å—É—Ç–∫–∏. –û—Ç–∫–ª—é—á–∞–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –≤–æ –≤—Å—ë–º –ë–∞–º—É—Ç–µ. –î–Ω–µ–≤–Ω–æ–π —Å–≤–µ—Ç –º—ã –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∏. –í –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —Å—Ç–µ–Ω—ã, –ø–æ–¥ –ø–æ—Ç–æ–ª–∫–æ–º, –±—ã–ª–æ –∫—Ä—É–≥–ª–æ–µ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ –æ—Ç–¥—É—à–∏–Ω—ã. –ù–æ –æ–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –ø—Ä—è–º—ã–º. –î–Ω–µ–≤–Ω–æ–π —Å–≤–µ—Ç –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–æ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã —Ç—Ä—É–±—ã. –î–∞–ª—å—à–µ — –æ–Ω–∞ –∏–∑–≥–∏–±–∞–ª–∞—Å—å. –î–æ –Ω–∞—Å –¥–æ–Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å —É–ª–∏—á–Ω—ã–µ –∑–≤—É–∫–∏. –û–Ω–∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –∏–∑ –±–ª–µ—è–Ω–∏—è –æ–≤–µ—Ü, –º—ã—á–∞–Ω–∏—è –∫–æ—Ä–æ–≤ –∏ —à—É–º–∞ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—è –∏–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–≤—à–µ–π –º–∞—à–∏–Ω—ã.
–ù–∞ –ø—è—Ç—ã–π –¥–µ–Ω—å —Å–∏–¥–µ–Ω–∏—è –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ –°–∞—à–∫–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤—ë–ª –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—é –Ω–∞ –º–æ–µ–π —è–≥–æ–¥–∏—Ü–µ. –û–Ω –∏–∑–≤–ª—ë–∫ –∏–∑ —Ä–∞–Ω—ã –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–π —à–∞—Ä–∏–∫ –ª–æ–∫–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –±–æ–ª–µ–∑–Ω–∏. –í —è–≥–æ–¥–∏—Ü–µ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –≤–º—è—Ç–∏–Ω–∞. –¢–∞–∫ —è —Å—Ç–∞–ª –∑–¥–æ—Ä–æ–≤.
–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å —É –Ω–∞—Å –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–∞—Å—å –ø–∞—Ä–∞—à–∞. –•–æ–∑—è–∏–Ω –≤—ã–∑–≤–∞–ª —Ä–µ–±—è—Ç –∏–∑ –ø—Ä–æ–¥–∞—é—â–µ–π –Ω–∞—Å –±—Ä–∏–≥–∞–¥—ã. –ù–æ—á—å—é, –ø–æ–¥ –ø—Ä–æ–ª–∏–≤–Ω—ã–º –¥–æ–∂–¥—ë–º, –ø–æ–¥ –¥—É–ª–∞–º–∏ –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–æ–≤ –∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–≤, –æ–±–ª–∏–≤–∞—è—Å—å –ø–æ—Ç–æ–º, –¥–∞ –µ—â—ë –∏ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∏–º—ã–º –ø–∞—Ä–∞—à–∏, –º—ã –≤—ã–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –µ—ë –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –û–ø–æ—Ä–æ–∂–Ω–∏–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–µ. –¢–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–º —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å, —á—Ç–æ –æ—Ç–¥—É—à–∏–Ω–∞ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –ø–æ–¥ –∫–æ—Ä—ã—Ç–æ –¥–ª—è –≤–æ–¥–æ–ø–æ—è —Å–∫–æ—Ç–∞. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –±–µ—Å–ø–æ–ª–µ–∑–Ω–∞—è –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—è. –ï—â–µ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –≤—ã—Å–æ–∫–æ–≤–æ–ª—å—Ç–Ω—É—é –≤—ã—à–∫—É –≤ —Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –æ—Ç –¥–æ–º–∞ –∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–∫-–∫–∞—á–∞–ª–∫—É –Ω–µ—Ñ—Ç—è–Ω–æ–π —Å–∫–≤–∞–∂–∏–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º–µ–ª—å–∫–Ω—É–ª –≤ —Å–≤–µ—Ç–µ —Ñ–∞—Ä –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–≤—à–µ–π –º–∏–º–æ –Ω–µ–≥–æ –º–∞—à–∏–Ω—ã.
–£—Ç—Ä–æ–º —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ –¥–Ω—è –º—ã –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª–∏—Å—å –æ—Ç —É–¥–∞—Ä–æ–≤ –≥—Ä–æ–º–∞. –í —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –º–∏–Ω—É—Ç –ø–æ–Ω—è–ª–∏, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ –≥—Ä–æ–º. –≠—Ç–æ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –≤–æ–µ–Ω–Ω–∞—è —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∞—è –∞–≤–∏–∞—Ü–∏—è. –ë–æ–º–±–∏–ª–∏ —á–∞—Å—Ç–æ –∏ –º–Ω–æ–≥–æ. –ü–æ—Å–ª–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤ –ø–æ–≥–∞—Å —Å–≤–µ—Ç. –í —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –µ–¥—ã –Ω–∞–º –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å.
–ù–æ—á—å—é —Å–≤–µ—Ç —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–≥–æ—Ä–µ–ª—Å—è. –Ý–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º –ø—Ä–∏—à—ë–ª —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –¥–æ–º–∞. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ, –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –µ–≥–æ —Ä—É–∫–∞. –Ý—É–∫–∞ –¥–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∞, —á—Ç–æ –±–æ–º–±—è—Ç –Ω–µ—Ñ—Ç—è–Ω—ã–µ —Å–∫–≤–∞–∂–∏–Ω—ã. –û–∫–æ–ª–æ –¥–µ–≤—è—Ç–∏ —É—Ç—Ä–∞ –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∏ –≤–æ–∑–æ–±–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —Å –Ω–æ–≤–æ–π —Å–∏–ª–æ–π. –®—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ü–µ–ª—å –∫–∞–∂–¥—É—é –º–∏–Ω—É—Ç—É. –í–æ –¥–≤–æ—Ä–µ –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö—É –º—ã —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –ø–ª–∞—á –∏ –ø—Ä–∏—á–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω. –ì—Ä–µ–º–µ–ª–∏ –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ —è—â–∏–∫–∏. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —Ö–æ–∑—è–∏–Ω —ç–≤–∞–∫—É–∏—Ä–æ–≤–∞–ª —Å–µ–º—å—é.
–ò –æ–ø—è—Ç—å –¥–≤–æ–µ —Å—É—Ç–æ–∫ –Ω–∞—Å –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∫–æ—Ä–º–∏–ª. –ù–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–∏ —Å—É—Ç–∫–∏ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –≤—Å—ë –∂–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∏ —Å—É–Ω—É–ª –Ω–∞–º –∫–∞—Å—Ç—Ä—é–ª—é —Å –≥–æ—Ä—è—á–∏–º–∏, –Ω–æ –∫–∏—Å–ª—ã–º–∏ —â–∞–º–∏. –Ø —â–∏ –µ—Å—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª. –°–∞—à–∫–æ –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª —Ö–ª–µ–±–∞—Ç—å.
–ê –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å –≤—Ç–æ—Ä–∞—è –Ω–µ–¥–µ–ª—è –º–æ–µ–≥–æ —Å–∏–¥–µ–Ω–∏—è –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ, –º—ã —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –¥–æ–º–∞ –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞. –°–∞—à–∫–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ—á–Ω–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª –ø–æ –∑–≤—É–∫—É –¥–∂–∏–ø –±—Ä–∞—Ç–≤—ã. –£–ª—ã–±—á–∏–≤—ã–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª –∫ –Ω–∞–º –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ù—É, —á—Ç–æ, —Ä–µ–±—è—Ç–∞, —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç —Å–∏–¥–µ—Ç—å. –ù–∞–¥–µ–≤–∞–π—Ç–µ —Å–≤–æ–∏ —à–∞–ø–æ—á–∫–∏ –∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç–µ.
–ú—ã –Ω–∞—Ç—è–Ω—É–ª–∏ —à–∞–ø–æ—á–∫–∏ –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ –∏ –ø–æ–ª–µ–∑–ª–∏ –∏–∑ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–∞. –°–µ–ª–∏ –≤ –¥–∂–∏–ø –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ. –ù–∞—Å —Å–∫–æ–≤–∞–ª–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ –æ–¥–Ω–∏–º–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏. –ú–µ–Ω—è — –∑–∞ –ª–µ–≤—É—é —Ä—É–∫—É, –°–∞—à–∫–æ — –∑–∞ –ø—Ä–∞–≤—É—é. –í–µ–∑ –Ω–∞—Å –æ–¥–∏–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ —à–æ—Ñ—ë—Ä. –¢–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π, —É–ª—ã–±—á–∏–≤—ã–π.
— –í–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –æ—Ç–≤–µ–∑—ë–º –≤–∞—Å –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω, — –¥–∞–¥–∏–º –¥–µ–Ω–µ–≥, —á—Ç–æ–±—ã –¥–æ –¥–æ–º—É –¥–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ — –∏ –¥–æ —Å–≤–∏–¥–∞–Ω–∏—è.
–ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –æ–Ω —Å—É–Ω—É–ª –Ω–∞–º –ø–æ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç —Ä—É–±–ª–µ–π.
— –¢–∞–º –µ—â—ë –¥–∞–¥—É—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –≠—Ç–æ –≤–∞–º –Ω–∞ –º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–æ–µ.
–í–æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –º—ã —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å. –ù–æ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–Ω–æ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å. –ù–∞–¥–µ–∂–¥–∞. –û–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏—Å–∫–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –Ω–∞—Å —á–µ—Ä–µ–∑ –ª—é–±—É—é –ª–∞–∑–µ–π–∫—É –∏ –ø–æ–∫–∏–¥–∞–µ—Ç —Å –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –≤–∑–¥–æ—Ö–æ–º.
— –ê –∫–∞–∫ –∂–µ –º—ã –ø–æ–µ–¥–µ–º –±–µ–∑ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –°–∞—à–∫–æ.
— –î–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã? — —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª—Å—è —à–æ—Ñ–µ—Ä. — –ê –≤–æ—Ç –º—ã —Å–µ–π—á–∞—Å –∏ –µ–¥–µ–º –∑–∞ –≤–∞—à–∏–º–∏ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–∞–º–∏.
— –ß—Ç–æ –∂–µ —Ç–∞–∫–æ–µ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤—ã –Ω–∞—Å –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞–µ—Ç–µ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –í–æ–π–Ω–∞, — –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ –∏ –≤–µ—Å–µ–ª–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. — –í–∏–¥–∏—à—å, –≤–æ–π–Ω–∞ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å. –ö–æ–Ω–µ—Ü –Ω–∞—à–µ–º—É –±–∏–∑–Ω–µ—Å—É. –ö—Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –∫—Ä–æ–º–µ –Ω–∞—Å, –±—É–¥–µ—Ç –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å?
–° —à–æ—Å—Å–µ –º—ã —Å—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –ø–æ–ª–µ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –≤–æ–∑–ª–µ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —Å—Ç–æ–≥–∞ —Å–µ–Ω–∞. –ñ–¥–∞–ª–∏ –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ. –®–æ—Ñ–µ—Ä –≤—Ä—É–±–∏–ª –Ω–∞–º –Ω–∞ –ø–æ–ª–Ω—É—é –∫–∞—Ç—É—à–∫—É –º—É–∑—ã–∫—É. –ù–µ–ª—å–∑—è —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —è —Å–∫—É—á–∞–ª –ø–æ –¥–µ—à—ë–≤–æ–º—É —à–∞–Ω—Å–æ–Ω—É –∏ –ø–æ–ø—Å–µ, –Ω–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ. –ù–µ –º—É–∑—ã–∫–∞ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–∞. –ü—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ –ø—Ä–∏–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ –∫ —Ü–∏–≤–∏–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏. –ü–æ–∫–∞ –º—ã —Ç–∞–º —Å—Ç–æ—è–ª–∏, —à–æ—Ñ—ë—Ä —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª —Å–Ω—è—Ç—å —à–∞–ø–æ—á–∫–∏ –∏ –¥–∞–ª –Ω–∞–º –ø–æ –∞–ø–µ–ª—å—Å–∏–Ω—É. –ë–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –∏ –≤ –≤–æ–π–Ω—É —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∂–∏–≤—É—Ç.
–°–∫–æ—Ä–æ —à–æ—Ñ—ë—Ä —á—Ç–æ-—Ç–æ —É—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ú—ã –∑–∞–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ —Å–µ–ª–æ, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–∂–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ–º–∞–º–∏ –∫ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ. –ü–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –Ω–∞ –æ–±–æ—á–∏–Ω–µ. –í –º–∞—à–∏–Ω—É —Å–µ–ª —Ö–º—É—Ä—ã–π –±–æ–µ–≤–∏–∫. –Ø —Å—Ä–∞–∑—É —É–∑–Ω–∞–ª –µ–≥–æ. –û–Ω –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≤ —Å–∞–º—ã–π –ø–µ—Ä–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å, –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –µ—â–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —É–∂–µ –ø–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏.
–ï—Ö–∞–ª–∏ –æ–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞ –ø–æ –æ–∂–∏–≤–ª—ë–Ω–Ω–æ–º—É —à–æ—Å—Å–µ. –ü–æ—Ç–æ–º –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –±–æ–ª—å—à–æ–µ —Å–µ–ª–æ. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –æ–∫–æ–ª–æ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –¥–æ–º–æ–≤. –ú–µ–Ω—è –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –æ—Ç –°–∞—à–∫–æ –∏ —É–≤–µ–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –ú—ã –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–ø—Ä–æ—â–∞–ª–∏—Å—å. –°–∞—à–∫–æ —É–≤–µ–∑–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –ê –º–µ–Ω—è –∑–∞–≤–µ–ª–∏ –≤ –¥–æ–º, –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª —É –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏, —Å–Ω—è–ª–∏ —à–∞–ø–æ—á–∫—É –∏ –¥–∞–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—É—é —á–∞—à–∫—É —á—ë—Ä–Ω–æ–≥–æ –º–µ–ª–∫–æ–≥–æ –≤–∏–Ω–æ–≥—Ä–∞–¥–∞. –ñ–µ—Å—Ç –±—ã–ª –Ω–µ —Ü–∞—Ä—Å–∫–∏–π. –≠—Ç–æ—Ç –≤–∏–Ω–æ–≥—Ä–∞–¥ –æ–ø–ª–µ—Ç–∞–ª –≤—Å–µ –¥–≤–æ—Ä—ã –ß–µ—á–Ω–∏.
–ë–æ–µ–≤–∏–∫ — —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –¥–æ–º–∞ — —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–º —É–≥–ª—É –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã —É –æ–∫–Ω–∞.
— –¢—ã, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω, — –º–æ–ª—á–∏, —á—Ç–æ —Å–±–µ–∂–∞–ª –æ—Ç –ú—É—Å—ã. –ú—ã —Ç–æ–∂–µ –±—É–¥–µ–º –º–æ–ª—á–∞—Ç—å. –ê —Ç–æ —Ä–µ–±—è—Ç–∞ –æ—Å–µ—Ä—á–∞—é—Ç, –∏ –±—É–¥–µ—Ç –ø–ª–æ—Ö–æ.
–Ø —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∫–∏–≤–∞–ª –≤ –æ—Ç–≤–µ—Ç. –¢–∞–∫–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –º–µ–Ω—è –æ—á–µ–Ω—å —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª–æ. –ß–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –≤—ã–≤–µ–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –ø–æ–¥ –Ω–∞–≤–µ—Å–æ–º. –í–æ–∫—Ä—É–≥ —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ª—é–¥–∏, –∫–ª–∞—Ü–∞–ª–∏ –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º, –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è.
–í–æ –¥–≤–æ—Ä –≤–æ—à—ë–ª –ø–æ–ª–µ–≤–æ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ä–∞–∑—É –≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω — –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä. –ê–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω—ã–π, –ø–æ–¥—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–π, —Å–æ «–°—Ç–µ—á–∫–∏–Ω—ã–º» —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–ª–µ—á–æ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤, –æ–Ω –∂–µ –ö—é—Ä–∏ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π — –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –±—ã–≤—à–µ–π –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–π –≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –î—É–¥–∞–µ–≤–∞. –û–Ω –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, —É–ª—ã–±–Ω—É–ª—Å—è –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏:
— –û–¥–µ—Ç—å –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∫–∏. –ò –¥–∞–π—Ç–µ –µ–º—É –≤ —Ä—É–∫–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç.
–í–º–µ—Å—Ç–æ —à–∞–ø–æ—á–∫–∏ –º–Ω–µ –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—É –Ω–∞–¥–µ–ª–∏ –≤–æ–π—Å–∫–æ–≤—É—é –ø–∞–Ω–∞–º—É. –î–∞–ª–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –±–µ–∑ —Ä–æ–∂–∫–∞ –∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É. –ï—Ö–∞–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –í—Å–µ–≥–æ –ø–∞—Ä—É –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–æ–≤. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å —É –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ —á–∞—Å—Ç–Ω—ã—Ö –¥–æ–º–æ–≤. –Ý—è–¥–æ–º –±—ã–ª–∏ –∏ –¥–≤—É—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω—ã–µ. –ú—ã –≤–æ—à–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä.
— –ü–æ –¥–≤–æ—Ä—É –ø—Ä–æ–π–¥—ë—à—å —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –º–Ω–µ —Å–∑–∞–¥–∏. — –í–æ–π–¥—ë—à—å –≤ –¥–æ–º — –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—à—å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç —Å–ø—Ä–∞–≤–∞.
–Ø –≤—Å—ë —Ç–∞–∫ –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª. –í–æ–π–¥—è –≤ –¥–æ–º, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø—è—Ç–µ—Ä—ã—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –í—Å–µ –æ–Ω–∏ —É–ª—ã–±–∞–ª–∏—Å—å.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–¥–∏–Ω –∏—Ö –Ω–∏—Ö, — —Ö–æ—á–µ—à—å —Å—é—Ä–ø—Ä–∏–∑?
–Ø —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∂–∞–ª –ø–ª–µ—á–∞–º–∏. –í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –≤—ã—à–ª–∞ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. –û–Ω–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Ö—É–¥–µ–ª–∞. –í –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–æ–º –ø–ª–∞—Ç–æ—á–∫–µ, –≤ –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–π —é–±–∫–µ –∏ –±–µ–∑ –º–∞–∫–∏—è–∂–∞ –æ–Ω–∞ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª–∞ –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ. –í–∏–¥–∏–º–æ, –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª –∏ —è. –ú—ã –æ–±–Ω—è–ª–∏—Å—å. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω–∞—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞. –£–ª—ã–±–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –®—ë–ª —Å–æ—Ç—ã–π –¥–µ–Ω—å –Ω–∞—à–µ–≥–æ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–ª–µ–Ω–∞.
–ú–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∫–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –Ω–∞—Å –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏, –±—ã–ª–∞ —Ç—ë–º–Ω–æ–π. –ï–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –æ–∫–Ω–æ –≤ –Ω–µ–π –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω—é. –ü–æ–¥ –æ–∫–Ω–æ–º –±–∞—Ç–∞—Ä–µ—è –æ—Ç–æ–ø–ª–µ–Ω–∏—è, –∫ —Ç—Ä—É–±–µ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è –±—ã–ª –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ —Å–æ —Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º –ø–æ–ª—É–º–µ—Ç—Ä–æ–≤—ã–º —Ç—Ä–æ—Å–æ–º. –¢–∞–∫–∏–º –∂–µ –ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–æ–±–ª–µ–Ω–∏–µ–º –°–≤–µ—Ç–∞ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç–∞ –∫ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏. –£ –º–µ–Ω—è –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ë—ã–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü –∏ –ø–æ–¥—É—à–∫–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª—É —É –±–∞—Ç–∞—Ä–µ–∏.
–í –¥–æ–º–µ, –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–∞—Ä–æ–¥. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å–∏–¥–µ–ª–∏, —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏, –º–æ–ª–∏–ª–∏—Å—å, —Å–ª—É—à–∞–ª–∏ –º—É–∑—ã–∫—É. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ — –ê–ª—Å—É. –ê—Ö, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –ª—é–±–∏–ª–∏ —Å–≤–æ—é –∑–µ–º–ª—è—á–∫—É! «–í —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç—ã –º–Ω–µ –ø—Ä–∏—Å–Ω–∏–ª—Å—è, —è –≤—Å—ë –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª–∞ —Å–∞–º–∞. –ù–∞ –∑–µ–º–ª—é —Ç–∏—Ö–æ –æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∑–∏–º–∞». –°–ª–æ–≤–∞ –∏ –º–µ–ª–æ–¥–∏—è —ç—Ç–æ–π –ø–µ—Å–Ω–∏ –ø—Ä–æ–µ–ª–∏ –º–æ–∑–≥–∏. –° –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å—é –≤ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –æ—Ç—ã—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∏ –µ—ë –Ω–∞ –∫–∞—Å—Å–µ—Ç–µ –∏ —Å–ª—É—à–∞–ª–∏. –°–≤–µ—Ç–∞ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –º–Ω–µ –æ —Å–≤–æ–∏—Ö –∑–ª–æ–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è—Ö –∑–∞ —ç—Ç–∏ —Å—Ç–æ –¥–Ω–µ–π.
–ï—ë –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∏ –≤ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–æ —Å—Ç–æ—è—â–∏—Ö –¥–æ–º–æ–≤ –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ –°–∞–º–∞—à–µ–∫. –ü–µ—Ä–≤—ã–º –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–µ—é –≤–æ –≤—Å—ë–º —á—ë—Ä–Ω–æ–º –∏ –≤ —á—ë—Ä–Ω–æ–π –º–∞—Å–∫–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–ª –õ–µ—á–æ –•—Ä–æ–º–æ–π. –û–Ω —Å—Ç—Ä–∞—â–∞–ª –µ—ë, –∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –∫ —Å–µ–±–µ –Ω–∞ –Ω–æ—á—å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏. –°–∫–ª–æ–Ω—è–ª –∫ —Å–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É, –Ω–æ, –ø–æ–ª—É—á–∏–≤ —Ä–µ—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –æ—Ç–∫–∞–∑, —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –æ–±—è–∑–∞–Ω–∞ —Ç–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –æ–±—Å–ª—É–∂–∏–≤–∞—Ç—å –≤—Å–µ—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤.
–Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞, –∫–∞–∫ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ –≤–æ–∑–∏–ª–∏ –µ—ë –ø–æ–º—ã—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ä–µ—á–∫—É. –ù–æ—á—å—é. –ö–∞–∫ –∏ —á–µ–º –∫–æ—Ä–º–∏–ª–∏. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –æ–Ω–∞ –µ—â–µ –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏–ª–∞ –¥–æ–º–æ–π, —Ö–æ—Ç—è —É –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä—è–º–∞—è –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –¥–∞—Ç—å –µ–π –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏—Ç—å. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, –æ–Ω–∏ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ —Ç—è–Ω—É–ª–∏ –≤—Ä–µ–º—è, —á—Ç–æ–±—ã —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –¥–æ–∑—Ä–µ–ª–∏.
–ü–µ—Ä–≤—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —è —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª, –±—ã–ª –ê–Ω—á–∏–∫. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —ç—Ç–æ –∏–º—è —É–º–µ–Ω—å—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ. –ù–æ —Ç–∞–∫ –µ–≥–æ –∑–≤–∞–ª–∏ –≤—Å–µ. –ê–Ω—á–∏–∫—É –æ–∫–æ–ª–æ –≤–æ—Å–µ–º–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –ª–µ—Ç. –û–Ω –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª —à–∫–æ–ª—É. –ú–ª–∞–¥—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç –≤ —Å–µ–º—å–µ. –î–æ–±—Ä–æ–¥—É—à–Ω—ã–π, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π, –æ—Ç–∑—ã–≤—á–∏–≤—ã–π. –ü—Ä–∏–Ω—ë—Å –º–Ω–µ –Ω–æ–≤—É—é –æ–¥–µ–∂–¥—É. –ù–æ–≤—É—é — –≤ —Å–º—ã—Å–ª–µ, –¥–ª—è –º–µ–Ω—è. –ü–æ–Ω–æ—à–µ–Ω–Ω—É—é, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ. –ö–ª–µ—Ç—á–∞—Ç–∞—è —Ä—É–±–∞—à–∫–∞ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –ø—Ä–æ—à–ª–∞ —Å–æ –º–Ω–æ—é –≤—Å–µ –∑–ª–æ–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è: –∏ –∑–∞–≤—à–∏–≤–ª–∏–≤–∞–Ω–∏–µ, –∏ –≤—ã–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞–Ω–∏–µ, –∏ –¥–∞–∂–µ —Å–æ–∂–∂–µ–Ω–∏–µ.
–°–∞–º –ê–Ω—á–∏–∫ –≤ —ç—Ç–æ–º –¥–æ–º–µ –Ω–µ –∂–∏–ª. –ù–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –¥–æ–º –µ–≥–æ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–π, –∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –ø–æ –ø—Ä–∞–≤—É –º–ª–∞–¥—à–µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞, –µ–≥–æ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–µ–º —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –ê–Ω—á–∏–∫. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –±—Ä–∞—Ç—å—è –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ —Å–∞–º–∏ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ –¥–æ–º–∞.
–ú—ã –ø–∏—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –ø–æ–µ–¥—è—Ç –≤—Å–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏. –ó–∞ —Ç–µ–º –∂–µ —Å—Ç–æ–ª–æ–º. –ù–∞ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏—ë–º–∞ –ø–∏—â–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ —Å –Ω–∞—Å —Å–Ω–∏–º–∞–ª–∏.
–°—Ä–µ–¥–∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –¥–æ—Å–∞–∂–¥–∞–ª –Ω–∞–º –ó—É–±. –≠—Ç–æ –∫–ª–∏—á–∫–∞. –ó—É–± –∫–æ–ª–æ–ª—Å—è –Ω–∞—Ä–∫–æ—Ç–∏–∫–∞–º–∏ –∏–ª–∏ –∫—É—Ä–∏–ª. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –ø—å—è–Ω –æ–Ω –±—ã–≤–∞–ª —á–∞—Å—Ç–æ, –∞ –≤–æ—Ç –∑–∞–ø–∞—Ö–∞ —Å–ø–∏—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –í —Å–≤–æ—é —Å–º–µ–Ω—É –æ–Ω —á–∞—Å—Ç–æ —É–≤–æ–¥–∏–ª –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É –≤ –¥—Ä—É–≥—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É –∏ –æ —á—ë–º-—Ç–æ —Ç–∞–º –æ–Ω–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏. –°–æ –º–Ω–æ—é –ó—É–± —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ. –°—Ç–∞–ª –≤—ã—Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å –æ –º–æ–µ–π –Ω–∞–∫–æ–ª–∫–µ –Ω–∞ –ª–µ–≤–æ–º –∑–∞–ø—è—Å—Ç—å–µ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–∞ —Å–∫—Ä—ã—Ç–∞ —á–∞—Å–∞–º–∏, –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å –µ—ë –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–æ–≤–æ–µ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ –¥–ª—è –∞–±–±—Ä–µ–≤–∏–∞—Ç—É—Ä—ã –í–£ –í–í–°. –°–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–ª—É–∂–∏–ª –≤ —É–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏ —Å–≤—è–∑–∏ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ-–≤–æ–∑–¥—É—à–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª. –ß—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç—å –º–æ–∏ –ø–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏—è –≤ —Å–≤—è–∑–∏, –ó—É–± –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –≤–æ–π—Å–∫–æ–≤—É—é —Ä–∞–¥–∏–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏—é –±–µ–∑ –∞–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä–æ–≤. –í–µ–ª–µ–ª —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Ä–∞–¥–∏–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏—è –±–µ–∑ –ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –Ω–µ —Å–º–æ–∂–µ—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å. –ó—É–± –ø—Ä–∏–≤–æ–ª–æ–∫ –∏ –∞–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä—ã. –ù–æ –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –µ–º—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —É–Ω–µ—Å—Ç–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è—Ö –µ—ë –≤–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—á—É. –ü—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø—ã —Ä–∞–¥–∏–æ–ø–µ–ª–µ–Ω–≥–∞—Ü–∏–∏ –ó—É–± —É—Å–≤–æ–∏–ª –∑–∞ –¥–µ—Å—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç.
–ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ —ç—Ç–∞ —Ä–∞–¥–∏–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏—è –±—ã–ª–∞ –Ω–µ –Ω—É–∂–Ω–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º. –û–Ω–∏ –≤–æ–≤—Å—é –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ—Ä—Ç–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –∏–º–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–µ —Ä–∞–¥–∏–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏. –ü–æ–∫–æ–Ω—á–∏–≤ —Å –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∫–æ–π –º–æ–∏—Ö –ø–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–π –≤ –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏ —Å–≤—è–∑–∏, –ó—É–± —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –¥–æ–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å. –ï–º—É —ç—Ç–æ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å. –û–Ω –Ω–∞ —Ö–æ–¥—É –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞–ª –±–∞–π–∫—É –æ –º–æ–µ–π —Å–≤—è–∑–∏ —Å –§–°–ë –∏ —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–ª –µ—ë, –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è –º–µ–Ω—è –æ—Ç–≤–µ—á–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–ª–µ–ø—ã–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã. –î–µ–∂—É—Ä—Å—Ç–≤–æ –ó—É–±–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –¥–ª—è –Ω–∞—Å –ø—ã—Ç–∫–æ–π. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –æ—Ç –º–µ–Ω—è –æ–Ω –æ—Ç—Å—Ç–∞–ª –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ —è –±–µ–∂–∞–ª –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö –æ—Ç –ú—É—Å—ã. –ö –º–æ–µ–º—É —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é, —ç—Ç–æ –≤—ã–∑–≤–∞–ª–æ —É –≤—Å–µ—Ö, –∞ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —É –ó—É–±–∞ —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏—é —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏—è –∫–æ –º–Ω–µ.
–ó—É–±–∞ –º–µ–Ω—è–ª –°–∞–∏–¥. –°–∞–∏–¥ –±—ã–ª —Ñ—É—Ç–±–æ–ª–∏—Å—Ç–æ–º. –í—ã—Å–æ–∫–∏–π –∏ —Å—Ç–∞—Ç–Ω—ã–π —Å–ø–æ—Ä—Ç—Å–º–µ–Ω –æ—á–µ–Ω—å –ª—é–±–∏–ª –ø–æ–∂—Ä–∞—Ç—å. –° –∫–∞–∂–¥—ã–º –¥–Ω—ë–º –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –≤—Å—ë –∏–Ω—Ç–µ–Ω—Å–∏–≤–Ω–µ–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ –æ–∫–Ω–æ–º, –±–æ–ª—å—à–µ —á–µ–º –Ω–∞ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã–º –±—É–º–∞–≥–æ–π, –≤ —â–µ–ª–∏ –±—ã–ª –≤–∏–¥–µ–Ω –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –° —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —á–∞—Å—Ç–æ –¥–æ–Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –∑–≤—É–∫–∏ —Å–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å –º–∞—à–∏–Ω—ã –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–≥–æ –ª–∏—Å—Ç–∞. –ì–¥–µ-—Ç–æ —Ç–∞–º, —É —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞, –±—ã–ª–∏ –∏ –±–æ–µ–≤—ã–µ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤.
— –°–∞–∏–¥, — —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª —è, — –∑–¥–µ—Å—å –¥–æ –ª–∏–Ω–∏–∏ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–∞ –Ω–µ –¥–∞–ª–µ–∫–æ?
— –î–∞, –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –æ–Ω.
— –ê —á—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç –¥–æ–π–¥—ë—Ç —Å—é–¥–∞.
— –î–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–∞–º –Ω–∞–¥–æ –≤–∑—è—Ç—å —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –µ—â—ë –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è —á–µ—Ä–µ–∑ –°—É–Ω–∂—É, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω. — –ê –∫—Ç–æ –∏—Ö –ø—É—Å—Ç–∏—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –°—É–Ω–∂—É!?
–ï–≥–æ –≤–æ—Å—Ç–æ—Ä–≥–æ–≤ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–∏–ª –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —è –Ω–µ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è–ª, –Ω–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –º–æ–ª—á–∞—Ç—å. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, —è –≤—Å—ë –±–æ–ª—å—à–µ —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è–ª—Å—è –≤ –º–Ω–µ–Ω–∏–∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è –ø—Ä—è–º–æ –≤ –æ—Ç—Ä—è–¥–µ, –Ω–∞ –±–∞–∑–µ, –∏, —Å —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª, –ø–æ–¥–ª–µ–∂–∏–º —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏—é. –≠—Ç–æ –Ω–µ —Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–æ.
–°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –≤ –Ω–µ–±–µ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ. –° —Ä–∞–Ω–Ω–µ–≥–æ —É—Ç—Ä–∞ –∏ –¥–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞. –û–Ω–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –∏ –∑–∞ —Ö—Ä–µ–±—Ç–æ–º, –∏ –ø–æ –Ω–µ–º—É, –∏ –ø–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–º –∂–∏–ª—ã–º –∫–≤–∞—Ä—Ç–∞–ª–∞–º. –í–∑—Ä—ã–≤—ã –≤—Å—ë —á–∞—â–µ –∑–≤—É—á–∞–ª–∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ –æ—Ç –Ω–∞—Å.
–î–Ω–µ–º –æ—Ç—Ä—è–¥ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –ø–æ–¥ —Å–µ–±—è –≤–æ–µ–Ω–Ω—É—é —Ñ–æ—Ä–º—É. –ü–µ—Ä–µ—à–∏–≤–∞–ª–∏ —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫–∏ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π —Ñ–∏—Ä–º—ã. –ü—Ä–∏—à–∏–≤–∞–ª–∏ –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω—ã –¥–ª—è —Å–¥–≤–æ–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–Ω—ã—Ö —Ä–æ–∂–∫–æ–≤. –ü—Ä–∏–ª–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∏ –∫ —Ñ–æ—Ä–º–µ —à–µ–≤—Ä–æ–Ω—ã «–ü—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–∞—è –ì–≤–∞—Ä–¥–∏—è –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –î—É–¥–∞–µ–≤–∞». –ë–æ–ª—å—à–µ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö —Ö–æ—Ç–µ–ª –∏–º–µ—Ç—å —Ñ–æ—Ä–º—É –ê–Ω—á–∏–∫. –í —Å–∏–ª—É —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω –±—ã–ª –º–ª–∞–¥—à–∏–º –±—Ä–∞—Ç–æ–º, –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω—É –µ–≥–æ –Ω–µ –±—Ä–∞–ª–∏.
–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –º–Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –Ω–∏—Ç–∫—É —Å –∏–≥–æ–ª–∫–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã –∑–∞—à–∏—Ç—å –∫–∞—Ä–º–∞–Ω —Å–≤–æ–µ–π —Ä—É–±–∞—à–∫–∏ –∏ –¥—ã—Ä–∫—É –≤ –±—Ä—é–∫–∞—Ö. –£–≤–∏–¥–µ–≤, —á—Ç–æ —è –≤–ª–∞–¥–µ—é –∏–≥–ª–æ–π, –°–∞–∏–¥ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Å—à–∏—Ç—å –µ–º—É —á–µ—Ö–æ–ª –¥–ª—è —Ñ–ª—è–∂–∫–∏. –Ø —Å—à–∏–ª –µ–º—É —á–µ—Ö–æ–ª –∏–∑ –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π –ø–∞–Ω–∞–º—ã. –°–∞–∏–¥ –ø–æ—Ö–≤–∞—Å—Ç–∞–ª—Å—è –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º. –ü–æ—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –Ω–æ–≤—ã–µ –∑–∞–∫–∞–∑—ã. –Ø —à–∏–ª –∏ –¥—É–º–∞–ª: –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –ª–∏ —ç—Ç–æ? –í–µ–¥—å —è –æ–±—à–∏–≤–∞—é –≤—Ä–∞–≥–∞. –ù–æ –≤—Ä–∞–≥–∞ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ–π –æ–±—à–∏–≤–∞–ª–∞ –∏ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∞—è —Ñ–∏—Ä–º–∞, –∞ –∏–∂–µ–≤—Å–∫–∏–µ –æ—Ä—É–∂–µ–π–Ω–∏–∫–∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—ã. –ê –∫–∞–∫ –∂–µ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∞—Ç—å –≤—Ä–∞–∂–µ—Å–∫–∏–µ –±–∞–∑—ã, –Ω–æ –Ω–µ –∑–∞–¥–µ–≤–∞—Ç—å –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –º–∏—Ä–Ω—ã—Ö –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–π? –Ø —Å—á–∏—Ç–∞–ª —Å–µ–±—è –º–∏—Ä–Ω—ã–º –∂–∏—Ç–µ–ª–µ–º, –Ω–æ –º–∏—Ä–Ω–æ –∂–∏—Ç—å –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –Ω–∞ –±–∞–∑–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ö–∞–∫ –ª—ë—Ç—á–∏–∫—É –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∞—Ç—å –≤ —ç—Ç–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ? –í–æ–π–Ω–∞ — –¥–µ–ª–æ –≥–Ω—É—Å–Ω–æ–µ. –í —ç—Ç–æ–º —Ö–∏—Ç—Ä–æ—Å–ø–ª–µ—Ç–µ–Ω–∏–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥–æ–∫—Å–æ–≤ –º–æ–∂–Ω–æ –∑–∞–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∑–∞–ø—É—Ç–∞—Ç—å—Å—è, –µ—Å–ª–∏ –∑–∞–±—ã—Ç—å –æ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–º. –ê –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — —ç—Ç–æ –≤—ã–∂–∏—Ç—å –∏ –±–µ–∂–∞—Ç—å. –í –ø–ª–∞–Ω–µ –ø–æ–±–µ–≥–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –¥–∞–≤–∞–ª–∞ –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–∞: –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ —Å–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å; —Å–∞–º–æ —à–∏—Ç—å—ë –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω–µ, —É –æ–∫–Ω–∞ — –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å —Ö–æ—Ç—å —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ. –û–¥–Ω–∏—Ö —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ö–ª–æ–≤ –¥–ª—è —Ñ–ª—è–∂–µ–∫ —è —Å—à–∏–ª —à—Ç—É–∫ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å.
–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –ø—Ä–∏—à—ë–ª –õ–µ—á–æ –•—Ä–æ–º–æ–π –∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è, –º–æ–≥—É –ª–∏ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–æ–∂–Ω—ã –∫ –∫—Ä–∏–≤–æ–π —Å–∞–±–ª–µ. –°–∞–±–ª—è, –¥–ª–∏–Ω–æ—é –±–æ–ª–µ–µ –º–µ—Ç—Ä–∞, —Å—Ç–∞—Ä–∞—è, —Å –≤—ã—â–µ—Ä–±–ª–∏–Ω–∞–º–∏ –Ω–∞ –º–µ—Ç–∞–ª–ª–µ. –ù–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏—è –º–Ω–µ –õ–µ—á–æ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –¥–∞–ª, –Ω–æ, –º–µ–∂–¥—É –ø—Ä–æ—á–∏–º, –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª, —á—Ç–æ –º–Ω–µ –µ—â—ë –Ω–µ —Ä–∞–∑ –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è —Å –Ω–∏–º.
–°–∞–º–∞—è –±–æ–ª—å—à–∞—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –±—ã–ª–∞ —Å —Ñ–æ—Ä–º–æ–π –¥–ª—è –ê–Ω—á–∏–∫–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –æ–¥–µ–ª —Ç—É, —á—Ç–æ –µ–º—É –≤—ã–¥–∞–ª–∏ — —Å—Ç–∞—Ä—É—é —Ñ–æ—Ä–º—É —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞ — –ê–Ω—á–∏–∫ –≤ –Ω–µ–π —É—Ç–æ–Ω—É–ª. –ù–∞—á–∞–ª–∏ —É—à–∏–≤–∞—Ç—å. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –º–Ω–æ–≥–∏–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∫–æ –º–Ω–µ —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏—è–º–∏, –Ω–æ —É–∑–Ω–∞–≤, —á—Ç–æ —è —É—à–∏–≤–∞—é —Ñ–æ—Ä–º—É –ê–Ω—á–∏–∫–∞, –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –∏ —É–≤–∞–∂–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–∞–º–æ–ª–∫–∞–ª–∏. –ö–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ –ê–Ω—á–∏–∫—É –∏–º–µ–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ç—ç–π–ø–∞. –°–∞–º –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ, –∏ –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑ –æ–±–µ—â–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å—É—Ç —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω –∏ –Ω–∞–º —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è —Å–≤—è–∑–∞—Ç—å—Å—è —Å –¥–æ–º–æ–º. –Ø —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ:
— –û —á—ë–º —è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—É–¥—É –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å —Å –∂–µ–Ω–æ–π?
— –û –≤—ã–∫—É–ø–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω. — –°–∫–∞–∂–µ—à—å, —á—Ç–æ –∂–∏–≤-–∑–¥–æ—Ä–æ–≤ –∏ –ø—É—Å—Ç—å –≥–æ—Ç–æ–≤—è—Ç –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤.
— –ù–æ –º–æ–µ–π —Å–µ–º—å–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –Ω–∞–π—Ç–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö –¥–µ–Ω–µ–≥!
— –¢–æ–≥–¥–∞ –∑–≤–æ–Ω–∏ –Ω–µ –¥–æ–º–æ–π, –∞ —Ç–µ–º, —É –∫–æ–≥–æ —Ç–∞–∫–∏–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –µ—Å—Ç—å.
— –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — –≤—ã —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏—Ç–µ—Å—å –Ω–∞ —É—Å–ª–æ–≤–∏—è –ú—É–∫–æ–º–æ–ª–æ–≤–∞? –û–Ω –∂–µ —É–∂–µ —Å–µ–π—á–∞—Å –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–µ—Ç –∑–∞ –Ω–∞—Å –ø–æ 20 —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤.
— –ù–µ—Ç, —Ä–µ–±—è—Ç–∞, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π, — «–°—Ç–∏–Ω–≥–µ—Ä» —Å—Ç–æ–∏—Ç –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤. –í—ã –¥–≤–æ–µ — —ç—Ç–æ –¥–≤–∞ «–°—Ç–∏–Ω–≥–µ—Ä–∞». –ù–∞ –º–µ–Ω—å—à–µ–µ –º—ã –Ω–µ –ø–æ–π–¥—ë–º.
–¢–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –±—Ä–∞—Ç –ê–Ω—á–∏–∫–∞, –±–æ–µ–≤–∏–∫ –ª–µ—Ç —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏, —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –∏ –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω—ã–π. –Ý–∞–¥–∏–æ—Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –æ—Ç —Å–µ—Ç–∏. –ê–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä—ã –µ–≥–æ –¥–∞–≤–Ω–æ «—Å–¥–æ—Ö–ª–∏». –ù–æ–º–µ—Ä –±—ã–ª –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π. –¢–æ –µ—Å—Ç—å, –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –∫–æ–¥–æ–≤ –¥–ª—è –∑–≤–æ–Ω–∫–æ–≤ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤—É –Ω–∞–±–∏—Ä–∞—Ç—å –Ω–µ –Ω—É–∂–Ω–æ. –ù–∞–±—Ä–∞–ª–∏ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏–π —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω, –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª–∏ –µ–π —Ç—Ä—É–±–∫—É.
— –ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π –®—É–≤–∞–ª–æ–≤–∞! –í—ã —Ç–∞–º —á—Ç–æ, –æ—Ö.., –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç–µ –Ω–∞–π—Ç–∏ —Å—Ä–∞–Ω—ã–µ —Ç—Ä–∏ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –±–∞–∫—Å–æ–≤!? –ù–∞—Å —Ç—É—Ç —Å–∫–æ—Ä–æ —Ä–∞–∑–±–æ–º–±—è—Ç –Ω–∞ —Ö..!
–ù–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ —Å–≤—è–∑—å –ø—Ä–µ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å. –û—Ç–∫–ª—é—á–∏–ª–∏ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –≤ —Å–≤—è–∑–∏ —Å –±–æ–º–±—ë–∂–∫–æ–π. –Ý–µ—à–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ —Å–µ–∞–Ω—Å —Å–≤—è–∑–∏ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è –≤ –ø–æ–¥–∑–µ–º–Ω—ã–π –±—É–Ω–∫–µ—Ä. –ú—ã –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã «–≤–æ–∑–¥—É—Ö-–∑–µ–º–ª—è», –Ω–æ–≥–∏ –ø–æ–¥–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞–ª–∏. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å –Ω–∞–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫. –ò–≤–∞–Ω.
–ë–æ–ª—å—à–µ –ø–æ–∑–≤–æ–Ω–∏—Ç—å –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –≠–ª–µ–∫—Ç—Ä–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –∫—Ä—É–≥–ª—ã–µ —Å—É—Ç–∫–∏, –∞ –±—Ä–∞—Ç –ê–Ω—á–∏–∫–∞ –ø–æ–≥–∏–± –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –≤ –ù–∞–∑—Ä–∞–Ω—å, –∫—É–¥–∞ —ç–≤–∞–∫—É–∏—Ä–æ–≤–∞–ª —Å–µ–º—å—é. –í–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–¥–∞ –Ω–∞–¥ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏. –í—Å–µ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω –∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏ –≤ –∫—é–≤–µ—Ç—ã. –ê –æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Å—Ç–æ—è—Ç—å –Ω–∞ —à–æ—Å—Å–µ. –í–∑—Ä—ã–≤–æ–º –æ—Ç–æ—Ä–≤–∞–ª–æ –Ω–æ–≥—É. –ü–æ–∫–∞ –≤–µ–∑–ª–∏ –≤ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—É, —É–º–µ—Ä –æ—Ç –ø–æ—Ç–µ—Ä–∏ –∫—Ä–æ–≤–∏.
–ù–∞—á–∞–ª–æ –Ω–æ—è–±—Ä—è. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–º —É–¥–∞—ë—Ç—Å—è –ø–æ—Å–ª—É—à–∞—Ç—å —Ä–∞–¥–∏–æ. –° —É–∂–∞—Å–æ–º —É–∑–Ω–∞—ë–º –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–æ –±–æ–µ–≤—ã—Ö –≤—ã–ª–µ—Ç–æ–≤ –Ω–∞ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π. «–ö–∞–∫ –∂–µ —Ç–∞–º –≤—ã–∂–∏–≤–∞—é—Ç?» — –¥—É–º–∞–µ–º –º—ã, –Ω–µ –ø–æ–¥–æ–∑—Ä–µ–≤–∞—è –µ—â—ë, —á—Ç–æ —Å–∞–º–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –±–æ–º–±–∏—Ç—å —Å—Ç–∞–ª–∏ –∏ –Ω–æ—á—å—é.
–¢—Ä–µ—Ç—å–∏–º –≤ —Å–º–µ–Ω–∞—Ö –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª –ò–≤–∞–Ω. –≠—Ç–æ –∫–ª–∏—á–∫–∞. –ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –µ–≥–æ –∑–≤–∞–ª–∏ –ú—É—Å–ª–∏–º–æ–º. –°–≤–æ—é –∫–ª–∏—á–∫—É –æ–Ω –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –∑–∞ —É–º –∏ —Å–º–µ–∫–∞–ª–∫—É. –û–Ω –±—ã–ª –∏ —Å–∞–º—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º —Å—Ä–µ–¥–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —É–∂–µ –ø–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞ —Å–æ –º–Ω–æ–π, –æ–Ω —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ–≤–æ—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Ç–∞–∫–∏–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏. –° —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º —Å–ª—É—à–∞–ª —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã –æ–± –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–∏ –∏ –¥–µ–ª—å—Ç–∞–ø–ª–∞–Ω–µ—Ä–∏–∑–º–µ. –ò–≤–∞–Ω —Ö–æ—Ç–µ–ª –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—å –≤ –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç. –®–∫–æ–ª—É –∫ —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –æ–Ω —É–∂–µ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª. –ö–∞–∫ –∏ –≤—Å–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, –≤–µ—Ä–∏–ª –≤ –ê–ª–ª–∞—Ö–∞ –∏ —É—Å–µ—Ä–¥–Ω–æ –º–æ–ª–∏–ª—Å—è. –í–æ –≤—Ä–µ–º—è –±–æ–º–±—ë–∂–µ–∫ –æ–Ω –æ—Ç—Å—Ç—ë–≥–∏–≤–∞–ª –Ω–∞–º –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –≤–µ—Å—å–º–∞ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ —Å –µ–≥–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –û–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª:
— –ï—Å–ª–∏ –≤–¥—Ä—É–≥ –≤ –¥–æ–º –ø–æ–ø–∞–¥—ë—Ç –±–æ–º–±–∞, –∏ –æ–Ω –∑–∞–≥–æ—Ä–∏—Ç—Å—è, –∞ —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ –º–µ–Ω—è —Ä–∞–Ω–∏—Ç –∏–ª–∏ —É–±—å—ë—Ç, –≤–∞—Å –Ω–µ–∫–æ–º—É –±—É–¥–µ—Ç –æ—Ç—Å—Ç—ë–≥–∏–≤–∞—Ç—å –∏ —Å–ø–∞—Å–∞—Ç—å. –ê —Ç–∞–∫ — —Ö–æ—Ç—è –±—ã —Å–ø–∞—Å—ë—Ç–µ—Å—å —Å–∞–º–∏.
–í–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å–∞–º—ã—Ö –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–∏—Ö –±–æ–º–±—ë–∂–µ–∫, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤—Å–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø—Ä—è—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≤ –±–æ–º–±–æ—É–±–µ–∂–∏—â–µ, –æ–Ω –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –Ω–∞–º. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª –¥–∞–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–µ–∂—É—Ä–∏–ª–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ. –ò—Ö –æ–Ω –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª –≤ –±—É–Ω–∫–µ—Ä, –∞ —Å–∞–º –æ—Ç—Å—Ç—ë–≥–∏–≤–∞–ª –Ω–∞–º –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è –≤ –¥–æ–º–µ.
–í–æ –º–Ω–æ–≥–æ–º –∑–∞ —ç—Ç–æ —è –≤–µ—á–µ—Ä–∞–º–∏ —á–∏—Ç–∞–ª –µ–º—É –ª–µ–∫—Ü–∏–∏ –æ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –∞—Å—Ç—Ä–æ—Ñ–∏–∑–∏–∫–∏. –û–Ω —Å–ª—É—à–∞–ª –∏—Ö, –∫–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∫—É.
–ü–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—É—é—â–∏–π—Å—è –º–æ–∏–º–∏ –ø–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏—è–º–∏ –∏ —É–º–µ–Ω–∏—è–º–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –±—Ä–∞—Ç –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞ — –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–π –≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏. –î–æ–±—Ä–æ–¥—É—à–Ω—ã–π –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π –æ–Ω –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –¥–µ–ª–∞–ª –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏—è –ó—É–±—É –ø–æ –ø–æ–≤–æ–¥—É –µ–≥–æ –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è —Å –Ω–∞–º–∏. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª –¥–µ–∂—É—Ä–∏—Ç—å –≤–º–µ—Å—Ç–æ –ó—É–±–∞.
–í –Ω–æ—á—å —Å –ø—è—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞ —à–µ—Å—Ç–æ–µ –Ω–æ—è–±—Ä—è –º—ã –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ —Å–ø–∞–ª–∏. –ù–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–∞—è –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∞. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –∑–∞—Ö–æ–¥—è—Ç –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –Ω–∞—Å. –ö–æ–≥–¥–∞ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞–ª—Å—è, –º—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ –ø–æ –Ω–µ–º—É –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –æ–≥–æ–Ω—å –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–≤ –∏ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–æ–≤ –≥–¥–µ-—Ç–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ.
–®–µ—Å—Ç–æ–≥–æ –Ω–æ—è–±—Ä—è —Å –Ω–∞–º–∏ –±—ã–ª –°–∞–∏–¥. –û–Ω –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å —Å —Å–æ–±–æ–π –Ω–∞ –¥–µ–∂—É—Ä—Å—Ç–≤–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∫—É—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –ø–æ–π–º–∞–ª –∏ –æ–±–µ–∑–≥–ª–∞–≤–∏–ª –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ. –°–∞–∏–¥ —Å–≤–∞—Ä–∏–ª –∏—Ö. –ö–æ–≥–¥–∞ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª, –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –ª–∏ –æ–Ω –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª, —É–∫—Ä–∞–≤ —á—É–∂–∏—Ö –∫—É—Ä, –°–∞–∏–¥ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞ –¥–∞–≤–Ω–æ –ø–æ–∫–∏–Ω—É–ª–∏ –¥–æ–º–∞ –∏ –∫—É—Ä—ã —Å–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç –æ—Ç –≥–æ–ª–æ–¥–∞.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —É–∂–µ –Ω–µ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–∞—Å –Ω–∞–¥–æ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Å—Ç–∏ –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –¢—É–¥–∞, –≥–¥–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –±–æ–º–±—è—Ç. –ù–æ –Ω–∞ —ç—Ç–∏ –µ—ë —Å–ª–æ–≤–∞ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±—Ä–∞—Ç –ö—é—Ä–∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –æ–Ω–∏ –∏—â—É—Ç –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è –Ω–∞—à–µ–π —ç–≤–∞–∫—É–∞—Ü–∏–∏, –Ω–æ –¥–µ–ª–æ —ç—Ç–æ —Å–ª–æ–∂–Ω–æ–µ — –±–æ–º–±—è—Ç –≤—Å—é –ß–µ—á–Ω—é.
–°–µ–¥—å–º–æ–≥–æ –Ω–æ—è–±—Ä—è –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ–π. –í–∏–¥–∏–º–æ, –≤ —á–µ—Å—Ç—å –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∞. –ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é –ø—Ä–∏—à—ë–ª –±—Ä–∞—Ç –ö—é—Ä–∏ –∏ –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ –±–æ–µ–≤–æ–µ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª –∑–∞–ø–µ–≤–∞—Ç—å –±—Ä–∞–≤—É—Ä–Ω—ã–µ –ø–µ—Å–Ω–∏. –≠—Ç–æ –æ–Ω —Ç–∞–∫ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –Ω–∞—Å. –ü—Ä–∏–±–µ–∂–∞–ª –ò–≤–∞–Ω –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –≤—Å–µ –¥–æ–º–∞ –≤ –æ–∫—Ä—É–≥–µ –≤–æ—Ç –≤ —Ç–∞–∫–∏—Ö — –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—ã –∏–∑ –≥–≤–æ–∑–¥—è — —à—Ç—É—á–∫–∞—Ö. –ß—Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–∞–ø—Ä–µ—â—ë–Ω–Ω–æ–µ –∫–æ–Ω–≤–µ–Ω—Ü–∏–µ–π –æ—Ä—É–∂–∏–µ –¥–ª—è —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏—è –∂–∏–≤–æ–π —Å–∏–ª—ã –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∏–∫–∞. –ë–æ–º–±–∞, –Ω–∞—á–∏–Ω—ë–Ω–Ω–∞—è —ç—Ç–∏–º–∏ –≥–≤–æ–∑–¥–∏–∫–∞–º–∏, –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –∑–∞ –¥–µ—Å—è—Ç—å –æ—Ç –∑–µ–º–ª–∏. –ù–∞–º —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω–æ.
–ù–∞ –¥–∂–∏–ø–µ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π. –î–∂–∏–ø —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞–≥–Ω–∞–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –ø–æ–¥ –Ω–∞–≤–µ—Å, —á—Ç–æ–±—ã –µ–≥–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–µ–µ –±—ã–ª–æ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏—Ç—å —Å –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞. –ß–∞—Å—Ç—å –º–∞—à–∏–Ω—ã –≤—Å—ë –∂–µ —Ç–æ—Ä—á–∞–ª–∞ –∏–∑-–ø–æ–¥ –Ω–∞–≤–µ—Å–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ü–µ–ª—å. –°—Ç–∞–ª–æ –µ—â—ë —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–µ–µ. –ù–æ —Ç—É—Ç –Ω–∞–º –≤–µ–ª–µ–ª–∏ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å-—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –ù–∞—Å –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ –¥–∂–∏–ø–∞. –¢—É–¥–∞ –∂–µ —Å–µ–ª –º–ª–∞–¥—à–∏–π –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤. –ö—Ç–æ-—Ç–æ —Å—É–Ω—É–ª –≤ —Ä—É–∫–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø—Ä–∏—ë–º–Ω–∏–∫. –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å–µ–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏, —Ä—è–¥–æ–º —Å —à–æ—Ñ—ë—Ä–æ–º. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—É—Ç—å –∑–∞—Ç–∏—Ö–ª–∞ –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∞.
–¢–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã–µ–∑–∂–∞—è –∏–∑ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –ø–µ—Ä–µ—á—ë—Ä–∫–Ω—É—Ç—É—é —Ç–∞–±–ª–∏—á–∫—É «–ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π». –í —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –Ω–∞ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä—ë—Ö—Å–æ—Ç –±–æ–µ–≤—ã—Ö –≤—ã–ª–µ—Ç–æ–≤.
–î–æ–ª–≥–æ –µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≥–æ—Ä. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑, –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞—è –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –Ω–∞—Å–µ–ª—ë–Ω–Ω—ã–π –ø—É–Ω–∫—Ç, –º–∞—à–∏–Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–æ–π –¥–≤—É—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞. –ü–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞–ª—ë—Ç –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è, –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –í –®–∞—Ç–æ–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–π –±—ã–ª —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω –º–æ—Å—Ç. –î–æ–ª–≥–æ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –≤ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤—É. –ê –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏ –º–∞—à–∏–Ω—ã –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ê—Ä–≥—É–Ω–∞ –ø–æ —á–∞—Å—Ç—è–º –º–æ—Å—Ç–∞, —É–ø–∞–≤—à–µ–≥–æ –≤ –ø–æ—Ç–æ–∫ –∏ –¥–æ—Å–æ–∫, –ø–µ—Ä–µ–∫–∏–Ω—É—Ç—ã—Ö –º–µ–∂–¥—É —ç—Ç–∏–º–∏ —á–∞—Å—Ç—è–º–∏. –ù–∞ –∫—Ä—É—Ç–æ–º –ø–æ–¥—ä—ë–º–µ —Å —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≤—ã—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∏ –º–∞—à–∏–Ω—ã –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö. –¢—è–∂—ë–ª—ã–µ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∏ –≤—ã—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∏ –ª–µ–±—ë–¥–∫–æ–π –∏ –±—É–ª—å–¥–æ–∑–µ—Ä–æ–º —Å –ø–æ–º–æ—â—å—é —Ç—Ä–æ—Å–∞. –ù–∞—à –¥–∂–∏–ø –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—â–∏–ª–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏. –ù–∏ –º—ã, –Ω–∏ –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã.
–ü–æ—à–ª–æ –ø—Ä–µ–¥–≥–æ—Ä—å–µ. –ï—Ö–∞–ª–∏ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å, —É–∂–µ —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –ù–∞–º –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª–∏ —É–π—Ç–∏ –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç –æ–±–æ—á–∏–Ω—ã. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —É–∫—É—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ –æ–¥–µ—è–ª–æ. –¢—É—Ç –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—Ö–ª–∞–¥–Ω–æ. –ù–µ–ø–æ–¥–∞–ª—ë–∫—É –≤ –æ–≤—Ä–∞–∂–∫–µ —à—É–º–µ–ª —Ä—É—á–µ–π. –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π –Ω–∞ –¥–∂–∏–ø–µ —É–µ—Ö–∞–ª. –° –Ω–∞–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ó—É–± –∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤-–º–ª–∞–¥—à–∏–π.
–ü–æ–∑–¥–Ω–æ –Ω–æ—á—å—é –ø—Ä–∏—à—ë–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –û–Ω –ø–æ–≤—ë–ª –Ω–∞—Å –ø–æ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ–π —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ. –ü–æ —Ö–ª–∏–ø–∫–æ–º—É –º–æ—Å—Ç–∏–∫—É –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ —Ä—É—á–µ–π. –ß—É—Ç—å –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏—Å—å –≤ –≥–æ—Ä—É –∏ –≤–æ—à–ª–∏ –≤ –¥–æ–º. –ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞—Å —É–∂–µ –∂–¥–∞–ª–∏, –ø–æ–∫–æ—Ä–º–∏–ª–∏ –∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –∫ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—è–º. –Ý–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏ –ø–æ—Å–ª—É—à–∞—Ç—å —Ä–∞–¥–∏–æ. –í—Å–µ –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏ –º—ã —É–∑–Ω–∞–≤–∞–ª–∏ –ø–æ —Ä–∞–¥–∏–æ «–°–≤–æ–±–æ–¥–∞». –¢–æ–≥–¥–∞ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞—Å—å —ç–ø–æ–ø–µ—è —Å —Ç—Ä–∞–≤–ª–µ–π —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç–∞ «–°–≤–æ–±–æ–¥—ã» –ê–Ω–¥—Ä–µ—è –ë–∞–±–∏—Ü–∫–æ–≥–æ. –ù–æ —Å–∞–º—ã–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–µ –∏ –∏—Å—á–µ—Ä–ø—ã–≤–∞—é—â–∏–µ —Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç–∞–∂–∏ –±—ã–ª–∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —É –Ω–µ–≥–æ. –í–æ—Ç —Ç—É—Ç-—Ç–æ –º—ã –∏ —É–∑–Ω–∞–ª–∏ –æ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–µ –±–æ–µ–≤—ã—Ö –≤—ã–ª–µ—Ç–æ–≤ –Ω–∞ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π.
–ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤-–º–ª–∞–¥—à–∏–π —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –¥–Ω—è —É–µ–¥–µ—Ç, –∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å –Ω–∞—Å –±—É–¥–µ—Ç –ó—É–±. –ú–µ–Ω—å—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ –Ω–∞–º —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–æ–≥–æ.
–£—Ç—Ä–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –¥–æ–º, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è, —Å—Ç–æ–∏—Ç –Ω–∞ –∫—Ä–∞—é —Å–µ–ª–∞. –°—Ç–µ–Ω—ã –¥–æ–º–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —Ç–∞–∫–∏–º–∏ —Ç–æ–Ω–∫–∏–º–∏, —á—Ç–æ —Å —É–ª–∏—Ü—ã –±—ã–ª–∏ —Å–ª—ã—à–Ω—ã –≤—Å–µ –∑–≤—É–∫–∏. –ù–æ—á—å—é –≤–µ—Å—å –¥–æ–º –ø—Ä–æ–¥—É–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞—Å–∫–≤–æ–∑—å, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Å–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª–∏ –≤ –ø–æ–ª—É –±—ã–ª –≤–∏–¥–µ–Ω –ø–æ–¥–ø–æ–ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–µ –±—ã–ª —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–ø–æ–ª–æ–º, –∞ –±—ã–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ–º –ø–æ–¥ –¥–æ–º–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ —Å–≤–∞—è—Ö.
–ú–æ–∏–º –º–µ—Å—Ç–æ–º –±—ã–ª–∞ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —É –æ–∫–Ω–∞, –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–æ–≥–æ –±—É–º–∞–≥–æ–π. –° —É–ª–∏—Ü—ã —á–∞—Å—Ç–µ–Ω—å–∫–æ –¥–æ–Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –≥–æ–ª–æ—Å–∞ –ª—é–¥–µ–π, –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥—è—â–∏—Ö –º–∏–º–æ. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –æ–Ω–∏ —à–ª–∏ –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π –º–æ—Å—Ç–∏–∫, —á—Ç–æ –º—ã –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –Ω–æ—á—å—é.
–•–æ–∑—è–∏–Ω –¥–æ–º–∞ — –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –∏ –∂–∞–¥–Ω—ã–π –ø–∞—Ä–µ–Ω—å –ø–æ –∏–º–µ–Ω–∏ –°–µ–ª–∏–º. –ü–æ –¥–µ—à—ë–≤–∫–µ, –Ω–∞ –¥–µ–Ω—å–≥–∏, –≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–ª—è –Ω–∞—à–µ–≥–æ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ, –æ–Ω –∫—É–ø–∏–ª –º–µ—à–æ–∫ –º–µ–ª–∫–æ–π –∏ –≥–Ω–∏–ª–æ–π –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫–∏. –°–∞–º—ã–µ –∫—Ä—É–ø–Ω—ã–µ –ø–ª–æ–¥—ã –±—ã–ª–∏ –µ–¥–≤–∞ –±–æ–ª—å—à–µ –≥—Ä–µ—Ü–∫–æ–≥–æ –æ—Ä–µ—Ö–∞. –ß–∏—Å—Ç–∏—Ç—å –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫—É –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ö–∞–∫ —Ä–∞–∑ –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—å –∞–≤–∏–∞–Ω–∞–ª—ë—Ç—ã. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É—Å–ª—ã—à–∏–º —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–æ–µ —É–≤–µ–ª–∏—á–µ–Ω–∏–µ —á–∞—Å—Ç–æ—Ç—ã –∑–≤—É–∫–∞ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª–µ–π, —Ä–∞–¥–∏–æ –≤—ã–∫–ª—é—á–∞–µ–º, –ª–æ–∂–∏–º—Å—è –ø–æ–¥ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞–µ–º –≥–æ–ª–æ–≤—É —Ä—É–∫–∞–º–∏. –ù–∞—á–∏–Ω–∞–µ–º –º–æ–ª–∏—Ç—å—Å—è –ø—Ä–æ —Å–µ–±—è. –¢–∞–∫ –ª–µ–≥—á–µ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏—Ç—å –±–æ–º–±—ë–∂–∫—É. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–µ –Ω–∞ –Ω–∞—Å, –Ω–æ –º—ã-—Ç–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∫–∞–∂–¥—ã–π –∑–∞—Ö–æ–¥ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–ª–∏ –Ω–∞ —Å–≤–æ–π —Å—á—ë—Ç. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, –º—ã —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏ — –∏ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏ — —á—Ç–æ –≤ –¥–æ–º–µ –µ—Å—Ç—å —Å–∫–ª–∞–¥ –æ—Ä—É–∂–∏—è –∏ –±–æ–µ–ø—Ä–∏–ø–∞—Å–æ–≤. –ê —Ä–∞–∑ —Ç–∞–∫, —Ç–æ —ç—Ç–æ—Ç –¥–æ–º — –µ—Å—Ç—å –ø–µ—Ä–≤–∞—è —Ü–µ–ª—å –¥–ª—è —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏—è, –µ—Å–ª–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞ –∑–Ω–∞—é—Ç –æ–± —ç—Ç–æ–º. –í –æ–±—â–µ–º, –±—ã–ª–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ. –ï—Å–ª–∏ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∏ –º—ã –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç—ã –∫ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—è–º, —Ç–æ –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ–¥ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –ë—ã–ª–æ –Ω–µ —É–¥–æ–±–Ω–æ, –Ω–æ –ó—É–± –Ω–µ –æ—Ç—Å—Ç—ë–≥–∏–≤–∞–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤.
–ü–æ –Ω–æ—á–∞–º —è–≤–Ω—ã—Ö –Ω–∞–ª—ë—Ç–æ–≤ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ —Å–µ–ª–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –í—ã—Å–æ–∫–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –ø–∞—Ä—ã. –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–π «–ê–≤–∞–∫—Å» –Ω–∞ –±–∞–∑–µ –ò–ª-76 –±—ã–ª –≤ –Ω–µ–±–µ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ, –Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å –≤—ã—Å–æ–∫–æ. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è –Ω–µ –∏–º–µ–ª, —á—Ç–æ –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ —ç—Ç–∏—Ö –±–æ—Ä—Ç–æ–≤ –º–æ–≥ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞—Ç—å –í–∞–ª–µ—Ä–∫–∞ –ö–∞—Å–Ω–µ—Ä.
–û—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–æ–π –¥–ª—è –Ω–∞—Å —Ç–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã. –í—Ç–æ—Ä–∞—è –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞ — —Ç—É–∞–ª–µ—Ç. –ï–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Å–µ—â–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ —Ç—ë–º–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Å—É—Ç–æ–∫ –∏–ª–∏ —Ä–∞–Ω–Ω–∏–º —É—Ç—Ä–æ–º. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —Å —Ä–∞–Ω–Ω–µ–≥–æ —É—Ç—Ä–∞ –∏ –¥–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–µ—Ä–ø–µ—Ç—å. –ö–∞–∫ –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º—É —Ä–µ—à–∏–ª –ó—É–±. –û–Ω –Ω–∞—à—ë–ª –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤—É—é –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–∫–æ–≤—É—é –±—É—Ç—ã–ª–∫—É –∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –º–Ω–µ –≤ –Ω–µ—ë —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –º–∞–ª—É—é –Ω—É–∂–¥—É. –î–ª—è –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –Ω–∞—à–ª–∞—Å—å –ø–æ–ª-–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤–∞—è –±–∞–Ω–∫–∞ —Å –∫—Ä—ã—à–∫–æ–π.
–¢—Ä–µ—Ç—å—è –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞ — –≥–æ–ª–æ–¥. –ö–æ—Ä–º–∏–ª –Ω–∞—Å –°–µ–ª–∏–º –æ—á–µ–Ω—å —Å–∫—É–¥–Ω–æ. –ù–æ, –∫–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞—Å. –°–µ–ª–∏–º —É–º—É–¥—Ä–∏–ª—Å—è –ø–ª–æ—Ö–æ –∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å –∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—é—â–∏—Ö –Ω–∞—Å –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤.
–ö –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–æ–º—É –Ω–æ—è–±—Ä—è –º–ª–∞–¥—à–∏–π –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤ —É–µ—Ö–∞–ª. –ï–≥–æ —Å–º–µ–Ω–∏–ª –°–∞–∏–¥, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π, –µ—Å–ª–∏ –≤—ã –ø–æ–º–Ω–∏—Ç–µ, –æ—á–µ–Ω—å –ª—é–±–∏–ª –ø–æ–µ—Å—Ç—å. –ù–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –¥–µ–Ω—å –µ–≥–æ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è —Ä–∞–∑—Ä–∞–∑–∏–ª—Å—è —Å–∫–∞–Ω–¥–∞–ª. –ó—É–± –∏ –°–∞–∏–¥ –ø–æ—Ä—É–≥–∞–ª–∏—Å—å —Å –°–µ–ª–∏–º–æ–º –¥–æ —Ç–∞–∫–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª–∏ –µ—Å—Ç—å –¥–æ–º–∞.
–í–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –Ω–∞–ª—ë—Ç–æ–≤ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞ —É–≥–æ–¥–∏–ª–∞ –≤ –∫–æ—Ä–æ–≤—É. –û–Ω–∞ –ø–∞—Å–ª–∞—Å—å –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Å—Ç–∞ –æ—Ç –¥–æ–º–∞. –°–∞–∏–¥ –∏ –ó—É–± –ø–æ—à–ª–∏ –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É. –≠—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ —Å–≤–æ–∏ –ø—Ä–æ–≥—É–ª–∫–∏. –í–∑—Ä—ã–≤ —Ç–∞–∫ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å –¥–æ–º, —á—Ç–æ –æ–Ω —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –ø–æ–∫–æ—Å–∏–ª—Å—è. –ö–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥—á–∏–∫–∏ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å, –æ–Ω–∏ —É–≥–æ—Å—Ç–∏–ª–∏ –Ω–∞—Å –∫–∞–∫–∏–º–∏-—Ç–æ –ø–ª–æ–¥–∞–º–∏. –ú–Ω–µ –æ–Ω–∏ –Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ç–µ—Ä–ø–∫–∏–º –≤–∫—É—Å–æ–º. –í –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º — –æ—Ä–µ—Ö–∏ —Ñ—É–Ω–¥—É–∫. –ó—É–± —Å –°–∞–∏–¥–æ–º –∂–∞–ª–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Å–∫—É–ø–æ—Å—Ç—å –°–µ–ª–∏–º–∞ –∏ –Ω–∞–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏ —ç—Ç–∏ –æ—Ä–µ—Ö–∏.
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –∫ —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –º—ã —É–∂–µ –Ω–∞—É—á–∏–ª–∏—Å—å –∫–æ–µ-—á–µ–º—É –∏, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –≤ –ø–ª–∞–Ω–µ –ø—Ä–æ–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏—è –∂–∏–ª–∏ –ª—É—á—à–µ –Ω–∞—à–∏—Ö –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤.
–ö —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –Ω–æ—è–±—Ä—è –≤ –¥–æ–º–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ —Ö–æ–ª–æ–¥–∞—Ç—å. –î–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –ø–µ—á–∫–∞-–±—É—Ä–∂—É–π–∫–∞ —Ç–æ–ø–∏–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–æ—á—å—é, –¥–∞ –∏ —Ç–æ –≤ –ø–æ–ª—Å–∏–ª—ã, —á—Ç–æ–±—ã –∏—Å–∫—Ä—ã –∏–∑ —Ç—Ä—É–±—ã –Ω–µ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —è —Ç–æ–ø–∏–ª –±—É—Ä–∂—É–π–∫—É –∏ –¥–Ω—ë–º. –ú–µ—à–æ–∫ —Å –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫–æ–π –±—ã–ª —É –Ω–∞—Å –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ. –ú–µ–ª–∫—É—é –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫—É —è –∑–∞—Ä—ã–≤–∞–ª –≤ —É–≥–ª–∏ –∏ –∑–∞–ø–µ–∫–∞–ª. –ü–æ—Ç–æ–º –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –µ—ë —Ç–∞–π–Ω–æ —Å—ä–µ–¥–∞–ª–∏. –°–µ–ª–∏–º —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –æ—Ç—Å–ª–µ–∂–∏–≤–∞–ª —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º—ã –±–µ—Ä—ë–º —Å–∞—Ö–∞—Ä—É –∏–∑ —Å–∞—Ö–∞—Ä–Ω–∏—Ü—ã. –ù–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–π –º–µ—à–æ–∫ —Å —Å–∞—Ö–∞—Ä–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—é –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –í —Å–∞—Ö–∞—Ä–µ –º—ã —Ç–æ–∂–µ —Å–µ–±–µ –Ω–µ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏.
–î–Ω—ë–º –ø–æ –ø–æ–ª—É –±—ã–ª–æ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –ê —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ: –∏ –ø–æ—á–∏—Å—Ç–∏—Ç—å –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫—É, –∏ –ø–æ–º–µ–ª—å—á–µ –Ω–∞–∫–æ–ª–æ—Ç—å –¥—Ä–æ–≤ — –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É –∏—Ö –ø–æ —Å—á—ë—Ç—É –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–ª –°–µ–ª–∏–º — –∏ –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å –∏–∑ –ø–µ—á–∫–∏ –∑–æ–ª—É, –∏ –ø–æ–º—ã—Ç—å –ø–æ–ª—ã.
–û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ —Ö–æ–ª–æ–¥ –∂–∞–ª–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –°–≤–µ—Ç–∞. –û–±—É—Ç—å—Å—è –≤ —Å–≤–æ—é –æ–±—É–≤—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ü–æ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏–º –æ–±—ã—á–∞—è–º –¥–æ–º–∞ –≤ –æ–±—É–≤–∏ –Ω–µ —Ö–æ–¥—è—Ç. –Ø —Å—à–∏–ª –µ–π —Ç–∞–ø–æ—á–∫–∏. –° —Ü–≤–µ—Ç–æ—á–∫–∞–º–∏. –ù–æ — –±–µ–ª—ã–µ. –ú—ã —Ç–æ–≥–¥–∞ –µ—â—ë –ø–æ—Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å: –Ω–µ –∑–Ω–∞–∫ –ª–∏ —ç—Ç–æ –Ω–∞–º?
–î–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —à–µ—Å—Ç–æ–≥–æ –Ω–æ—è–±—Ä—è –ø–æ–∑–¥–Ω–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø–æ —Ä–∞–¥–∏–æ «–°–≤–æ–±–æ–¥–∞» –º—ã —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –≤ –ì—Ä—É–∑–∏–∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥—ë–Ω –∏–∑ –Ω–µ–≤–æ–ª–∏ –°–∞—à–∫–æ. –Ø –±—ã–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä–∞–¥. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∞ –°–∞—à–∫–æ, –Ω–æ –∏ –æ–Ω–∞ –ø–æ—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å —ç—Ç–æ–º—É, –∫–∞–∫ –∑–Ω–∞–∫—É. –ó–Ω–∞–∫—É —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –≤—Å—ë-—Ç–∞–∫–∏ –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞—é—Ç. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –Ω–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª –µ–π –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∑–∞ –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –≤—Å–µ–≥–æ 40 —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä—é–Ω–∏–ª–∞—Å—å. –ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –º—ã —É–∑–Ω–∞–ª–∏ –æ —Å—á–∞—Å—Ç–ª–∏–≤–æ–º –ø–æ–±–µ–≥–µ –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª –≤ —Ä–∞–±—Å—Ç–≤–µ –¥–µ–≤—è—Ç—å –ª–µ—Ç. –ü–æ–ø–∞–ª –æ–Ω —Ç—É–¥–∞, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –ø–æ –ø—å—è–Ω–∫–µ. –°–±–µ–∂–∞–ª —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –∏ —à—ë–ª –∫ –ª—é–¥—è–º —à–µ—Å—Ç—å —Å—É—Ç–æ–∫. –ê –≤–µ–¥—å –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö —É–∂–µ –±—ã–ª —Å–Ω–µ–≥. –ù–µ —Å–ª–∞–¥–∫–æ –µ–º—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å.
–ü–æ–¥ –Ω–æ–≤—ã–π –≥–æ–¥ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∞—è –¥–µ–≤–æ—á–∫–∞ —Å–±–µ–∂–∞–ª–∞ –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞ –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –¥–Ω—è –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –∫ –ª—é–¥—è–º. –≠—Ç–æ —Ç–æ–∂–µ –∏–∑ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–π —Ä–∞–¥–∏–æ «–°–≤–æ–±–æ–¥–∞». –¢–∞–∫–∞—è –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—è –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–∫—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞—à—É –∂–∏–∑–Ω—å. –õ—É—á—à–µ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å «–Ω–∞—à –ø–ª–µ–Ω». –ö–∞–∫–∞—è —É–∂ —ç—Ç–æ –∂–∏–∑–Ω—å! –ó–¥–µ—Å—å, –≤ –ø—Ä–µ–¥–≥–æ—Ä—å—è—Ö –ö–∞–≤–∫–∞–∑–∞, —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ–≤–æ—Ä—è—â–∏–µ —Ä–∞–¥–∏–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–π–º–∞—Ç—å —Ä–∞–¥–∏–æ–æ–±–º–µ–Ω —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–æ–π—Å–∫, –Ω–æ –ø–æ–Ω—è—Ç—å —á—Ç–æ-–ª–∏–±–æ –±—ã–ª–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –≤ —Å–∏–ª—É —Å–ø–µ—Ü–∏—Ñ–∏–∫–∏. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –º—ã —Å–ª—É—à–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ –≥–¥–µ-—Ç–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ä—è–¥–æ–º –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ —Å –∑–µ–º–ª–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç–Ω—ã–µ –ø—É—Å–∫–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤. –ò –≤–æ—Ç –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∞–º –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –ø–∏–ª–æ—Ç–æ–≤. –Ý–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –≤ —ç—Ñ–∏—Ä–µ –±—ã–ª —Ç–∞–∫–∏–º:
— –Ø –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –ø–æ–Ω—è–ª? — —Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–∂—ë–Ω–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–∏–ª–æ—Ç, — –ü–ª–æ—â–∞–¥—å –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ —Å–µ–ª–∞?
— –í—ã –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π –≥–æ–ª–æ—Å. — –ü–ª–æ—â–∞–¥—å. –ù–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ —Å–∫–æ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤.
— –ù–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –∏ –¥–µ—Ç–∏, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª –ø–∏–ª–æ—Ç. — –ë–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—é.
— –ú–Ω–µ –ª—É—á—à–µ –≤–∏–¥–Ω–æ –∫—Ç–æ —Ç–∞–º, — —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª –∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π –≥–æ–ª–æ—Å.
— –ê —è —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –≤–∏–¥–µ–ª –¥–∞–∂–µ –∫—É—Ä. –ú–æ–≥—É —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –∫–∞–∫–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞ –∫–∞–∫–∞—è, –ø–æ –∫–∞–∫–∏–º –¥–≤–æ—Ä–∞–º —Ä–∞–∑–±–µ–≥–∞–ª–∏—Å—å, — —Å—É—Ä–æ–≤–æ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –ø–∏–ª–æ—Ç. — –¶–µ–ª–∏ –Ω–µ –≤–∏–∂—É. –° –≤–∞–º–∏ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª. –ú–µ–Ω—è—é —Ü–µ–ª—å.
–í–æ—Ç —Ç–∞–∫–æ–π –¥–∏–∞–ª–æ–≥ –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–æ—Å–ª–æ–≤–Ω–æ. –ò–∑ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–æ–≤ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —è —Å–ª—ã—à–∞–ª, —á—Ç–æ —É –Ω–∏—Ö —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É—é—Ç —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–µ –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –ø–æ –ª–∏–∫–≤–∏–¥–∞—Ü–∏–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö —Ç–æ—á–µ–∫ –Ω–∞–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ –æ–Ω–∏ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å —Å –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–º–∏ –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º –≤–æ–π—Å–∫–∞–º. –ê, –ø–æ –∏—Ö —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–º, –º–µ—Å—Ç–Ω—ã—Ö —Å—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞–≤–æ–¥—á–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –º–∞–ª–æ.
–í–æ—Å—å–º–æ–µ –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è 1999 –≥–æ–¥–∞. –ú–Ω–µ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å 45 –ª–µ—Ç. –ß–∏—Å—Ç–∫–∞ –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫–∏, –∞–≤–∏–∞–Ω–∞–ª—ë—Ç—ã, –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π –ø–æ—Å—Ç. –û–± —ç—Ç–æ–º –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–µ–µ.
–ú—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π –ø–æ—Å—Ç –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–µ–Ω–∏–π –≤ –µ–¥–µ. –ù–æ –µ—Å—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç –∑–∞—Ö–æ–¥–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –¥–æ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–∞. –¢–æ—á–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞—Ö–æ–¥–∞ –∏ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è –∏–∑ –∫–∞–ª–µ–Ω–¥–∞—Ä–µ–π. –í –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è —Å—É—Ç–æ–∫ –Ω–µ–ª—å–∑—è –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ—Å—Ç—å, –Ω–æ –∏ –ø–∏—Ç—å, –∞ —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ — –∫—É—Ä–∏—Ç—å.
–ó—É–±–∞ –∏ –°–∞–∏–¥–∞ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–∞—Å –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª –°–µ–ª–∏–º –∏ –¥–≤–æ–µ –Ω–æ–≤—ã—Ö –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –º—ã –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏ –¥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ. –°–µ–ª–∏–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –º–Ω–µ —Å–æ–±–ª—é–¥–∞—Ç—å –ø–æ—Å—Ç –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º–∏. –Ø —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª—Å—è. –ò –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª. –Ý–∞–Ω–Ω–∏–º —É—Ç—Ä–æ–º –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –∏ –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –∫–∞–∫ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç –ø–æ–µ—Å—Ç—å. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ö–æ—á–µ—à—å. –ü–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏, —á–∞—Å—Ç—å —è –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –°–≤–µ—Ç–µ. –ù–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ó–Ω–∞—è –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –°–µ–ª–∏–º —Å–ª–µ–¥–∏–ª –∑–∞ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ–±—ã —è –≤—Å—ë —Å—ä–µ–¥–∞–ª —Å–∞–º.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫–∞–ª–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∑–∂–µ, –Ω–æ –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –º–æ–≥ —Ç–∞–π–Ω–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–æ–∂—Ä–∞—Ç—å. –°–ª–æ–∂–Ω–µ–µ –±—ã–ª–æ —Ü–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å –Ω–µ –∫—É—Ä–∏—Ç—å. –ù–æ –∏ —Ç—É—Ç —è –ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–æ–±–∏–ª—Å—è: –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏—Ö –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã —è —É–º—É–¥—Ä—è–ª—Å—è –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –ø–æ–¥—Å–µ—Å—Ç—å –∫ –ø–µ—á–∫–µ –∏ –≤—ã–¥—ã—Ö–∞—Ç—å –ø—Ä—è–º–æ —Ç—É–¥–∞. –ó–∞–ø–∞—Ö–∞ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å. –¢–∞–∫–∏—Ö –º–æ–ª–∏—Ç–≤ –¥–Ω—ë–º –±—ã–ª–æ —Ç—Ä–∏, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –º–Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ. –ó–∞—Ç–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—É—é –º–∏—Å–∫—É —Å—É–ø–∞ –∏–ª–∏ —â–µ–π. –ò —á—Ç–æ-—Ç–æ –µ—â—ë, —á—Ç–æ –Ω–∞–ø—Ä–æ—á—å –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–æ –≤ –Ω–∞—à–µ–º –æ–±—ã—á–Ω–æ–º —Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–µ: –±–ª–∏–Ω—á–∏–∫–∏, –ø—ã—à–µ—á–∫–∏ –∏ –≤—Å—è–∫–∞—è –¥—Ä—É–≥–∞—è —Å–ª–∞–¥–∫–∞—è —Ñ–∏–≥–Ω—è. –ö–æ—Ä–æ—á–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, –∏—Ö –ø–æ—Å—Ç –ø–æ—à—ë–ª –Ω–∞–º –Ω–∞ –ø–æ–ª—å–∑—É.
–Ý–∞–∫–µ—Ç–∞ «–∑–µ–º–ª—è-–∑–µ–º–ª—è», –∑–∞–ø—É—â–µ–Ω–Ω–∞—è —Å –ö–∞–ø—É—Å—Ç–∏–Ω–∞ –Ø—Ä–∞, —É–¥–∞—Ä–∏–ª–∞ –ø–æ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–º—É —Å–µ–ª—É –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–π –Ω–æ—á—å—é. –í–∑—Ä—ã–≤ –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –º–æ—â–Ω—ã–π. –í—Å–µ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª–∏—Å—å. –ê –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ –¥–Ω—è –∫ –Ω–∞–º –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –í—ã—Å–æ–∫–∏–π, —Ö—É–¥–æ–π, –Ω–æ –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–π –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫ 57 –ª–µ—Ç. –ï–≥–æ –≤–∑—è–ª–∏ –≤ –º–∞—Ä—Ç–µ 1999 –≥–æ–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –≤ –ß–µ—á–Ω—é —è–∫–æ–±—ã —Å –≥—É–º–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–Ω–æ–π –º–∏—Å—Å–∏–µ–π: –æ–Ω –¥–æ–±–∏–ª—Å—è –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –±–µ—Å–ø–ª–∞—Ç–Ω–æ–π –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏ –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–π –¥–µ–≤–æ—á–∫–µ, –ø–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–≤—à–µ–π –ø—Ä–∏ –±–æ–º–±—ë–∂–∫–µ. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Ç–æ–≥–¥–∞ –∑–∞ –Ω–µ—é –∏ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª, –∞ –µ–≥–æ –≤–∑—è–ª–∏ –≤ –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–∏. –ß—Ç–æ –∑–∞ –º–∏—Å—Å–∏—é –æ–Ω –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ, –º—ã —Ç–∞–∫ –∏ –µ–µ —É–∑–Ω–∞–ª–∏, –Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ–º –¥–µ–ª–µ —á—Ç–æ-—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ —á–∏—Å—Ç–æ.
–ó–∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ —Ç–æ–∂–µ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –º–Ω–æ–≥–æ. –ü–æ–ª–º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤. –ü—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –µ–≥–æ –Ω–∞—à–∏ –∂–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏. –ö–∞–∫ –ø–æ–∑–∂–µ –≤—ã—è—Å–Ω–∏—Ç—Å—è, –Ω–∞—Å –æ–Ω–∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª–∏ –ø–æ—Å—Ç–æ–ª—å–∫—É, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –±—ã–ª–∏ —á–ª–µ–Ω–∞–º–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ —Å –Ω–∞—à–∏–º –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã–º —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–æ–º. –°–∞–º–∏ –∂–µ –±—ã–ª–∏ —Å–æ–≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞–º–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –î–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –µ–≥–æ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ –¥–æ–º–∞ —Ç–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ —Å–µ–ª–∞, –∫—É–¥–∞ —É–≥–æ–¥–∏–ª–∞ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞. –≠—Ç–æ —É–∂–µ –Ω–∞–º —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –°–µ–ª–∏–º. –ö—Ä—ã—à–∏ —Å –¥–æ–º–æ–≤ —Å–Ω–µ—Å–ª–æ –Ω–∞–ø—Ä–æ—á—å. –î–æ–º —Å –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–º —Å–∏–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª. –û—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ — –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –ë–∞—Ä–∞–µ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –µ–≥–æ –∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –æ—Ç–µ—Ü —Å–µ–º–µ–π—Å—Ç–≤–∞ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –ø–æ—Å–ª–µ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö –¥–µ—Ç–µ–π:
— –ü–µ—Ä–≤—ã–π –∂–∏–≤–æ–π? –ñ–∏–≤–æ–π. –°—é–¥–∞. –í—Ç–æ—Ä–æ–π –∂–∏–≤–æ–π? –ñ–∏–≤–æ–π. –¢–æ–∂–µ —Å—é–¥–∞. –¢—Ä–µ—Ç–∏–π? –ù–µ—Ç. –≠—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –±–µ—Ä–∏—Ç–µ. –ú–µ—Ä—Ç–≤—ã–π…
–°—Ç—Ä–∞—à–Ω–∞—è —Ç–∞–∫–∞—è –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∞ –≤—ã—Ä–∏—Å–æ–≤—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å. –ê –¥–æ–º –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≥–æ—Ä–µ–ª, –∏ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –¥–µ—Ç–µ–π —Å–≥–æ—Ä–µ–ª –∑–∞–∂–∏–≤–æ. –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–º–µ—è–ª—Å—è –Ω–∞–¥ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –∏–∑ –¥–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –¥–µ—Ç–µ–π —Å–µ–º–µ—Ä–æ –≤—ã–∂–∏–ª–∏ — –∏ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è–º —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç. –ú—ã —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –∏–¥–∏–æ—Ç–∞. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –±–æ–º–±–µ–∂–∫–∏ –≤—ã–≤–µ–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º. –û–Ω, —Ö–æ—Ç—è –∏ –±—ã–ª —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –∫–æ–Ω—Ç—É–∂–µ–Ω –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–º, –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª –≤ —Å–≤–æ—ë–º –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω–æ–º —É–±–µ–∂–∏—â–µ.
–í—Ç–æ—Ä—ã–º –∏–∑ –Ω–æ–≤—ã—Ö –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä. –ë—ã–≤—à–∏–π –±–æ–∫—Å—ë—Ä. –û–Ω–∏ —Å –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫–æ–º –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º.
— –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —Ö–∏—Ç—Ä—ã–π, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫. — –û–Ω, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ–≥–æ –ø–æ–∫–æ—Ä–º—è—Ç, —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏—Ç–≤–æ—Ä—è–µ—Ç—Å—è –≥–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–º –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç —É–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å –±–∞–±–∫—É –∏—Å–ø–µ—á—å –µ–º—É –±—É–ª–æ—á–∫—É. –ê –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –ø–µ—á–∫–∞ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ, —Ç–æ –ª—É—á—à–∏–µ –±—É–ª–æ—á–∫–∏ –≤–æ—Ä—É–µ—Ç –ø—Ä—è–º–æ –∏–∑ –ø–µ—á–∫–∏.
–û–Ω–∏ —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º —Ç–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–æ–≥–æ –≥–∞–¥–æ—Å—Ç–µ–π –Ω–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –ø—Ä–æ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞, –Ω–æ —è –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç—å –≤–µ—Å—å —ç—Ç–æ—Ç —Ç—Ä—ë–ø –∑–∞ —á–∏—Å—Ç—É—é –º–æ–Ω–µ—Ç—É.
–í –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–Ω–∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á –ø–æ–≤—ë–ª —Å–µ–±—è —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ. –û–Ω –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –Ω–∞ –Ω–∞—à–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã, —Ö–æ—Ç—è —ç—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–Ω–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —Å—á—ë—Ç –∫–æ–Ω—Ç—É–∑–∏–∏. –ù–∞ –∞–≤–∏–∞–Ω–∞–ª—ë—Ç—ã –æ–Ω –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ —Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª: —Ç–∞–∫ –∏ –ª–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω–µ, —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤—à–∏—Å—å —Å–∏–Ω–∏–º –∞—Ä–º–µ–π—Å–∫–∏–º –æ–¥–µ—è–ª–æ–º. –ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å –ø–æ—Å–ª–µ –µ–≥–æ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –≤–¥–æ–ª—å –≤—Å–µ—Ö —Ç—Ä—ë—Ö –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–µ–π –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª–∏ —Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π —Ç—Ä–æ—Å. –ö–∞–∫ –¥–ª—è –æ–≤—á–∞—Ä–∫–∏. –°–æ–±–∞–∫–æ–π —Å —Å–∞–º—ã–º –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –ø–æ–≤–æ–¥–∫–æ–º –±—ã–ª —è. –ú–Ω–µ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–∑ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —É–≥–ª–∞ –¥–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω—ã–π —É–≥–æ–ª —Å –ø–µ—á–∫–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—Ç—å —Ç–µ–ø–ª–æ. –£ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –¥–ª–∏–Ω–∞ –ø–æ–≤–æ–¥–∫–∞ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –¥–ª–∏–Ω–æ–π —Å–∞–º–∏—Ö –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤. –¢–æ –µ—Å—Ç—å –æ–¥–Ω–æ –∫–æ–ª—å—Ü–æ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª–æ —É –Ω–µ—ë –Ω–∞ –ª–µ–≤–æ–º –∑–∞–ø—è—Å—Ç—å–µ, –∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–µ — –Ω–∞ —Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º —Ç—Ä–æ—Å–µ. –ù–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç—ã –ø—Ä—è–º–æ –∫ –∫—Ä–æ–≤–∞—Ç–∏. –ï–º—É –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞–ª–æ—Å—å –≤—Å—è–∫–æ–µ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ.
–ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞–¥–∞–≤–∞—Ç—å –µ–º—É –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã, –Ω–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ –±–µ–∑—É—Å–ø–µ—à–Ω–æ. –î–∞ –º—ã –∏ –Ω–µ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–ª–∏. –ü–æ —Å—É—Ç–∏ –¥–µ–ª–∞, –º—ã –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –≥–æ–ª–æ—Å —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –≤—ã—Ä–∞–∑–∏–ª –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ —Å–≤–æ–µ–π —ë–º–∫–æ—Å—Ç—å—é –¥–ª—è —Å–±–æ—Ä–∞ –¥–Ω–µ–≤–Ω–æ–π –º–æ—á–∏. –ï–º—É, –≤ –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –º–µ–Ω—è, –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –ª–∏—Ç—Ä–æ–≤–∞—è –±—É—Ç—ã–ª–∫–∞. –õ–∏—Ç—Ä–∞ –∑–∞ –¥–µ–Ω—å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—É –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ. –£ –º–µ–Ω—è —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä –Ω–µ —Å–∫–ª–æ—á–Ω—ã–π –∏ –ø—Ä–∏ –∏–Ω–æ–º –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–µ —è —Å–∞–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –±—ã –µ–º—É –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏ –º–æ–µ–π –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤–æ–π —ë–º–∫–æ—Å—Ç—å—é, –Ω–æ —Å–∞–º —Ç–æ–Ω –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏—è –º–µ–Ω—è –ø–æ–∫–æ—Ä–æ–±–∏–ª. –î–∞–ª—å—à–µ — –±–æ–ª—å—à–µ. –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –¥–µ–ª–∏—Ç—å –µ–¥—É –Ω–µ –ø–æ—Ä–æ–≤–Ω—É. –ï–º—É, –∫–∞–∫ –º—É–∂—á–∏–Ω–µ, –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–¥–∞–≤–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à—É—é —á–∞—Å—Ç—å.
— –û–Ω–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å, –≥–¥–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –û–Ω–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞, –∞ –≤ –ß–µ—á–Ω–µ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –ø—Ä–∏—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∞ –∫ —Å–æ–±–∞–∫–µ.
–ú–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ—é —á–∏—Å—Ç–∏–ª–∞ –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫—É, –Ω–æ –µ—â—ë –º—ã–ª–∞ –ø–æ–ª—ã, —Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–∞, –º—ã–ª–∞ –ø–æ—Å—É–¥—É. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –∂–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ª–µ–∂–∞–ª, –µ–ª –∏ —Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –Ω–µ –ø—Ä–µ–º–∏–Ω—É–ª–∞ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –Ω–∞–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –µ–º—É –æ–± —ç—Ç–æ–º. –° —ç—Ç–æ–≥–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –∏ –ø–æ—à–ª–∞ –∏—Ö –Ω–µ–ø—Ä–∏–º–∏—Ä–∏–º–∞—è –≤—Ä–∞–∂–¥–∞.
–ü—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã —è –µ–ª –Ω–∞—Ä–∞–≤–Ω–µ —Å –Ω–∏–º, –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –Ω–µ –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª. –ù–æ —è —Ç–æ–≥–¥–∞ –µ–ª –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ, –∫–∞–∫ –ø–æ—Å—Ç—è—â–∏–π—Å—è.
–ò –≤—Å—ë –∂–µ, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –æ–±—ä–µ–¥–∞–ª –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –Ø —Å—Ç–∞–ª –¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∏–∑ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –º–Ω–µ. –ù–æ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –∏ –∏–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª —Å–≤–æ—é –¥–æ–ª—é. –£ –Ω–∞—Å –Ω–∞ —Ç–∞–∫–∏–µ –∑–∞—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –Ω–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Å–ª–æ–≤. –û—Ç –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ –¥–∞–∂–µ —É–≥—Ä–æ–∑—ã, —á—Ç–æ –æ–Ω –¥–æ–Ω–µ—Å—ë—Ç –°–µ–ª–∏–º—É –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–≤, –∫–∞–∫ —è –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ —Å–æ–±–ª—é–¥–∞—é –ø–æ—Å—Ç. –ù–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ç–∞–∫ –µ–º—É –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–≤–µ—Å—Ç–∏ –µ—ë –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏–µ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º. –Ø –∂–µ —Ç–∞–∫ –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, —á—Ç–æ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –∑–∞—Ç–∫–Ω—É—Ç—å—Å—è.
–í–æ—Ç —Ç–∞–∫–∞—è —É –Ω–∞—Å —Å–ª–æ–∂–∏–ª–∞—Å—å –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–æ—á–∫–∞ –≤ –∫–∞–Ω—É–Ω –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –≤ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–º —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏–∏ –¥–≤—É—Ö—Ç—ã—Å—è—á–Ω–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞. –î–ª—è —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤ –Ω–∞—à –ù–æ–≤—ã–π –≥–æ–¥ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –Ω–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫. –û–Ω–∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è—é—Ç –µ–≥–æ –≤ –º–∞—Ä—Ç–µ –∏ –ª–µ—Ç–æ–∏—Å—á–∏—Å–ª–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç—Å—Ç–∞—ë—Ç –æ—Ç –Ω–∞—à–µ–≥–æ –Ω–∞ 750 –ª–µ—Ç. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –Ω–∞–º —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏ –¥–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–π –Ω–æ—á–∏ —Å–ª—É—à–∞—Ç—å —Ä–∞–¥–∏–æ. –í –ø–æ–ª–Ω–æ—á—å —è –≤—Å—ë –∂–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª «–Ý–∞–¥–∏–æ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏» –∏ –º—ã —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –±–æ–π –∫—É—Ä–∞–Ω—Ç–æ–≤. –ù–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –≥–æ–¥ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏—è.
–°–µ–ª–∏–º, —Ä–∞—Å—Ç—Ä–æ–≥–∞–Ω–Ω—ã–π —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ –º—ã —Å–ª—É—à–∞–ª–∏ –±–æ–π –∫—É—Ä–∞–Ω—Ç–æ–≤, –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –º–Ω–µ –≤—ã–π—Ç–∏ –ø–æ–∫—É—Ä–∏—Ç—å. –î–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –≤—ã—Ö–æ–¥ –Ω–æ—á—å—é — —ç—Ç–æ –∫—Ä—É—Ç–æ, —ç—Ç–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–¥–∞—Ä–æ–∫. –ú–æ–∂–Ω–æ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∫—É—Ä–∏—Ç—å, –Ω–æ –∏ –µ—â–µ —Ä–∞–∑ —Å—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç. –í—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –∫—Ä—ã–ª—å—Ü–æ. –Ø –∑–∞–∫—É—Ä–∏–ª. –ù–µ–±–æ –Ω–∞–¥ –≥–æ—Ä–∞–º–∏ –≥–æ—Ä–µ–ª–æ –∑–≤—ë–∑–¥–∞–º–∏. –ì–æ—Ä–µ–ª–∞ –∏ –≥–æ—Ä–∞ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏. –ù–∞–∫–∞–Ω—É–Ω–µ –ù–æ–≤–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞ –ª–µ—Å –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ –±—ã–ª –ø–æ–¥–æ–∂–∂—ë–Ω –ø–æ–ø–∞–≤—à–µ–π —Ç—É–¥–∞ —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–π. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤–¥–æ–ª—å –≤—Å–µ–π –≥–æ—Ä—ã, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ —è—Ä–∫–∏–µ –±—É—Å—ã –Ω–∞ –Ω–æ–≤–æ–≥–æ–¥–Ω–µ–π —ë–ª–∫–µ –≥–æ—Ä–µ–ª–∞ –∏–∑–≤–∏–ª–∏—Å—Ç–∞—è –ø–æ–ª–æ—Å–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ. –ò –æ—á–µ–Ω—å –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ…
–°–µ–ª–∏–º –º–æ–ª—á–∞–ª, –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞–ø—Ç—ã–≤–∞—è—Å—å —Å –Ω–æ–≥–∏ –Ω–∞ –Ω–æ–≥—É, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –º–Ω–µ –∫–æ—Ñ–µ. –° –ª–∏–º–æ–Ω–æ–º! –í–æ—Ç —ç—Ç–æ –°–µ–ª–∏–º! –ù–æ –∑—Ä—è —è –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω —Ç–∞–∫ —Ä–∞—Å—â–µ–¥—Ä–∏–ª—Å—è.
— –°–ø–∞—Å–∏–±–æ, –°–µ–ª–∏–º, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –ù–æ –º–Ω–µ –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ –ø–∏—Ç—å –∫–æ—Ñ–µ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω—ã –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω—ã –∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä–∞ –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á–∞.
— –ù–µ—Ç! — –∑–∞—è–≤–∏–ª –æ–Ω —Ä–µ—à–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. — –ù–∞ –≤—Å–µ—Ö –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç. –ê –∏ –±—ã–ª–æ –±—ã, –°–≤–µ—Ç–∞ –∏ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏ –±—ã.
–Ø –ø–æ–±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª –°–µ–ª–∏–º–∞ –µ—â—ë —Ä–∞–∑, –Ω–æ –æ—Ç –∫–æ—Ñ–µ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è.
–í—ã—Å–æ–∫–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ —à–ª–∞ –Ω–∞ –∑–∞–¥–∞–Ω–∏–µ –ø–∞—Ä–∞ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–æ–≤. –ë–æ—Ä—Ç–æ–≤—ã–µ –æ–≥–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –≤—ã–∫–ª—é—á–µ–Ω—ã. –Ø –∑–∞–º–µ—á–∞–ª —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –∏—Ö —Å–∏–ª—É—ç—Ç—ã –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –∑–≤—ë–∑–¥—ã. –í–æ—Ç —Ç–∞–∫ –º—ã –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏ –¥–≤—É—Ö—Ç—ã—Å—è—á–Ω—ã–π –≥–æ–¥.
–°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ —à–µ—Å—Ç—å –¥–Ω–µ–π –º–∞–ª–æ —á–µ–º –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∏—Å—å –æ–¥–∏–Ω –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ. –ù–æ –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∏ —É—Å–∏–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –°–µ–¥—å–º–æ–≥–æ —è–Ω–≤–∞—Ä—è –¥–≤—É—Ö—Ç—ã—Å—è—á–Ω–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞ –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –≤–æ–π—Å–∫–æ–≤–æ–π –£–ê–ó–∏–∫. –ö–∞–∫ —Ä–∞–∑ –≤ —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è –ø–æ—Å—Ç –∏ –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫ –£—Ä–∞–∑–∞ –ë–∞–π—Ä–∞–º. –í —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–µ —Ö–æ–¥—è—Ç –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É –≤ –≥–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —É–≥–æ—â–µ–Ω–∏–µ. –ú—ã —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏ –≤—Å–µ —Å–≤–æ–∏ –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∏, –∏ –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ, –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏. –î–æ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —Å–µ–ª–∞ –µ—Ö–∞–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∞—Å—å –ø–æ —É–ª–∏—Ü–∞–º –≤ –≥–æ—Ä—É –∏ –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –¢—É—Ç —Å—Ç–æ—è–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π –Ω–∞–≤–µ—Å, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–π –Ω–∞ –∞–Ω–≥–∞—Ä –∏ –¥–≤–∞ –¥–æ–º–∞. –ù–µ —Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å–∫–ª–æ–Ω –≥–æ—Ä—ã, –≥–¥–µ –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å, –±—ã–ª –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –∫—Ä—É—Ç, —Å–∞–º –¥–≤–æ—Ä –±—ã–ª –±–æ–ª—å—à–∏–º –∏ —Ä–æ–≤–Ω—ã–º. –ù–∞—Å –ø—Ä–æ–≤–µ–ª–∏ –≤ –¥–æ–º, —á—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –¥–≤–æ—Ä–∞. –ü–æ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏ –≤ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É —Å –≤—ã—Ö–æ–¥–æ–º –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É. –ü—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—Å—é –ø–ª–æ—â–∞–¥—å –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏ —Å–∫–æ–ª–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏–∑ –¥–æ—Å–æ–∫ –Ω–∞—Ä—ã. –ö –Ω–∏–º –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –≤—Å—ë —Ç–æ—Ç –∂–µ —Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π —Ç—Ä–æ—Å, –∞ –∫ –Ω–µ–º—É — –Ω–∞—Å. –ü—Ä–∏—ë–º–Ω–∏–∫ –∑–∞–±—Ä–∞–ª–∏. –í —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —Ä–∞–∑ —è –ø–æ–æ–±—â–∞—é—Å—å —Å —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ–Ω–Ω—ã–º–∏ –°–ú–ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –≥–æ–¥–∞.
–ù–æ—á—å—é –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–∏–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤, –Ω–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –≠—Ç–æ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏ –°–ê–£—à–∫–∏ — —Å–∞–º–æ—Ö–æ–¥–Ω—ã–µ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏–µ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏. –ò–Ω–∞—á–µ — –≥–∞—É–±–∏—Ü—ã. –û–Ω–∏ –ª—É–ø—è—Ç –Ω–∞ 70 –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–£—Ç—Ä–æ–º —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–ª—É—á—à–µ —Ä–∞–∑–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ, –∫—É–¥–∞ –º—ã –ø–æ–ø–∞–ª–∏. –ù–æ –≤–Ω–∞—á–∞–ª–µ –∫ –Ω–∞–º –ø–æ–∂–∞–ª–æ–≤–∞–ª –õ–µ—á–æ –•—Ä–æ–º–æ–π. –û–Ω –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è, –∫–∞–∫ –º—ã —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å, –ø–æ—Ç—É–∂–µ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª –∑–∞—â—ë–ª–∫–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –Ω–∞—à–∏—Ö –∑–∞–ø—è—Å—Ç—å—è—Ö, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª, –µ—Å—Ç—å –ª–∏ —É –º–µ–Ω—è —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã. –£–∑–Ω–∞–≤, —á—Ç–æ –Ω–µ—Ç, –ø–æ–æ–±–µ—â–∞–ª –∫—É–ø–∏—Ç—å «–ü—Ä–∏–º—ã». –ü–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –º–æ–ª–æ—Ç–æ–∫, –≥–≤–æ–∑–¥–∏ –∏ –Ω–æ–∂–æ–≤–∫—É. –í–µ–ª–µ–ª —É–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç—å –æ–∫–Ω–∞. –°—Ç–∞–ª –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å: –æ—Ç–ø–∏–ª–∏–ª –¥–æ—Å–∫—É –æ—Ç –Ω–∞—Ä –ø–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä—É —à–∏—Ä–∏–Ω—ã –æ–∫–Ω–∞ –∏ —É–∂–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –ø—Ä–∏–±–∏–≤–∞—Ç—å. –Ø –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª –µ–º—É, –Ω–æ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –æ–∫–Ω–æ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–æ –∫–∞—Ä—Ç–æ–Ω–æ–º –∏ –µ—Å–ª–∏ –±—É–¥–µ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤, —Ç–æ –∫–∞—Ä—Ç–æ–Ω –≤—ã–±—å–µ—Ç –∏ —ç—Ç–∞ –¥–æ—Å–∫–∞ –ø–æ–ª–µ—Ç–∏—Ç –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –Ω–∞—Å. –õ–µ—á–æ –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –∑—ã—Ä–∫–Ω—É–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –≥–ª–∞–∑–æ–º, –≤–∑—è–ª —Å –ø–æ–¥–æ–∫–æ–Ω–Ω–∏–∫–∞ —Ä–µ–π–∫—É –∏ —Å—Ç—É–∫–Ω—É–ª –µ—é –º–µ–Ω—è –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ. –ù–æ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª—Å—è. –ú—ã –ø–æ—à–ª–∏ —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è—Ç—å –æ–∫–Ω–æ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É.
–í–æ—Ç —Ç—É—Ç-—Ç–æ —è –∏ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, –≥–¥–µ –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è. –ê –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –º—ã –≤ –®–∞—Ç–æ–µ. –î–æ–º –Ω–∞—à —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ –∫—Ä—É—Ç–æ–º —é–∂–Ω–æ–º —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã. –í—ã—à–µ –±—ã–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω —Ä—è–¥ –¥–æ–º–æ–≤. –ê –¥–∞–ª—å—à–µ — –ø—É—Å—Ç–æ–π, –∫—Ä—É—Ç–æ–π –∏ —Ä–æ–≤–Ω—ã–π —Å–∫–ª–æ–Ω –≥–æ—Ä—ã. –ü—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤–µ—Å—å –®–∞—Ç–æ–π –±—ã–ª –ø–æ–¥ –Ω–∞–º–∏. –ù–∏–∂–Ω–∏–π —Ä—è–¥ –¥–æ–º–æ–≤ —Å—Ç–æ—è–ª —É–∂–µ –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –ê—Ä–≥—É–Ω–∞. –ù–∞—à –¥–≤–æ—Ä –±—ã–ª –Ω–∞—Å—ã–ø–Ω–æ–π. –≠—Ç–æ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã. –ù–∏–∂–Ω–∏–π –∫—Ä–∞–π —É—á–∞—Å—Ç–∫–∞ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞–ª –≤—ã—Å–æ—á–µ–Ω–Ω—ã–π –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–π –∑–∞–±–æ—Ä, –¥–æ–≤–µ—Ä—Ö—É –∑–∞—Å—ã–ø–∞–Ω–Ω—ã–π –∑–µ–º–ª—ë–π. –ü–æ–ª—É—á–∏–≤—à–∞—è—Å—è —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∞ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∑–∞–±–µ—Ç–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∞. –ù–∞ –Ω–µ–π –∂–µ –∏ –±—ã–ª–∏ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ã –¥–≤–∞ –¥–æ–º–∞ –∏ –Ω–∞–≤–µ—Å.
–û–±–∞ –¥–æ–º–∞ –±—ã–ª–∏ –¥–∞–≤–Ω–æ –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—ã —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞–º–∏. –í –∞–Ω–≥–∞—Ä–µ — —Å–∫–ª–∞–¥ –¥–æ—Å–æ–∫, –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫ –∏ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä. –ù–µ–∫–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞–∂–∏—Ç–æ—á–Ω–æ–µ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–æ. –í–æ–¥–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–¥ –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ —Ñ—É–Ω–∫—Ü–∏–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª. –ó–∞ –Ω–∞—à–∏–º, –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –¥–æ–º–æ–º –±—ã–ª —Å–∞—Ä–∞–π, –ø—Ä–∏–º—ã–∫–∞–≤—à–∏–π –∫ –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–µ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–π –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –±—ã–ª –∑–∞—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤–µ—Å—å —ç—Ç–æ—Ç —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –≥–æ—Ä—ã. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –∑–¥–µ—Å—å —Ö–æ–∑—è–π–Ω–∏—á–∞–ª–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏.
–î–µ—Ä–µ–≤—å—è –Ω–∏–∂–Ω–µ–≥–æ —É—Ä–æ–≤–Ω—è –¥–≤–æ—Ä–æ–≤ –¥–∞–∂–µ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–∞–º–∏ –Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏ –∫—Ä–∞—è –Ω–∞—à–µ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã. –ù–æ —è —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —Å —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã –º–æ–∂–Ω–æ —Å–∏–≥–∞–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ –∏, —Å–ø—É—Å—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å –ø–æ –Ω–µ–º—É, –±–µ–∂–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–∞–ª—å—à–µ –Ω–µ–∫—É–¥–∞ –±—ã–ª–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å. –î–∞–ª—å—à–µ –±—ã–ª —Ü–µ–Ω—Ç—Ä —Å–µ–ª–∞. –ê –µ—â—ë —á–µ—Ä–µ–∑ —É–ª–∏—Ü—É –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞—Å—å –¥–æ–ª–∏–Ω–∞ —Å–æ –≤–∑–≥–æ—Ä–æ—á–∫–æ–º —É —Ä–µ–∫–∏. –ù–∞ –≤–∑–≥–æ—Ä–æ—á–∫–µ —Å—Ç–æ—è–ª–æ —Ç—Ä—ë—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω–æ–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã –∏–∑ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞. –ß—É—Ç—å –∑–∞–ø–∞–¥–Ω–µ–µ — —à–∫–æ–ª–∞ –∏ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–µ –∑–¥–∞–Ω–∏—è –≤ –ø–∞—Ä–∫–µ. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ — —Ä–∞–∑–Ω–æ–≥–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞ –∂–∏–ª—ã–µ –¥–æ–º–∞. –ë—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å —É–∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –±–æ–º–±–∏–ª–∏. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¥–æ–º–∞ –±–µ–∑ –∫—Ä—ã—à. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ — —Å–≥–æ—Ä–µ–≤—à–∏–µ. –ü–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ê—Ä–≥—É–Ω–∞ —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–π –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ú–æ—Å—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω –≤–∏–¥–µ–Ω –ø–ª–æ—Ö–æ, –Ω–æ —è –µ–≥–æ —É–∑–Ω–∞–ª. –ú—ã –ø–µ—Ä–µ–µ–∑–∂–∞–ª–∏ –µ–≥–æ —Å–µ–¥—å–º–æ–≥–æ –Ω–æ—è–±—Ä—è.
–ü—Ä—è–º–æ –Ω–∞ —é–≥, –≤–≥–ª—É–±—å –≥–æ—Ä–Ω–æ–≥–æ –º–∞—Å—Å–∏–≤–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–æ —É—â–µ–ª—å–µ. –û–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç. –ù–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≥–æ—Ä–µ, –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞—é—â–µ–π —É—â–µ–ª—å–µ —Å–ª–µ–≤–∞, —Å—Ç–æ—è–ª–∞ —Ä–∞–¥–∏–æ—Ä–µ–ª–µ–π–Ω–∞—è –≤—ã—à–∫–∞. –Ø –µ—ë –≤–∏–¥–µ–ª –∏ —Ä–∞–Ω—å—à–µ –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å–∞–º–æ–π –≥–æ—Ä–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≥–æ—Ä–µ–ª–∞. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, —Å–µ–ª–æ –°–µ–ª–∏–º–∞ –≤–æ–Ω —Ç–∞–º, –∑–∞ –ø—Ä–∞–≤–æ–π –≥–æ—Ä–æ–π.
–Ø –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å –ø–µ—Ä—Å–ø–µ–∫—Ç–∏–≤—ã –Ω–∞—à–µ–≥–æ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è —Å —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª. –¢–æ –µ—Å—Ç—å, –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ —Ü–µ–ª–∏ –¥–ª—è —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏—è. –í–µ–¥—å –Ω–µ—Å–æ–º–Ω–µ–Ω–Ω–æ, –º—ã –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ –±–∞–∑–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ò –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω –±—ã–ª –∫–æ–Ω—Å—Ç–∞—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã–±—Ä–∞–Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å —É–¥–∞—á–Ω–æ. –î–æ—Å—Ç–∞—Ç—å —ç—Ç—É –±–∞–∑—É —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞–º–∏ –∑–∞—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ — –Ω–∏ —Å–ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å, –Ω–∏ –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è –≤—ã–≤–µ—Å—Ç–∏ –∏–∑ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –ø—Ä–∏ –∑–∞—Ö–æ–¥–µ —Å —é–≥–∞, –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –°–∞–º–æ–µ —É–¥–æ–±–Ω–æ–µ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –¥–ª—è –∞—Ç–∞–∫–∏ — —Å –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥, –≤–¥–æ–ª—å —É—â–µ–ª—å—è –∏ —Ä—É—Å–ª–∞ –ê—Ä–≥—É–Ω–∞. –í—Å–µ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –º—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ. –°–ê–£—à–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏ –ø–æ –®–∞—Ç–æ—é —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–∞, –∫–ª–∞–ª–∏ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥—ã —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –∏—Ö —Ç—Ä–∞–µ–∫—Ç–æ—Ä–∏—è –ø–∞–¥–µ–Ω–∏—è –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω—É, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞—à –¥–æ–º. –í–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏—è — –º–∏–Ω–∏–º–∞–ª—å–Ω–∞—è.
–ú—ã —É–∫—Ä–µ–ø–ª—è–ª–∏ –æ–∫–Ω–∞ —Å —Ä—ã–∂–∏–º —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–º, –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–º –Ω–∞ –∫–∞–∑–∞—Ö–∞. –° –¥—Ä—É–≥–∏–º —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–º –æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏. –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –±—ã–ª –Ω–∞ —Ä—ã–Ω–æ—á–∫–µ.
— –í–æ–Ω –õ–µ—á–∞, — –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ —Ä—ã–∂–∏–π, — –≤–∏–¥–∏—à—å?
— –í–∏–∂—É, — —è —É–∑–Ω–∞–ª –õ–µ—á—É –ø–æ –ø–æ—Ö–æ–¥–∫–µ.
–î–æ —Ä—ã–Ω–æ—á–∫–∞ –≤–Ω–∏–∑—É –±—ã–ª–æ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞. –í–¥—Ä—É–≥ —Å–ª–µ–≤–∞, –∏–∑ —É—â–µ–ª—å—è –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–∞ –ø–∞—Ä–∞ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–æ–≤. –Ý—ã–Ω–æ—á–µ–∫ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ–ø—É—Å—Ç–µ–ª. –®—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏ –ø—Ä–æ—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ –®–∞—Ç–æ–π –∏ –±–æ–µ–≤—ã–º —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–º –≤–ª–µ–≤–æ —Å—Ç–∞–ª–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –∫ –∞—Ç–∞–∫–µ. –í–µ–¥—É—â–∏–π –Ω–∞—á–∞–ª —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è —Ä–∞–Ω—å—à–µ, –≤–µ–¥–æ–º—ã–π — —á—É—Ç—å –ø–æ–∑–∂–µ. –û–Ω–∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ –±–æ–µ–≤–æ–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫. –ò–∑ —Ö–≤–æ—Å—Ç–æ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ –æ—Ç—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ç–µ–ø–ª–æ–≤—ã–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã, —á—Ç–æ–±—ã, –≤ —Å–ª—É—á–∞–µ –∞—Ç–∞–∫–∏ –ø–æ –Ω–∏–º —Å—Ç–∏–Ω–≥–µ—Ä–∞–º–∏, –æ—Ç–≤–µ—Å—Ç–∏ –∏—Ö –æ—Ç —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤. –ó–∞–≤—ã–≤–∞—è —Ç—É—Ä–±–∏–Ω–∞–º–∏, –°–£-24 –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç. –°–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã –ø–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞–º –∑–∞—Å—Ç—Ä–æ—á–∏–ª –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç. –û–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ –º–æ—Å—Ç–∞ –Ω–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ. –û–±–∞ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞ —É—à–ª–∏ –≤–¥–æ–ª—å —É—â–µ–ª—å—è –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫ –∏ —Å–∫—Ä—ã–ª–∏—Å—å –∑–∞ –≥–æ—Ä–æ–π. –ê —Ä—ã–Ω–æ—á–µ–∫ —É–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–∞—Ä—É –º–∏–Ω—É—Ç –∑–∞–∂–∏–ª —Å–≤–æ–µ–π –∂–∏–∑–Ω—å—é, –∫–∞–∫ –Ω–∏ –≤ —á—ë–º –Ω–µ –±—ã–≤–∞–ª–æ.
–õ–µ—á–∞ –Ω–µ –æ–±–º–∞–Ω—É–ª. –û–Ω –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –¥–µ—Å—è—Ç—å –ø–∞—á–µ–∫ «–ü—Ä–∏–º—ã», –Ω–æ –æ—Ç–¥–∞–ª –º–Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω—É.
— –ü–æ–∫–∞ —Ç–µ–±–µ —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –Ø –Ω–µ –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –∫—É—Ä–µ–≤–æ –∑–¥–µ—Å—å —Å—Ç–æ–∏—Ç —Ç–∞–∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ.
–î–ª—è –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –õ–µ—á–∞ –∫—É–ø–∏–ª –≥—É–±–Ω—É—é –ø–æ–º–∞–¥—É. –ë–µ–∑ –ø–æ–º–∞–¥—ã –≥—É–±—ã –µ—ë —Ç—Ä–µ—Å–∫–∞–ª–∏—Å—å. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –º—ã —Å–∞–º–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ —Å–µ–±–µ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å. –í –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ –±—ã–ª–∞ –ø–µ—á–∫–∞. –î—Ä–æ–≤–∞ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–æ –∑–∞–≥–æ—Ç–∞–≤–ª–∏–≤–∞—Ç—å –º–Ω–µ. –Ø –Ω–∞—Ä—É–±–∞–ª –∏—Ö –∏–∑ —à—Ç–∞–∫–µ—Ç–Ω–∏–∫–∞ –∑–∞–±–æ—Ä–∞.
–í –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∂–µ –¥–µ–Ω—å –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –∫ –Ω–∞–º –ø—Ä–∏—à—ë–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω — —Å–∞–º—ã–π –æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –∏ –ø–æ—Ä—è–¥–æ—á–Ω—ã–π –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ò –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª –¥–≤–∞ –∫—É—Ä—Å–∞ –º–µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç–∞ –≤ –ú–∞—Ö–∞—á–∫–∞–ª–µ. –û–Ω –±—ã–ª –∏–∑ –ø–æ—Ä–æ–¥—ã –ø–æ–¥–ª–∏–Ω–Ω—ã—Ö –∏–Ω—Ç–µ–ª–ª–∏–≥–µ–Ω—Ç–æ–≤. –î–∞–∂–µ –≤–Ω–µ—à–Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –ø–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ –°–æ–∫—Ä–∞—Ç–∞. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –Ω–∞ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —è –≤–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ —Ä–∏—Å—É–Ω–∫–∞—Ö –∏ —Ñ—Ä–µ—Å–∫–∞—Ö. –¢–∞–∫–æ–π –∂–µ –∫—É–¥—Ä—è–≤—ã–π, —Å –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º–∏ –∑–∞–ª—ã—Å–∏–Ω–∞–º–∏. –û–Ω –ø—Ä–∏—à—ë–ª –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–µ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –Ω–∞—Å, –∏ –º—ã –±—ã–ª–∏ —Ç–∞–∫ –∂–µ –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–µ —ç—Ç–æ–º—É —Ä–∞–¥—ã.
— –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω, — —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –≤–µ–¥—É—Ç—Å—è –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ, –∞ –≤–æ–µ–Ω–Ω–∞—è –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è. –ú—ã —Ç–µ—Ä—è–µ–º —Å–≤—è–∑—å —Å –ª—é–¥—å–º–∏, –≤–µ–¥—É—â–∏–º–∏ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –æ –≤–∞—à–µ–º –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏, –∏, –∑–∞—á–∞—Å—Ç—É—é, –Ω–µ –º–æ–∂–µ–º –∏–º —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –≥–¥–µ –±—É–¥–µ–º –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞.
— –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ –ø—Ä–æ –Ω–∞—Å —Ç–∞–∫ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏ –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–µ—Ç? — –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Å –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–æ–π —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∞ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞.
— –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, — –º—ã —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å –ø–æ—Å—ã–ª—å–Ω–æ–≥–æ. –ù–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —É—Å–ª–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–ª—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ –º–µ—Å—Ç–æ –∑–∞–Ω—è—Ç–æ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞–º–∏. –ú—ã –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –≤—ã–µ–∑–∂–∞–µ–º –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –∑–∞ 15 –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ö–∞–∫ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –±—É–¥–µ—Ç –¥–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ –Ω–∞—Å? –¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø—Ä–æ–π–¥—ë—Ç –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –º–µ—Å—è—Ü–∞, –ø–æ–∫–∞ –æ–Ω —Å –Ω–∞–º–∏ —Å–≤—è–∂–µ—Ç—Å—è, –∏ —Ç–æ, –ø—Ä–∏ —É—Å–ª–æ–≤–∏–∏, —á—Ç–æ –º—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ–º—Å—è –∑–¥–µ—Å—å, –≤ –®–∞—Ç–æ–µ.
— –ê —Ä–∞–∑–≤–µ –º—ã –≤ –®–∞—Ç–æ–µ?
— –ó–∞–±—É–¥—å—Ç–µ. –í–∞–º —ç—Ç–æ–≥–æ –∑–Ω–∞—Ç—å –Ω–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ.
— –•–æ—Ä–æ—à–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — –≤—ã –Ω–µ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–π—Ç–µ—Å—å, –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, –º—ã –≤–∞—Å –Ω–µ –≤—ã–¥–∞–¥–∏–º.
— –°–ø–∞—Å–∏–±–æ, — –ø–æ–±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω —Å —É–ª—ã–±–∫–æ–π, — —è –≤–∞–º —Ç—É—Ç –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å. –ê –ª–∏—á–Ω–æ –≤–∞–º, –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞, — —à–æ–∫–æ–ª–∞–¥–∫—É.
–ü–æ—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ú—ã –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –∏ –¥–∞–∂–µ –≤–∫—É—Å –∑–∞–±—ã–ª–∏. –ù–æ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞ —ç—Ç–æ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å —É–∂ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω—ã–º –∂–µ—Å—Ç–æ–º. –ù–∞ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–µ –£—Ä–∞–∑–∞ –ë–∞–π—Ä–∞–º –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç –∏ —à–æ–∫–æ–ª–∞–¥—É —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç –≤—Å–µ–º –∏ –≤–≤–æ–ª—é.
–ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–º –±—ã–ª–æ –∏ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è –º–æ–∏–º–∏ –∑–∞–Ω—è—Ç–∏—è–º–∏ —Ñ–∏–∑–∏–∫–æ–π. –û–± —ç—Ç–æ–º –æ–Ω –º–æ–≥ –∑–Ω–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç –ò–≤–∞–Ω–∞. –ù–æ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, —á—Ç–æ –æ–Ω –∑–∞–¥–∞–ª, –ø–æ–≤–µ—Ä–≥ –º–µ–Ω—è –≤ –Ω–µ–¥–æ—É–º–µ–Ω–∏–µ. –¢–∞–∫–æ–≥–æ –ò–≤–∞–Ω—É —è –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, — –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤–∞—à–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –¥–∞–ª–µ–∫–∞ –æ—Ç –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è?
–Ø –Ω–µ —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ–Ω—è–ª, –∫–∞–∫—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É, –∞ —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏–µ –æ–Ω –∏–º–µ–µ—Ç –≤ –≤–∏–¥—É. –ù–æ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω —É—Ç–æ—á–Ω–∏–ª:
— –Ø –∏–º–µ—é –≤ –≤–∏–¥—É —Å–∞–º–æ–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–µ — –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø—Ä–∏–º–µ–Ω–µ–Ω–∏–µ –≤–∞—à–µ–π —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ç–µ–æ—Ä–∏–∏.
— –ë–æ–º–±—É?
— –ò–º–µ–Ω–Ω–æ.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å —è –±—ã–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ª–∏–±–æ —ç—Ç–æ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Ñ–∏–∑–∏–∫, –ª–∏–±–æ –µ–≥–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –∫ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—É. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª–∏—Å—Ç –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏ –ø–ª–æ–¥–∞–º–∏ —Ç—Ä—É–¥–∞ —Å–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ñ–∏–∑–∏–∫–æ–≤-—Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏–∫–æ–≤ —è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ –≤–∏–¥—ã –æ—Ä—É–∂–∏—è. –ò –Ω–µ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —Ñ–∏–∑–∏–∫–∏ —Ç–∞–∫–∏–µ –ø–ª–æ—Ö–∏–µ. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –±–æ–º–±–∞ — —Å–∞–º—ã–π –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∏ —Å–∞–º—ã–π –¥–µ—à—ë–≤—ã–π –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç –≤ —Ñ–∏–∑–∏–∫–µ –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏–π.
— –ê –≤—ã –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç–µ —Å–µ–±–µ, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –Ω—É–∫–ª–æ–Ω–Ω–∞—è –±–æ–º–±–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞.
— –ù—É, — –∑–∞–º—è–ª—Å—è –æ–Ω, — –≤ –æ–±—â–∏—Ö —á–µ—Ä—Ç–∞—Ö.
–Ø —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.
— –ù–µ –ø—É—Ç–∞–π—Ç–µ –Ω—É–∫–ª–æ–Ω–Ω—É—é –±–æ–º–±—É —Å –Ω–µ–π—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–æ–π. –ù–µ–π—Ç—Ä–æ–Ω–Ω–∞—è —É–±–∏–≤–∞–µ—Ç –≤—Å—ë –∂–∏–≤–æ–µ –∏ –Ω–µ —Ç—Ä–æ–≥–∞–µ—Ç —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫—É. –ù—É–∫–ª–æ–Ω–Ω–∞—è — –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç.
— –¢–æ–≥–¥–∞ —á–µ–º –∂–µ –æ–Ω–∞ –ª—É—á—à–µ –∞—Ç–æ–º–Ω–æ–π?
— –û–Ω–∞ — —Ö—É–∂–µ! — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è –ë–∏—Å–ª–∞–Ω—É. — –ü—Ä–∏ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö –Ω—É–∫–ª–æ–Ω–Ω–∞—è –±–æ–º–±–∞ –º–æ–∂–µ—Ç –ø–æ–¥–∂–µ—á—å –ó–µ–º–ª—é!
— –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –æ–Ω–∞ –ª—É—á—à–µ, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –í –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–º –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —Ç–∞–∫–∏–µ –º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç–∏?
— –í–∏–¥–∏—Ç–µ –ª–∏, –∞—Ç–æ–º–Ω–∞—è –∏ —è–¥–µ—Ä–Ω–∞—è –±–æ–º–±—ã –≤—ã–¥–µ–ª—è—é—Ç –ø—Ä–∏ –≤–∑—Ä—ã–≤–µ —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏—é —Å–≤—è–∑–∏ –ø—Ä–∏ —Ä–∞—Å—â–µ–ø–ª–µ–Ω–∏–∏ –∏–ª–∏ —Å–ª–∏—è–Ω–∏–∏ —è–¥–µ—Ä —Å–æ–æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ. –ù—É–∫–ª–æ–Ω–Ω–∞—è –±–æ–º–±–∞ –º–æ—â–Ω–µ–µ –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–æ–≤. –û–Ω–∞ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞–µ—Ç —ç–Ω–µ—Ä–≥–∏—é —Å–≤—è–∑–∏ –º–µ–∂–¥—É –≥–ª—é–æ–Ω–∞–º–∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –Ω—É–∫–ª–æ–Ω–æ–≤ — –ø—Ä–æ—Ç–æ–Ω–æ–≤ –∏ –Ω–µ–π—Ç—Ä–æ–Ω–æ–≤.
«–í–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å, — –¥—É–º–∞–ª —è, — –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω —Ñ–∏–∑–∏–∫, —Ç–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç –æ —Å—Ç–∞–±–∏–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–æ—Ç–æ–Ω–∞». –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª.
— –ü–æ–∂–∞–ª—É–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, — —è –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª, –Ω–æ –¥—É–º–∞—é, —É –Ω–∞—Å –µ—â—ë –±—É–¥–µ—Ç –≤—Ä–µ–º—è –æ–± —ç—Ç–æ–º –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å.
— –°–ø–∞—Å–∏–±–æ –∑–∞ —Ç–∞–∫–∏–µ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—ã, — –ø–æ–±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª —è –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞. — –ú–Ω–µ –∏ –≤ –°–∞–º–∞—Ä–µ –æ–± —ç—Ç–æ–º –Ω–µ —Å –∫–µ–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å, –∫—Ä–æ–º–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ-–¥–≤—É—Ö —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫.
— –≠—Ç–∏ –ª—é–¥–∏ –∏–∑ –§–°–ë?
— –ü—Ä–∏ —á—ë–º –∑–¥–µ—Å—å –§–°–ë? — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –•–æ—Ç—è, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∏–º —Å—Ç–æ–∏—Ç —Å–ª–µ–¥–∏—Ç—å –∑–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–º–∏ –≤ —ç—Ç–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–µ–º–∞—Ç–∏–∫–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–∞, —á—Ç–æ –∏ –≤–æ –≤—Å—ë–º –º–∏—Ä–µ –æ–± —ç—Ç–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –∑–Ω–∞—é—Ç –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ê –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ–º—Å—è –µ—é —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º—ã.
— –ò –≤—Å—ë –∂–µ, — –Ω–∞—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, — –µ—Å–ª–∏ –≤–∞–º —Å–æ–∑–¥–∞—Ç—å —É—Å–ª–æ–≤–∏—è, –∫–∞–∫ —Å–∫–æ—Ä–æ –º–æ–∂–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç?
— –î–æ –±–æ–º–±—ã, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –ø—è—Ç–∏ –ª–µ—Ç. –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ —Ç–µ—à—å—Ç–µ —Å–µ–±—è –º—ã—Å–ª—å—é, —á—Ç–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –≤–æ–ø–ª–æ—â–µ–Ω–∏–µ –Ω—É–∫–ª–æ–Ω–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã –ø–æ–¥ —Å–∏–ª—É –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ –≤–∑—è—Ç–æ–º—É —à–µ–π—Ö—É –∏–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –∫–æ—Ä–æ–ª—é –ö—É–≤–µ–π—Ç–∞.
— –ù—É, —ç—Ç–æ —É–∂–µ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –¥–µ–ª–æ, — —Ç–∏—Ö–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –°–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–π –Ω–æ—á–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –≤—Å–µ–º. –ê –º–Ω–µ –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª: — –ú—ã –µ—â—ë –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–º.
–Ø –ø–æ–∂–∞–ª –ø–ª–µ—á–∞–º–∏. –í–æ—Ç —ç—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–ª! –í 1992 –≥–æ–¥—É –≤ –ê–∫–∞–¥–µ–º–≥–æ—Ä–æ–¥–∫–µ –ù–æ–≤–æ—Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–∞ –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –æ–¥–∏–Ω –∞–∑–∏–∞—Ç –∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª –Ω–∞—à–µ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥–µ –∏–ª–∏ –º–Ω–µ –ª–∏—á–Ω–æ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –∞–∑–∏–∞—Ç—Å–∫–∏—Ö —Å—Ç—Ä–∞–Ω. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Å—á—ë—Ç –ª–∏—á–Ω–æ —è —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ä–µ—à–∏–ª –æ–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω–æ: –∏–∑ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ —É–µ–¥—É. –ö–æ–º–∞–Ω–¥–∞ —Ä–µ—à–∏–ª–∞ —Ç–∞–∫ –∂–µ. –ù–æ –≤–µ–¥—å —Ç–æ–≥–¥–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±—ã–ª–∞ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∞: —Ç—Ä–æ–µ –≤ –°–∞–º–∞—Ä–µ –∏ –¥–≤–æ–µ –≤ –ù–æ–≤–æ—Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫–µ. –≠—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è–¥—Ä–æ. –ê –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –µ—â—ë 90 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∏–∑ –≤–æ—Å—å–º–∏ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–≤. –ò –±–æ–ª—å—à–æ–π —Ç–µ–ª–µ—Å–∫–æ–ø, –∏ –¥–∞–∂–µ –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç —è–¥–µ—Ä–Ω—ã—Ö –∏—Å—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–π. –ë—ã–ª–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∞—è –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–∞ –ø–æ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏—é —Å–≤–µ—Ä—Ö–º–æ—â–Ω—ã—Ö —Ñ–æ—Ç–æ–Ω–Ω—ã—Ö —ç–Ω–µ—Ä–≥–æ—Å–∏—Å—Ç–µ–º. –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ –¥–æ—à–ª–æ –¥–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤? –ò–º-—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∏ –∫ —á–µ–º—É. –ò–º –Ω—É–∂–µ–Ω –º–æ—â–Ω—ã–π —Ñ—É–≥–∞—Å –∏–ª–∏ «—Å—Ç–∏–Ω–≥–µ—Ä». –ê –≤–æ—Ç –ø—Ä–æ–¥–∞—Ç—å –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–µ — —ç—Ç–æ –æ–Ω–∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞—é—Ç—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞. –ê –¥–ª—è –º–µ–Ω—è —ç—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –∏–∑ –æ–≥–Ω—è, –¥–∞ –≤ –ø–æ–ª—ã–º—è.
–ù–∞ —ç—Ç—É —Ç–µ–º—É –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã —Ä–∞–∑–º—ã—à–ª—è—Ç—å –∏ –¥–∞–ª—å—à–µ, –Ω–æ –º–µ—à–∞–ª–∏ –°–ê–£—à–∫–∏. –û–Ω–∏ –±—É—Ö–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –∫–∞–∂–¥—ã–µ –ø—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç. –ú—ã —É–∂–µ –Ω–∞—É—á–∏–ª–∏—Å—å –∏—Ö –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è—Ç—å. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –±—É—Ö–∞–ª –∑–≤—É–∫ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞, —Ç—Ä–æ–µ–∫—Ä–∞—Ç–Ω–æ –æ—Ç—Ä–∞–∂—ë–Ω–Ω—ã–π –æ—Ç –≥–æ—Ä —Å —é–≥–∞. –°–Ω–∞—Ä—è–¥ –¥–æ–ª–µ—Ç–∞–ª –ø–æ–∑–∂–µ. –í–∑—Ä—ã–≤ —Å–æ—Ç—Ä—è—Å–∞–ª –∏ –¥–æ–º–∏–∫, –∏ –≤—Å—é —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—É –¥–æ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –º—ã –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏ –∫—É–¥–∞ –ø–æ–ø–∞–¥—ë—Ç —Å–Ω–∞—Ä—è–¥. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –º–æ—Å—Ç. –≠—Ç–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞–ª–æ.
–ë–∏—Å–ª–∞–Ω —á–∞—Å—Ç–æ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –Ω–∞–º, –Ω–æ –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑ –≤ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ –õ–µ—á–∏ –•—Ä–æ–º–æ–≥–æ. –ú–µ–∂–¥—É –Ω–∏–º–∏ –±—ã–ª–∏ —Ç—ë–ø–ª—ã–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –±—Ä–∞—Ç—å—è–º–∏. –ù–æ –õ–µ—á–∞ –Ω–µ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª –Ω–∏ –∫ –∫–∞–∫–∏–º —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞–º.
–í —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å —è –¥–æ—Ä—É–±–∞–ª –Ω–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ —à—Ç–∞–∫–µ—Ç–Ω–∏–∫–∞. –ó–∞–¥—É–º—ã–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞–¥ —Ç–µ–º, –≥–¥–µ –±—Ä–∞—Ç—å –¥—Ä–æ–≤–∞ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞. –í—Å–µ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ –∑–∞–±–æ—Ä—ã —è —É–∂–µ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∏–ª. –í –∞–Ω–≥–∞—Ä–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —à—Ç–∞–±–µ–ª–µ–π –¥–æ—Å–æ–∫. –•–æ—Ä–æ—à–∏–µ –¥–æ—Å–∫–∏. –ò—Ö –±—ã–ª–æ –∂–∞–ª–∫–æ –Ω–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞.
–í –Ω–µ–±–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏. –£ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã –∑–∞—Å—Ç—É—á–∞–ª –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç.
— –ó–∞—á–µ–º –æ–Ω–∏ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—é—Ç?! — –≤–æ–∑–º—É—â–∞–ª—Å—è —Ä—ã–∂–∏–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–π –Ω–∞ –∫–∞–∑–∞—Ö–∞. — –í–µ–¥—å –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –Ω–µ –ø–æ–ø–∞–¥—É—Ç, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∫ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞—é—Ç.
— –ú—ã —É–∂–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –∏–º –ø—Ä–æ —ç—Ç–æ, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –µ–º—É –¥—Ä—É–≥–æ–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, — –Ω–æ –æ–Ω–∏ — –ª—é–¥–∏ –•–∞—Ç—Ç–∞–±–∞. –ò–º —á—ë—Ä—Ç –Ω–µ –±—Ä–∞—Ç. –ú–æ–ª–æ–¥—ã–µ, –¥—É—Ä–∞–∫–∏, –∫—Ä–æ–≤—å –∏–≥—Ä–∞–µ—Ç.
— –ß—Ç–æ –∂–µ —É –≤–∞—Å, — —Ä–æ–±–∫–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è, — –Ω–µ—Ç –∑–¥–µ—Å—å –µ–¥–∏–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è?
— –¢–µ–±—è —ç—Ç–æ –Ω–µ –∫–∞—Å–∞–µ—Ç—Å—è, — –±—Ä–æ—Å–∏–ª —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. — –¢—ã –¥—Ä–æ–≤–∞ –Ω–∞–∫–æ–ª–æ–ª?
— –°–∫–æ—Ä–æ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞—é.
— –û—Ç–¥–∞—à—å —Ç–æ–ø–æ—Ä –≤–æ—Ç –µ–º—É, — –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞, —Å—Ç–æ—è—â–µ–≥–æ —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ–π.
–¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –ö–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª —Ç–∏—Ö–∏–π, —Ä–æ–±–∫–∏–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü.
— –Ø —É–∂–µ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –µ–º—É.
–û–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –∂–µ—Å—Ç —Ä—É–∫–æ–π, —á—Ç–æ, –º–æ–ª, –¥–∞–≤–∞–π-–¥–∞–≤–∞–π, —è –ø–æ–¥–æ–∂–¥—É. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –ø—Ä–æ—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ –Ω–∞–¥ —Å–µ–ª–æ–º –∏ —É—à–ª–∏ –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—Ç —Å –Ω–∞–±–æ—Ä–æ–º –≤—ã—Å–æ—Ç—ã. –¢—É—Ç —É–∂ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –≤—Å—ë –±—Ä–æ—Å–∞—Ç—å –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, –∫—É–¥–∞ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –±—É–¥—É—Ç –∑–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –¥–ª—è –∞—Ç–∞–∫–∏. –ê –∑–∞–æ–¥–Ω–æ –∏ –∏—Å–∫–∞—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ –∫—É–¥–∞ –±–µ–∂–∞—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ –±—É–¥—É—Ç –∑–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞ –Ω–∞—Å.
–°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –∏, –≤ –æ–±—â–µ–º, –ø–æ—à–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Å. –ò –º—ã —É–∂–µ –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –≤—Ä–∞—Å—Å—ã–ø–Ω—É—é, –Ω–æ —Ç—É—Ç —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≤–µ–¥—É—â–∏–π –¥–∞–ª –∑–∞–ª–ø —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏ –ø–æ —Å–µ–ª—É, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ –¥–∞–ª–µ–∫–æ –∑–∞ —Ä–µ–∫–æ–π. –í—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –æ—Ç—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª —Ç—É–¥–∞ –∂–µ. –ê –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤–µ–¥—É—â–∏–π –±—ã–ª —É–∂–µ –Ω–∞–¥ —à–∫–æ–ª–æ–π, –Ω–æ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞–º–∏ –≤—ã—à–µ. –ü—É–ª–µ–º—ë—Ç —É –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã –Ω–µ —É–º–æ–ª–∫–∞–ª. –ü–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è–º –≤–µ–¥–æ–º–æ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–æ–≥–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç –±—ã–ª –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω. –í–µ–¥–æ–º—ã–π, –ø–æ—Å–ª–µ –∞—Ç–∞–∫–∏ —Ü–µ–ª–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–∏–∑–∫–æ–π –≤—ã—Å–æ—Ç–µ, –ø—Ä–æ—Å–∫–æ—á–∏–ª –Ω–∞–¥ —à–∫–æ–ª–æ–π –∏ –±–æ–µ–≤—ã–º —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–º —É—à—ë–ª –∫ –≤–µ–¥—É—â–µ–º—É. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–∫—Ä—ã–ª–∏—Å—å –≤ —Å–∫–ª–∞–¥–∫–∞—Ö —É—â–µ–ª—å—è. –û–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∞.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –æ—Ç–¥–∞–≤–∞–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä —á–µ—á–µ–Ω—Ü—É, –æ–Ω —Ç–∏—Ö–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —É –º–µ–Ω—è:
— –¢–∏ —Å–æ–ª—å–¥–∞—Ç?
— –ù–µ—Ç, –Ω–µ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ú–Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Ç–∏ —Å–æ–ª—å–¥–∞—Ç, — —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –∏–∑–≤–∏–Ω—è—è—Å—å.
–û–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –µ—â—ë —Ö–æ—Ç–µ–ª —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å —É –º–µ–Ω—è. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª —ç—Ç–æ, –Ω–æ —Å–∞–º –Ω–∞ —Ä–æ–∂–æ–Ω –ª–µ–∑—Ç—å –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª. –ü–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏ —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–ª–æ—Ö–æ. –ò —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ –¥–ª—è –µ–≥–æ –≤–æ–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞. –ù–∞ –≤–∏–¥ –µ–º—É — –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–∞–º–∞—è –∑–µ–ª—ë–Ω–∞—è –º–æ–ª–æ–¥—ë–∂—å –ø–ª–æ—Ö–æ –∑–Ω–∞–ª–∞ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –º–æ–≥–ª–∏ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –±–µ–∑ –∞–∫—Ü–µ–Ω—Ç–∞.
–î–∞–ª–µ–∫–æ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ, –∫–∞–∫ –µ—â—ë –æ–¥–Ω–∞ –ø–∞—Ä–∞ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–æ–≤ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—Ç –ø–æ –Ω–∞–∑–µ–º–Ω–æ–π —Ü–µ–ª–∏. –ü–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –ø–∞—Ä–∞ –∏ –Ω–∞–¥ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º —Å–µ–ª–æ–º –∏–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –¥–æ–º–æ–≤ —É –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è –≥–æ—Ä—ã —Å —Ä–µ—Ç—Ä–∞–Ω—Å–ª—è—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –≤—ã—à–∫–æ–π. –ú–µ–Ω—è —É–¥–∏–≤–∏–ª–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Å–ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ —Å–µ–ª–æ –ø–∞—Ä–æ–π, –Ω–æ –Ω–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–∏ —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—Ç –∏ —Ä–∞–∑–æ—à–ª–∏—Å—å –≤ –±–æ–µ–≤–æ–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫. –≠—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –ø–µ—Ä–≤—ã–º –Ω–∞ —Ü–µ–ª—å –ø–∏–∫–∏—Ä—É–µ—Ç –≤–µ–¥—É—â–∏–π, –∞ –∑–∞ –Ω–∏–º — –≤–µ–¥–æ–º—ã–π. –í–µ–¥—É—â–∏–π –∑–∞—à—ë–ª –Ω–∞ —Ü–µ–ª—å –∏ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤—ã–≤–µ–ª —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫ –∏–∑ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –ù–æ –≤–º–µ—Å—Ç–æ –æ–±—ã—á–Ω–æ–≥–æ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –Ω–∞–¥ –¥–æ–º–∞–º–∏ –≤—ã—Ä–æ—Å–ª–æ –æ—Ä–∞–Ω–∂–µ–≤–æ–µ –æ–±–ª–∞–∫–æ. –í–µ–¥–æ–º—ã–π –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª —Ä–∞–∫–µ—Ç–Ω—ã–π –∑–∞–ª–ø –ø—Ä—è–º–æ –≤ —ç—Ç–æ –æ–±–ª–∞–∫–æ.
–°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º –∑–∞—Ö–æ–¥–æ–º –≤–µ–¥—É—â–∏–π –≤–Ω–æ–≤—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–∏–ª —Ü–µ–ª—å –æ—Ä–∞–Ω–∂–µ–≤—ã–º —Å–∏–≥–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–º –¥—ã–º–æ–º. –í–µ–¥–æ–º—ã–π –∞—Ç–∞–∫–æ–≤–∞–ª —Ü–µ–ª—å —Ä–µ–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏. –ù–∞—à–∏ –ª—ë—Ç—á–∏–∫–∏ —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π —É—á–µ–±–Ω—ã–π –ø–æ–ª–∏–≥–æ–Ω. –ö–æ–≥–¥–∞ –¥—ã–º –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤ —Ä–∞—Å—Å–µ—è–ª—Å—è, —è –Ω–µ –¥–æ—Å—á–∏—Ç–∞–ª –≤ —Ç–æ–º —Å–µ–ª–µ –¥–≤—É—Ö –¥–æ–º–æ–≤.
–ù–∞–¥–æ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –æ–±—É—á–∞—Ç—å –º–æ–ª–æ–¥—ë–∂—å –≤ –±–æ–µ–≤—ã—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö, –Ω–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ —ç—Ç–æ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª–æ —Ü–∏–Ω–∏—á–Ω–æ. –ù–µ –≤—è–∑–∞–ª–∞—Å—å —Å —Ç–æ–π –∂—É—Ç–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–≥–µ–¥–∏–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Å–µ–π—á–∞—Å —Ä–∞–∑—ã–≥—Ä—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å —Ç–∞–º, —É –¥–æ–º–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —É–∂–µ –Ω–µ—Ç.
–Ø –º–æ–≥—É –ø–æ–Ω—è—Ç—å —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥—è—Ç —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏—Ö –ª—ë—Ç—á–∏–∫–æ–≤. –û–Ω–∏ –Ω–µ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –ª—é–±—è—Ç –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –±–æ–π—Ü–æ–≤ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª, –Ω–æ –ª—ë—Ç—á–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏–¥—è—Ç –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ. –í—ã–ø–æ–ª–Ω—è—è –ø—Ä–∏–∫–∞–∑, –ø–∏–ª–æ—Ç—ã –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –ª–∏—Ü–æ–º –∫ –ª–∏—Ü—É –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è —Å –≤—Ä–∞–≥–æ–º. –î–∞–∂–µ —É –º–µ–Ω—è, –±—ã–≤—à–µ–≥–æ –ª—ë—Ç—á–∏–∫–∞, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–ª–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç—å –∫ –ø–∏–ª–æ—Ç–∞–º. –ê –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–µ–Ω—è –±–æ–º–±–∏–ª–∏. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —ç—Ç–∏ –≤—Å–ø—ã—à–∫–∏ –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç–∏ —è –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –∫—É–ª—å—Ç–∏–≤–∏—Ä–æ–≤–∞–ª. –î—Ä—É–≥–æ–µ –¥–µ–ª–æ — –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. –ü–µ—á–∞—Ç–Ω–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–µ—Ç –º–Ω–µ –ø—Ä–∏–≤–µ—Å—Ç–∏ –∑–¥–µ—Å—å –≤—ã—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –æ–Ω–∞ –Ω–∞–≥—Ä–∞–∂–¥–∞–ª–∞ –ø–∏–ª–æ—Ç–æ–≤. –ê —è —Ç–æ–≥–¥–∞ —É–∂–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª –ø–æ–Ω–∏–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –∞–≤–∏–∞—Ü–∏—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π –≤–æ–π–Ω–µ –∑–∞–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∞ –Ω–∞ –≤—Å—é –∫–∞—Ç—É—à–∫—É. –û–Ω–∞ –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª–∞ –ø–æ–∫–æ—é –≤—Ä–∞–≥—É –Ω–∏–≥–¥–µ. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–π—á–∞—Å —è –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–ª —Å–ª–æ–≤–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –≤–æ –≤—Å–µ–π –ß–µ—á–Ω–µ –Ω–µ –Ω–∞–π–¥—ë—Ç—Å—è —Å–µ–π—á–∞—Å –º–µ—Å—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –Ω–µ –±–æ–º–±—è—Ç.
–í–µ—á–µ—Ä–æ–≤ –∫ –Ω–∞–º –ø—Ä–∏—à—ë–ª –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤ — –ö—é—Ä–∏ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä «–°—Ç–∞—Ä–æ–π –≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏» –∏–ª–∏ –ü—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–π –≥–≤–∞—Ä–¥–∏–∏ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –î—É–¥–∞–µ–≤–∞. –°–ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–π, –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–Ω—ã–π, –¥–æ–±—Ä–æ–∂–µ–ª–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞—à–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ —Å –Ω–∏–º, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–π –Ω–∞—à–µ–π —Å –Ω–∏–º –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∏ –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º.
–ß–∏—Å—Ç–µ–Ω—å–∫–∞—è, –æ—Ç–≥–ª–∞–∂–µ–Ω–Ω–∞—è —á—ë—Ä–Ω–∞—è —Ñ–æ—Ä–º–∞. –ß—ë—Ä–Ω—ã–π –±–µ—Ä–µ—Ç —Å –æ—Å—Ç—Ä—ã–º –∫–ª–∏–Ω–æ–º —Ç—Ä–µ—É–≥–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞-—à–µ–≤—Ä–æ–Ω–∞ –∏ –∫–æ–∫–∞—Ä–¥–æ–π. –ì–≤–∞—Ä–¥–µ–π—Ü–µ–≤ –≤ —Ç–∞–∫–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–µ —è –≤–∏–¥–µ–ª –≤ –Ý–µ—Å–∫–æ–º–µ — –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç—Å–∫–æ–º –¥–≤–æ—Ä—Ü–µ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –î—É–¥–∞–µ–≤–∞ –≤ 1994 –≥–æ–¥—É. –ù–æ —Ç–µ –±—ã–ª–∏ –µ—â—ë –∏ –ø—Ä–∏ –∞–∫—Å–µ–ª—å–±–∞–Ω—Ç–∞—Ö, –∞ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –≤—ã—á—É—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –ª–∏—à–Ω–µ–≥–æ.
–ö—é—Ä–∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ω–∞—Å –ø–æ–∂–∞–ª–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–∂–∞–ª–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è. –ê –º—ã –Ω–µ –Ω–∞—à–ª–∏, —á—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –î–∞ –æ–Ω–æ –∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ: –∫–∞–∫–∞—è –∫–æ–Ω–≤–µ–Ω—Ü–∏—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–µ—Ç –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—è —É–∫—Ä–∞–¥–µ–Ω–Ω—ã—Ö –Ω–∞ –ø—Ä–æ–¥–∞–∂—É –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤? –ù–∞—à–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã –∫–∞—Å–∞–ª–∏—Å—å –æ–¥–Ω–æ–≥–æ: –∫–∞–∫ –∏–¥—É—Ç –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –æ –Ω–∞—à–µ–º –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏? –ö—é—Ä–∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –∂–¥—ë—Ç –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–∫–∞ –ø–æ –Ω–∞—à–µ–º—É —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –¥–µ–ª—É. –ü–æ –ø–æ–≤–æ–¥—É –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –ø–æ–∫–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏ –Ω–µ—Ç.
–ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ω–∞—Å –Ω–µ –æ—Ç—á–∞–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è. –°–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –∂–∞–ª–µ–µ—Ç –æ —Ç–∞–∫–æ–π –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ–π –º–∏—Å—Å–∏–∏ –ø–æ –Ω–∞—à–µ–π –æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ –∏ —Å–æ–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏—é, —á—Ç–æ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –µ–≥–æ –æ—Ç—Ä—è–¥—É. –ù–æ —Å–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤—ë–ª –æ–Ω —Å–µ–±—è —Å –Ω–∞–º–∏ –ø–æ-—á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ—Å–∫–∏. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∞–º —Ç–∞–∫ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ!
–ö–æ–≥–¥–∞ –ö—é—Ä–∏ —É—à—ë–ª, —Å –Ω–∞–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –≤ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞ –µ–≥–æ —à–æ—Ñ—ë—Ä. –û–Ω –≤—Å—ë —á—Ç–æ-—Ç–æ —à—É—Ç–∏–ª, –±–∞–ª–∞–≥—É—Ä–∏–ª, –∏ —è —É–∑–Ω–∞–ª –≤ –Ω—ë–º —Ç–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ —à–æ—Ñ—ë—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —É–≤–æ–∑–∏–ª –Ω–∞—Å —Å –°–∞—à–∫–æ –∏–∑ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–∞ –≤ –ë–∞–º—É—Ç–µ. –Ø —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–∏ –°–∞—à–∫–æ.
— –û, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –æ–Ω. — –Ø –æ—Ç–≤—ë–∑ –°–∞—à–∫–æ –≤ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏, –≥–¥–µ –º—ã —Å –Ω–∏–º –¥–≤–µ –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–æ –∫–∞–±–∞–∫–∞–º –∏ –∂–¥–∞–ª–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑—É—Ç –¥–µ–Ω—å–≥–∏. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –º—ã –ø—Ä–æ–ø–∏–ª–∏ –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º –ø–æ—Ç–æ–º –∑–∞ –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∏.
–í–µ—Ä–∏—Ç—å —ç—Ç–æ–º—É —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫—É –Ω–µ–ª—å–∑—è. –Ø —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª —ç—Ç–æ. –ù–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –°–∞—à–∫–æ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–∏ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ –¢–±–∏–ª–∏—Å–∏, —Å–æ–≤–ø–∞–¥–∞–ª–æ —Å –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–µ–π –æ—Ç —Ä–∞–¥–∏–æ «–°–≤–æ–±–æ–¥–∞». –ê –ø–æ—Ç–æ–º —à–æ—Ñ—ë—Ä —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–∞–∫–æ–µ, —á—Ç–æ –ø–æ–≤–µ—Ä–≥–ª–æ –º–µ–Ω—è –≤ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–µ —É–Ω—ã–Ω–∏–µ.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –æ–Ω –∫–æ –º–Ω–µ, — –∞ —Ç—ã –ø–æ–º–Ω–∏—à—å –ú—É—Å—É?
— –ö–∞–∫ –Ω–µ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — –Ω–µ –¥–∞–π –±–æ–≥ —Å –Ω–∏–º –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è. –£–∂ –æ–Ω –±—ã –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª!..
— –ê –≤–µ–¥—å –ú—É—Å–∞ –∑–¥–µ—Å—å, — –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä—â–∏—á–µ—Å–∫–∏ —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å, —Å–∫–∞–∑–∞–ª —à–æ—Ñ—ë—Ä. –û–Ω –Ω–µ –º–æ–≥ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ —è –ø–æ–±–ª–µ–¥–Ω–µ–ª.
— –ù—É, —Ç—ã —Å–∏–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–π, — —É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞–ª –æ–Ω –º–µ–Ω—è.
— –ë–∏—Ç—å –±—É–¥–µ—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ó–∞ —á—Ç–æ? — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —à–æ—Ñ—ë—Ä. — –≠—Ç–æ –æ–Ω —Å–∞–º –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç. –ü–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏–∑-–∑–∞ —Ç–µ–±—è, –Ω–æ –µ—Å–ª–∏ —á—Ç–æ, –º—ã –µ–≥–æ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–º.
–°–ª–æ–≤–∞ —ç—Ç–∏, –¥–∞ –µ—â—ë –∏–∑ —É—Å—Ç —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –≤—Ä–∞–ª—è –º–µ–Ω—è –º–∞–ª–æ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–∏. –ß–µ–≥–æ-—á–µ–≥–æ, –∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ —Å –ú—É—Å–æ–π –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–≤–µ—â–∞–ª–∞ –Ω–∏—á–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ.
–£—Ç—Ä–æ–º —è –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –ø–∏–Ω–∞–ª–∏ –≤ –Ω–æ–≥—É. –û—Ç–∫—Ä—ã–≤ –≥–ª–∞–∑–∞, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ –º–Ω–æ–π —Å—Ç–æ–∏—Ç –ú—É—Å–∞. –Ø –≤–µ—Å—å —Å–∂–∞–ª—Å—è. –í—Å—Ç–∞–ª. –ù–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª —Ä—É–∫—É.
— –ù—É, –∑–¥–æ—Ä–æ–≤–æ, –±–µ–≥–ª–µ—Ü! — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å.
— –ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π—Ç–µ, — –≤—ã–¥–∞–≤–∏–ª —è –∏–∑ —Å–µ–±—è.
— –ù—É, –∑–∞–¥–∞–ª –∂–µ —Ç—ã –º–Ω–µ –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º —Å–≤–æ–∏–º –ø–æ–±–µ–≥–æ–º, — –ú—É—Å–∞ —Å–µ–ª –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª –∏ –∂–µ—Å—Ç–æ–º –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å —Ä—è–¥–æ–º.
— –¢—ã —Å–∫–∞–∂–∏ —á–µ—Å—Ç–Ω–æ, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –æ–Ω, — –≥–¥–µ –±—ã–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Ç–µ–±—è –∏—Å–∫–∞–ª–∏ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å?
— –ù–∞ –≥–æ—Ä–µ, –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ç–≤–æ–µ–≥–æ –¥–æ–º–∞, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è.
— –í—Ä—ë—à—å, –º—ã —Ç–∞–º –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–ª–∏. –í–∞—Ö–∞ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–ª.
— –≠—Ç–æ —Ç–æ—Ç, —á—Ç–æ –±—ã–ª –≤ –≥–æ–ª—É–±–æ–π —Ä—É–±–∞—à–∫–µ?
— –î–∞, –æ–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É, –∏ —Ç–∞–º –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
— –í–∞—Ö–∞ —Ö–æ–¥–∏–ª –≤–¥–æ–ª—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –∏ –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É –Ω–µ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è, — —Ç–∏—Ö–æ –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è.
— –¢–∞–∫! –ó–Ω–∞—á–∏—Ç –Ω–µ–ª—å–∑—è –µ–º—É –≤–µ—Ä–∏—Ç—å. –í—Å—ë –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è—Ç—å —Å–∞–º–æ–º—É. –ù–æ —è –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç—ã –¥–∞–ª–µ–∫–æ –Ω–µ —É–π–¥—ë—à—å. –ï—Å–ª–∏ –±—ã —Ç—ã —É–º–µ—Ä, —è –±—ã –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Ä–∞—Å–ø–ª–∞—Ç–∏–ª—Å—è. –¢–µ–±–µ —á—Ç–æ, –ø–ª–æ—Ö–æ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–æ? –°–µ–π—á–∞—Å –ª—É—á—à–µ?
— –ú—É—Å–∞, — –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–ª —è –µ–º—É, — —Ç—ã –∂–µ —Å–∞–º —Å–∏–¥–µ–ª –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ, –∏ –∑–Ω–∞–µ—à—å, —á—Ç–æ —Å–≤–æ–±–æ–¥—É –Ω–∏ –Ω–∞ —á—Ç–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è –ø—Ä–æ–º–µ–Ω—è—Ç—å.
— –ó–Ω–∞—é, –∑–Ω–∞—é, — –≤–æ—Ä—á–∞–ª –ú—É—Å–∞. — –ù–æ –∏ —Ç—ã –∑–Ω–∞–π, —á—Ç–æ –∏–∑-–∑–∞ —Ç–≤–æ–µ–≥–æ –ø–æ–±–µ–≥–∞ –º–µ–Ω—è –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –ø–∏—Ç—å –∏ –∫—É—Ä–∏—Ç—å.
–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞ –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω—ë—Å —Å –æ—Å–æ–±—ã–º —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–º.
— –£ —Ç–µ–±—è —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã –µ—Å—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
–Ø –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –µ–º—É –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é, –æ—Å—Ç–∞–≤—à—É—é—Å—è —É –º–µ–Ω—è —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É. –¢–æ—Ç –∑–∞–∫—É—Ä–∏–ª.
— –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤–æ—Ç –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –∫—É—Ä–∏—Ç—å —É–∫—Ä–∞–¥–∫–æ–π –æ—Ç–æ –≤—Å–µ—Ö.
–í–æ—Ç —Ç–∞–∫ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –º–æ—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞ —Å –ú—É—Å–æ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –æ–ø—è—Ç—å –±—ã–ª –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω –∫ –Ω–∞–º –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–º.
–í—Ç–æ—Ä–æ–π –¥–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–µ –∏ –∏–º–µ–ª –±–æ–ª–µ–µ –∂–∏–ª–æ–π –≤–∏–¥, –±—ã–ª —à—Ç–∞–±–æ–º –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞. –í–æ–∑–ª–µ –¥–æ–º–∞ —á–∞—Å—Ç–æ —Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É –º–∞—à–∏–Ω. –í –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –¥–∂–∏–ø–æ–≤. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ —É –¥–æ–º–∞ — —ç—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –æ–ø–∞—Å–Ω–æ. –í—Å—è–∫–∞—è –º–∞—à–∏–Ω–∞ — –ø–æ—Ç–µ–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ü–µ–ª—å –¥–ª—è —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞. –ú—ã –∏ —É –°–µ–ª–∏–º–∞ –Ω–µ—Ä–≤–Ω–∏—á–∞–ª–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å –¥–æ–º–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞. –ù–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –±—ã–ª –ª–µ—Å, —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –º–∞—à–∏–Ω—É —Å –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –±—ã–ª–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ, —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É. –ó–¥–µ—Å—å –∂–µ, –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–π –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã, –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—Ü–∞.
–í —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –º–Ω–µ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª–∏ –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –¥—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Ç—Ä–æ–µ —Å—É—Ç–æ–∫. –û–±—ä—è—Å–Ω–µ–Ω–∏–π, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª–∏. –í–∏–¥–∏–º–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å—É–º–∞—Å–±—Ä–æ–¥–Ω–æ–µ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ. –í –ø–æ–º–æ—â—å –¥–∞–ª–∏ —Å–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–≥–æ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É —è –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–≤–∞–ª –ø–∏–ª—É. –í–º–µ—Å—Ç–µ –º—ã —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ. –Ø –±—ã–ª —É–¥–∏–≤–ª—ë–Ω –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ–≥–æ –º–æ–ª—á–∞–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å—é, –Ω–æ –∏ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç–æ–≥–æ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞ –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è–ª–∏ —Ç–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –º–µ–Ω—è.
–ë–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç –æ–Ω –±—ã–ª –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –æ–±—ã—á–Ω–æ. –°–∫–æ—Ä–µ–µ — –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∑–∞—Ä–æ—Å —â–µ—Ç–∏–Ω–æ–π. –ü–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã, –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞—è –±–æ—Ä–æ–¥—É, —É—Å–æ–≤ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç. –£ —ç—Ç–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ –∏ —É—Å—ã. –£ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –∂–µ–ª–∞–Ω–∏–µ –ø–µ—Ä–µ–∫–∏–Ω—É—Ç—å—Å—è —Å –Ω–∏–º –ø–∞—Ä–æ–π —Ñ—Ä–∞–∑. –ù–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å: –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –º—ã —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–∏–ª–∏ —Ç—Ä—É–¥. –û–Ω —Ä—É–±–∏–ª —à—Ç–∞–∫–µ—Ç–Ω–∏–∫ —Å–æ—Å–µ–¥—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞–±–æ—Ä–∞, –∞ —è —Ç–∞—Å–∫–∞–ª –¥—Ä–æ–≤–∞ –≤ –¥–æ–º.
–ó–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É –ø—Ä–µ—Ä–≤–∞–ª –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π.
— –•–≤–∞—Ç–∏—Ç, — —Ä–µ–∑–∫–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –¢–µ–ø–µ—Ä—å, — –æ–Ω —Ç–∫–Ω—É–ª –≤ –º–µ–Ω—è –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º, — —Å–¥–µ–ª–∞–µ—à—å —Å—Ç–æ–ª. — –û–Ω, — –õ–µ—á–∞ —É–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç–æ–≥–æ, — –±—É–¥–µ—Ç —Ç–µ–±–µ –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å.
— –ò–∑ —á–µ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å —Å—Ç–æ–ª? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è —É –õ–µ—á–∏. — –ò –∫–∞–∫–∏—Ö —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–≤?
— –í–æ—Ç –æ–Ω –∑–Ω–∞–µ—Ç, — –õ–µ—á–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ç–∫–Ω—É–ª –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –≤ –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç–æ–≥–æ. — –û–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—Ç —Ç–µ–±–µ. –ï—Å–ª–∏ —Å–º–æ–∂–µ—Ç…
–ü–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–Ω —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª—Å—è –∏ —É—à—ë–ª. –ú—ã —Å –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–º –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ–¥–Ω–∏. –ó–∞ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–∏—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–æ –≤–±–ª–∏–∑–∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
— –í–∏ —Å–æ–ª—å–¥–∞—Ç? — —Ç–∏—Ö–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π.
— –ö–∞–∫–æ–π –∂–µ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç? — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —è. — –û–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç. –ó–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫.
— –ô–µ—Å! — –≤–æ—Å–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω. — –ô–∞ —Ç–∞–∫ –∏ –¥—É–º–∞–ª—å!
–í—ã–≥–æ–≤–æ—Ä –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç–æ–≥–æ –±—ã–ª –Ω–µ –æ–±—ã—á–µ–Ω. –ù–µ –æ–±—ã—á–µ–Ω, –¥–∞–∂–µ –¥–ª—è —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞, –ø–ª–æ—Ö–æ –≤–ª–∞–¥–µ—é—â–µ–≥–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º —è–∑—ã–∫–æ–º. –£ –Ω–µ–≥–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –≥–æ—Ä–ª–æ–≤–æ–π –∫–∞—Ä–∫–∞—é—â–∏–π –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏–π –∞–∫—Ü–µ–Ω—Ç.
— –ô–∞ –¥–∂–æ—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—å—Ç. –§—Ä–∞–Ω—Å–µ. –¢—é–ª—é–∑.
–Ø –ø–æ–Ω—è–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω —Ç–æ–∂–µ –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç.
— –≠—Ç–æ –®–∞—Ç–æ–π? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
— –î–∞, –®–∞—Ç–æ–π, — –æ–Ω –Ω–µ–ø–æ–¥–¥–µ–ª—å–Ω–æ —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è. — –ê –º–Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –≤–∏ —Å–æ–ª—å–¥–∞—Ç, –æ—Ñ–∏—Å—å–µ—Ä, –≤–µ—Ä—Ç–æ… —Ö–µ–ª–∏–∫–æ–ø—Ç–µ—Ä.
— Do you speak English? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
— Yes! Yes! — –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–µ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è. — But my English is so-so!
— –ú–æ–π —Ç–æ–∂–µ so-so, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –µ–º—É —è. — –ü–æ–ø—Ä–æ–±—É–µ–º –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è.
–ò –º—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ–±—â–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–º –≤ —Ç–æ–π –º–µ—Ä–µ, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª –º–æ–π —Å–ª–æ–≤–∞—Ä–Ω—ã–π –∑–∞–ø–∞—Å.
— –ú–Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Ç—ã —Å–æ–ª–¥–∞—Ç, — –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π. — –ö–∞–∫ —Ç–µ–±—è –∑–æ–≤—É—Ç?
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –Ø –ë—Ä–∏–∑ –§–ª—ë—Ç—å–æ, — –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª—Å—è –æ–Ω. — –§–æ—Ç–æ–∫–æ—Ä—Ä–µ—Å–ø–æ–Ω–¥–µ–Ω—Ç –∏–∑ –¢—É–ª—É–∑—ã. –¢—ã –¥–∞–≤–Ω–æ –≤ –ø–ª–µ–Ω—É?
— –° –∏—é–Ω—è, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –ê —Ç—ã?
— –ú–µ–Ω—è –≤–∑—è–ª–∏ 1 –æ–∫—Ç—è–±—Ä—è. –Ø —Å–∞–º –¥–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –¥–æ –ì—Ä—É–∑–∏–∏. –ß–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –æ–±–µ—â–∞–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è —á–µ—Ä–µ–∑ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É –≤ –ß–µ—á–Ω—é –∏ –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏—Ç—å —Å –ú–∞—Å—Ö–∞–¥–æ–≤—ã–º. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∏ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü—É — –æ—Ç–æ–±—Ä–∞–ª–∏ –≤—Å—é –∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä—É –Ω–∞ 10 —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤ –∏ —Å–µ–º—å —Ç—ã—Å—è—á –Ω–∞–ª–∏—á–Ω—ã–º–∏.
— –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω–∏ —Ö–æ—Ç—è—Ç –∑–∞ —Ç–µ–±—è?
— –¢—Ä–∏ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤.
— –¢—ã —Å—á–∏—Ç–∞–µ—à—å, –§—Ä–∞–Ω—Ü–∏—è –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç?
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é, — –ë—Ä–∏–∑ –∑–∞–¥—É–º–∞–ª—Å—è. — –ú–æ–∏ —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, —á—Ç–æ –ú–∏—Ç—Ç–µ—Ä–∞–Ω — –Ω–∞—à –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫ –ü—É—Ç–∏–Ω—É —Å –ø—Ä–æ—Å—å–±–æ–π –ø–æ–º–æ—á—å –≤ –º–æ—ë–º –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏. –ê —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–æ—Å—è—Ç –∑–∞ —Ç–µ–±—è?
— –¢–µ –∂–µ —Ç—Ä–∏ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –ù–æ –Ω–µ –∑–∞ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º–µ–Ω—è, –∞ –∑–∞ –¥–≤–æ–∏—Ö: –∑–∞ –º–µ–Ω—è –∏ –∑–∞ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω—É –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É.
— –≠—Ç–æ —Ç–æ—Ç –º—É–∂—á–∏–Ω–∞, —á—Ç–æ —Å–∏–¥–∏—Ç –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –≤–∞–º–∏?
— –ù–µ –º—É–∂—á–∏–Ω–∞, –∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ — –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. –ú—ã –≤–º–µ—Å—Ç–µ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –ß–µ—á–Ω—é –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–∞—Ç—å –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞. –ê –∏–∑ –∫–∞–∫–æ–π —Ç—ã –≥–∞–∑–µ—Ç—ã?
— –Ø —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é –Ω–∞ –º–Ω–æ–≥–∏–µ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã, –∫–∞–∫ —Ñ–æ—Ç–æ—Ä–µ–ø–æ—Ä—Ç—ë—Ä. –Ø –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—ã–π –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç.
— –ò —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–±–µ —É–¥–∞—ë—Ç—Å—è –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å?
— –û–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤ –≤ –º–µ—Å—è—Ü. –≠—Ç–æ –º–∞–ª–æ. –£ –Ω–∞—Å — —ç—Ç–æ –º–∞–ª–æ. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É —è –∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª –≤ –ß–µ—á–Ω—é. –¢–∏—à–µ, –º—ã –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –º–∏–º–æ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –û–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë—Ä–∏–∑—É –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏ –∏ —Ç–æ—Ç –∑–∞–∫–∏–≤–∞–ª.
— –ù–∞–º –≤–µ–ª—è—Ç –ø–æ—Ç–æ—Ä–∞–ø–ª–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–æ —Å—Ç–æ–ª–æ–º, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ë—Ä–∏–∑.
— –¢—ã –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—à—å –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –û—á–µ–Ω—å –ø–ª–æ—Ö–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –Ø –ø–æ–ª–≥–æ–¥–∞ –∏–∑—É—á–∞–ª —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π —è–∑—ã–∫, –∞ –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π. –û–Ω–∏ –≤—Å–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏.
–ë—Ä–∏–∑ —Å—Ç–∞–ª –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å, –∫–∞–∫–æ–π —Å—Ç–æ–ª –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ—Ç—Ä–µ–∑–∞—Ç—å —Å –¥–µ—Å—è—Ç–æ–∫ –¥–æ—Å–æ–∫ –∏ –ø—Ä–∏–±–∏—Ç—å –∏—Ö –æ–¥–Ω—É –∫ –¥—Ä—É–≥–æ–π –Ω–∞ —É–∂–µ –∏–º–µ—é—â–∏–µ—Å—è –Ω–æ–∂–∫–∏ –∏ –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω—ã.
–Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—é—Ç –¥–≤–æ–µ –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –ª–µ—Ç –ø–æ 16-17. –û–Ω–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Å —Å –Ω–µ–ø–æ–¥–¥–µ–ª—å–Ω—ã–º —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –∏ –≤–æ—Å—Ö–∏—â–µ–Ω–∏–µ–º. –î–ª—è –Ω–∏—Ö —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ —á—É–¥–∞: –¥–≤–æ–µ –æ–±—â–∞—é—Ç—Å—è –Ω–µ –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏ –∏ –Ω–µ –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏, –∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é—Ç –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞.
–ê –º—ã –∑–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏ –æ–±—â–∞—Ç—å—Å—è.
— –°–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–±–µ –ª–µ—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –ë—Ä–∏–∑–∞.
— –¢—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å –¥–≤–∞. –ê —Ç—ã –æ—Ç–∫—É–¥–∞?
— –Ø –∏–∑ –°–∞–º–∞—Ä—ã. –¢–µ–ª–µ–∫–æ–º–ø–∞–Ω–∏—è «–¢–µ—Ä—Ä–∞», –∑–Ω–∞–µ—à—å?
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é.
— –ù—É, —Ö–æ—Ç—è –±—ã –≥–æ—Ä–æ–¥ –°–∞–º–∞—Ä—É –∑–Ω–∞–µ—à—å?
–ë—Ä–∏–∑ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ–æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω–æ –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –ø–µ—Ä–µ—á–∏—Å–ª—è—Ç—å:
— –í–æ–ª–≥–æ–≥—Ä–∞–¥, –ù–æ–≤–æ—Å–∏–±–∏—Ä—Å–∫, –°–∞–π–Ω—Ç-–ü–µ—Ç–µ—Ä–±—É—Ä–≥, –ú–æ—Å–∫–≤–∞, –ù–¢–í, –û–Ý–¢, «–í–µ—Å—Ç–∏»…
— –í–æ—Ç-–≤–æ—Ç, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª —è –µ–≥–æ. –ú–æ—Å–∫–≤–∞. –û–Ý–¢. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –Ω–∞ –Ω–∏—Ö —è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª. –ü—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–∞ «–í—Ä–µ–º—è».
— –î–∞-–¥–∞! –ü—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–∞ «–í—Ä–µ–º—è». «–¢–∞–π–º».
— –ë—Ä–∏–∑, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è —è –∫ –Ω–µ–º—É. — –ù–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –∫—Ç–æ –∏–∑ –Ω–∞—Å —Ä–∞–Ω—å—à–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç—Å—è –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞. –°–∫–æ—Ä–µ–µ, —á—Ç–æ —Ç—ã. –ó–∞–ø–æ–º–Ω–∏, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞, –º–æ–π —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω –≤ –°–∞–º–∞—Ä–µ — 41-37-70. –ï—Å–ª–∏ —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è, —Å–æ–æ–±—â–∏ –º–æ–∏–º –∂–µ–Ω–µ –∏ –¥–æ—á–µ—Ä–∏, —á—Ç–æ —è –ø–æ–∫–∞ –µ—â—ë –∂–∏–≤.
–ë—Ä–∏–∑ –∑–∞–∫–∏–≤–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª –Ω–æ–º–µ—Ä —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω–∞ –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª:
— –ù–¢–í. –¢—ã –∂–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –Ω–∞ –ù–¢–í?
— –ù–µ—Ç, –ë—Ä–∏–∑, –Ω–∞ –ù–¢–í —è –Ω–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª.
–ë—Ä–∏–∑ —É–¥–∏–≤–ª—ë–Ω–Ω–æ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, —Ö–æ—Ç–µ–ª —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –µ—â—ë —á—Ç–æ-—Ç–æ, –Ω–æ —Ç—É—Ç –º—ã –æ–±–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏ –õ–µ—á—É –•—Ä–æ–º–æ–≥–æ. –õ–µ—á–∞ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –º—ã –æ–±—â–∞–ª–∏—Å—å, –Ω–æ –æ–±—Ä—É–≥–∞–ª –Ω–µ –Ω–∞—Å, –∞ –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤. –Ý—É–≥–∞–ª –æ–Ω –∏—Ö –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏, –Ω–æ –∏ —Ç–∞–∫ –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, –æ —á—ë–º —Ä–µ—á—å. –ü–æ—Ö–æ–∂–µ, –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ —Ä–µ–±—è—Ç–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É–∑–Ω–∞–ª–∏ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∫—Ä–æ–º–µ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –∏ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤—É—é—Ç –¥—Ä—É–≥–∏–µ —è–∑—ã–∫–∏.
–ü–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–Ω–∏ –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ —Ç–∞–∫ –±–¥–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –∏ —Å–ª–æ–≤–µ—á–∫–æ–º –ø–µ—Ä–µ–∫–∏–Ω—É—Ç—å—Å—è. –ö–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç–æ–ª –±—ã–ª –∑–∞–∫–æ–Ω—á–µ–Ω, –ë—Ä–∏–∑ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å —Å—Ç–æ–ª–µ—à–Ω–∏—Ü—É —Ä—É–±–∞–Ω–∫–æ–º, –∞ –º–µ–Ω—è –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –º–∏–º–æ –¥–≤–µ—Ä–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–º —Å—Ç–æ–ª–µ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—Å—è –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω—Å–∫–∏–π –ø–∏—Ä. –£ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Ç–µ–∫–ª–∏ —Å–ª—é–Ω–∫–∏. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ –∫—É—Å–∫–∏ —Ö–∞–ª–≤—ã. –ü–æ–¥—Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω–æ–π, —Ç–∞—Ö–∏–Ω–Ω–æ–π, –µ—â—ë –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ. –Ý–∞—Ö–∞—Ç-–ª—É–∫—É–º –≤ —Å–∞—Ö–∞—Ä–Ω–æ–π –ø—É–¥—Ä–µ. –ê –∑–∞–ø–∞—Ö! –õ—É—á—à–µ –±—ã –º–Ω–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ—Ç—å. –ò –Ω–µ –Ω—é—Ö–∞—Ç—å.
–ù–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–∞–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –Ω–∞—Ä–∞—Ö –∏ –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª—Å—è: –Ω–µ –ª–µ—Ç—è—Ç –ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã? –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–Ω–∞ —É—à–ª–∞ —Å –ê–Ω—á–∏–∫–æ–º —Å—Ç–∏—Ä–∞—Ç—å –±–µ–ª—å—ë. –ê–≤–∏–∞–Ω–∞–ª—ë—Ç –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞. –ú—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∞—Ç—å –Ω–∞ –ø–æ–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª –∏–∑-–∑–∞ –≥–æ—Ä—ã. –£—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ —Å–≤–∏—Å—Ç —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤–∑—Ä—ã–≤ —Ç–∞–∫–æ–π —Å–∏–ª—ã, —á—Ç–æ –æ—Ç–≤–∞–ª–∏–ª—Å—è –±–æ–ª—å—à–æ–π –∫—É—Å–æ–∫ —à—Ç—É–∫–∞—Ç—É—Ä–∫–∏ —Å –ø–æ—Ç–æ–ª–∫–∞. –í—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã —á—É—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—É. –í–∏–¥–∏–º–æ, —ç—Ç–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –∏–º–µ–ª–∏ —Ü–µ–ª—å—é —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–∞ —É –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã. –ù–æ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å.
–ó–∞ –º–Ω–æ–π –ø—Ä–∏—à—ë–ª –ê–Ω—á–∏–∫ –∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ø–æ–π—Ç–∏ —Å –Ω–∏–º, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–º–æ—á—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ú—ã —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å —Å —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å—ã –∫ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–π –±–∞–Ω–µ –∏–∑ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞. –ü–æ –ø—É—Ç–∏ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –¥–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—Ç–æ—è–ª –ø–æ–¥ –Ω–∞—à–µ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–æ–π, —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω. –ü–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞ –∫—Ä—ã—à–∏ –Ω–∞ –¥–æ–º–µ –±—ã–ª–∞ —Å–Ω–µ—Å–µ–Ω–∞. –ü–æ –¥–≤–æ—Ä—É –±–µ–≥–∞–ª–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –∏ –ø–ª–∞–∫–∞–ª–∏. –û–Ω–∏ –≤—ã—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∏ –∏–∑ –¥–æ–º–∞ –æ–¥–µ–∂–¥—É –∏ –ø–æ—Å—É–¥—É.
–í –±–∞–Ω–µ –±—ã–ª–æ —Ç–µ–º–Ω–æ –∏ —Å—ã—Ä–æ. –í —É–≥–ª—É, —É –æ–∫–Ω–∞, –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–æ–≥–æ –∫–∞—Ä—Ç–æ–Ω–æ–º, –≥–æ—Ä–µ–ª–∞ —Å–≤–µ—á–∞. –ù–æ –ø–æ—Å–ª–µ –¥–Ω–µ–≤–Ω–æ–≥–æ —Å–≤–µ—Ç–∞ –µ—ë –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ. –ë–∞–Ω—è —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–∞—Å—å –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –±–ª–∏–∂–µ –∫ –ø–æ—Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–≤—à–µ–º—É –æ—Ç –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∏ –¥–æ–º—É. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞, –∫–∞–∫ –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–º –≤—ã–±–∏–ª–æ —Å—Ç–µ–∫–ª–æ –≤ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–º –æ–∫–æ—à–∫–µ, –∫–∞–∫ –≤—Å–µ —É–≥–ª–∏ –∏–∑ –ø–µ—á–∫–∏ –≤—ã–±—Ä–æ—Å–∏–ª–æ –Ω–∞ –ø–æ–ª. –°–∞–º–∞ –ø–µ—á–∫–∞ –ø–æ—Ç—É—Ö–ª–∞. –°–≤–µ—Ç–∞ –Ω–µ –ø–æ–º–Ω–∏–ª–∞, –∫–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –ø–æ–ª—É.
–ú–Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –∑–∞–Ω–æ–≤–æ —Ä–∞—Å—Ç–æ–ø–∏—Ç—å –ø–µ—á–∫—É. –í —á–∞–Ω–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –æ–Ω–∞ –Ω–∞–≥—Ä–µ–≤–∞–ª–∞, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –≤–æ–¥—ã. –Ø –Ω–æ—Å–∏–ª –≤–æ–¥—É –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏ –∏–∑ –∫–æ–ª–æ–¥—Ü–∞ –Ω–µ–ø–æ–¥–∞–ª—ë–∫—É. –ê–Ω—á–∏–∫–∞ –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª –¥—Ä—É–≥–æ–π –±–æ–µ–≤–∏–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –∏–∑ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã. –°–∞–º –ê–Ω—á–∏–∫ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª —Ç—É–¥–∞.
–ö–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç–∏—Ä–∫–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å, –º—ã –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –¥–æ–º. –ò–¥—Ç–∏ —Ç—É–¥–∞ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å: —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ –±–µ—Å–ø–æ–º–æ—â–Ω–æ—Å—Ç—å –ø—Ä–∏ –∞–≤–∏–∞–Ω–∞–ª—ë—Ç–∞—Ö. –≠—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É–º–æ–º –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç —Ç—ã –∏–ª–∏ —Å–≤–æ–±–æ–¥–µ–Ω, –ø—Ä—è–º–æ–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã –¥–µ–ª–∞–µ—Ç –æ–±—Ä–µ—á—ë–Ω–Ω—ã–º –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ. –û–¥–Ω–∞–∫–æ —Å–∞–º —Ñ–∞–∫—Ç –±—ã—Ç—å –ø—Ä–∏–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º –∫ –º–µ—Å—Ç—É —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ–±–µ–∑–æ—Ä—É–∂–∏–≤–∞–ª –∏ –ø–æ–¥—Ä—ã–≤–∞–ª –≤—Å—è–∫—É—é –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—É –Ω–∞ —É–¥–∞—á—É.
–í —ç—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –ê–Ω—á–∏–∫ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –∫ –Ω–∞–º, —Ö–æ—Ç—è —Å–º–µ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –µ–≥–æ. –ú—ã –æ—á–µ–Ω—å –Ω–∞–¥–µ—è–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ –æ–Ω –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å—ë—Ç –Ω–∞–º –º—è—Å–∞. –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –æ–Ω–æ –≤–∑—è–ª–æ—Å—å, –Ω–æ –Ω–∞ –≤–µ—Ä–∞–Ω–¥–µ –≤–∏—Å–µ–ª–∏ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ –∫—É—Å–∫–∏. –ú–Ω–æ–≥–æ. –ù–∞–∫–∞–Ω—É–Ω–µ –ê–Ω—á–∏–∫ –Ω–∞–º –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –æ–¥–∏–Ω —Ç–∞–∫–æ–π –∫—É—Å–æ–∫, –∏ –º—ã –≤–¥–æ–≤–æ–ª—å –Ω–∞–µ–ª–∏—Å—å. –ò–∑ –º—É–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Ç–æ–∂–µ –±—ã–ª–æ –≤ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–µ, —è –¥–µ–ª–∞–ª —Å–µ–±–µ –ª–µ–ø—ë—à–∫–∏: —Ä–∞–∑–≤–æ–¥–∏–ª —Ç–µ—Å—Ç–æ –Ω–∞ –≤–æ–¥–µ –∏ –∑–∞–ø–µ–∫–∞–ª –ª–µ–ø—ë—à–∫—É –Ω–∞ –ø–µ—á–∫–µ. –ù–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, –Ω–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Ç–∞–∫—É—é —à—Ç—É–∫—É –Ω–µ –µ–ª–∏. –ê —è — —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º. –ò –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —É –º–µ–Ω—è –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –¥–≤–µ –ª–µ–ø—ë—à–∫–∏ –∑–∞ –ø–∞–∑—É—Ö–æ–π. –ú–∞–ª–æ –ª–∏ —á—Ç–æ? –ê –≤–¥—Ä—É–≥ —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è –±–µ–∂–∞—Ç—å?!
–í–µ—Å—å —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å –º—ã –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤—è–∑–∏. –Ø —Å–ª–µ–¥–∏–ª –∑–∞ –ø–µ—á–∫–æ–π –∏ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –¥–≤–µ—Ä–∏. –°–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª–∏ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å —á–∞—Å—Ç—å –¥–≤–æ—Ä–∞ –∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤–µ—Å—å –®–∞—Ç–æ–π, –ª–µ–∂–∞—â–∏–π –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ –≥–æ—Ä. –ë—ã–ª–æ —Å–ª—ã—à–Ω–æ, –∫–∞–∫ –∫ —à—Ç–∞–±–Ω–æ–º—É –¥–æ–º—É –ø–æ–¥—ä–µ–∑–∂–∞—é—Ç –º–∞—à–∏–Ω—ã. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –Ω–∞—Å –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è—Ç—å –ú—É—Å–∞. –û–Ω –∂–µ –∏ –ø—Ä–æ–±–æ–ª—Ç–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –≤ —à—Ç–∞–±–µ –ê—Å–ª–∞–Ω –ú–∞—Å—Ö–∞–¥–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–∏–ª –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞ –±—Ä–∏–≥–∞–¥–Ω—ã–º –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–æ–º. –ù–∏ –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π, –Ω–∏ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –Ω–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å. –ú—ã –æ–±—Å—É–¥–∏–ª–∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –¥–ª—è –Ω–∞—Å –º–æ–∂–µ—Ç –æ–∑–Ω–∞—á–∞—Ç—å –ø—Ä–∏–µ–∑–¥ –ú–∞—Å—Ö–∞–¥–æ–≤–∞. –Ý–µ—à–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ. –ö–∞–∫ –º—ã —É–∂–µ –ø–æ–Ω—è–ª–∏, –Ω–∞–ª–∏—á–∏–µ –≤ –æ—Ç—Ä—è–¥–µ –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤ –ø–æ–ª–µ–≤—ã–µ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä—ã —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –æ—Ç –¥—Ä—É–≥–∞.
–ù–æ—á—å—é –ú—É—Å–∞ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –Ω–∞—Å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É, –∞ —Å–∞–º –ª—ë–≥ —Ä—è–¥–æ–º. –ù–æ –æ–Ω, —Å–≤–æ–ª–æ—á—å, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É—Å–ª—ã—à–∏—Ç —Å–≤–∏—Å—Ç —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–∞ –≥–∞—É–±–∏—Ü—ã, —Ç–∞–∫ —Å—Ä–∞–∑—É –±—Ä–æ—Å–∞–µ—Ç—Å—è –Ω–∞ –ø–æ–ª. –ú—ã —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –ø–∞—Ä—É —Ä–∞–∑, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ. –¢—É—Ç —É–∂ –µ—Å–ª–∏ –ø–∞–¥–∞—Ç—å –Ω–∞ –ø–æ–ª, —Ç–∞–∫ —Å—Ä–∞–∑—É –≤—Å–µ–º. –ù–æ —è –±—ã–ª –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç –ª–µ–≤–æ–π —Ä—É–∫–æ–π –∫ –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞, –µ–≥–æ –∂–µ –ª–µ–≤–∞—è —Ä—É–∫–∞ — –∫ –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ú—ã –±—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —Ä–∞–¥—ã –±—ã–ª–∏ –∑–∞–ª–µ—á—å –Ω–∞ –ø–æ–ª –ø—Ä–∏ –±–æ–º–±—ë–∂–∫–µ, –Ω–æ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á —É–ø–æ—Ä–Ω–æ –ª–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ. –ï–≥–æ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∫–µ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–∑–∞–≤–∏–¥–æ–≤–∞—Ç—å.
–£—Ç—Ä–æ–º —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ –¥–Ω—è –ø—Ä–∏–±–µ–∂–∞–ª –ê–Ω—á–∏–∫. –û–Ω –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –Ω–∞–º –º—è—Å–∞ –∏ –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç. –ê–Ω—á–∏–∫ –±—ã–ª –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω—ã–π.
— –ß—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å, –ê–Ω—á–∏–∫? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –µ–≥–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
–ê–Ω—á–∏–∫ –ø–æ—Ç—É–ø–∏–ª—Å—è, –±–µ—Å–ø–æ–º–æ—â–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤—ë–ª —Ä—É–∫–∞–º–∏ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ú–æ–π –±—Ä–∞—Ç —Å—Ç–∞–ª —à–∞—Ö–∏–¥–æ–º…
–ú—ã —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ —Å—Ç–∞—Ç—å —à–∞—Ö–∏–¥–æ–º. –ü–æ–∑–∞–≤—á–µ—Ä–∞—à–Ω–∏–π –Ω–∞–ª—ë—Ç –∏ –ø—Ä—è–º–æ–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã –≤ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—É —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ —Å–≤–æ—ë –¥–µ–ª–æ. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ –ª–µ–∂–∞–ª —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã–π –±—Ä–∞—Ç –ê–Ω—á–∏–∫–∞. –û—Å–∫–æ–ª–∫–æ–º —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã –µ–≥–æ —Ä–∞–Ω–∏–ª–æ, –∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –í—Ç–æ—Ä–æ–π –±—Ä–∞—Ç –ê–Ω—á–∏–∫–∞ –ø–æ–≥–∏–± –Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π –≤–æ–π–Ω–µ. –ú—ã –∑–Ω–∞–ª–∏ –æ–±–æ–∏—Ö.
–ü–æ—à–ª–∏ –≤ –±–∞–Ω—é —Å—Ç–∏—Ä–∞—Ç—å –±–µ–ª—å—ë, —Ñ–æ—Ä–º—É –∏ –æ–¥–µ—è–ª–æ –ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–≥–æ. –ö—Ä–æ–≤—å –æ—Ç—Å—Ç–∏—Ä—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø–ª–æ—Ö–æ. –í–µ—Å—å –ø–æ–ª –±–∞–Ω–∏ –±—ã–ª –∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º. –Ø —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ê–Ω—á–∏–∫–∞ –∏ —É–¥–∏–≤–ª—è–ª—Å—è. –î—Ä—É–≥–æ–π –±—ã —É–∂–µ –æ–±–æ–∑–ª–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –≤–µ—Å—å –º–∏—Ä, –∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ç–∞–∫ –∂–µ –≤–µ–∂–ª–∏–≤ —Å –Ω–∞–º–∏, —Å–ø–æ–∫–æ–µ–Ω –∏ —Ç–∏—Ö. –í—Å—ë –∂–µ –æ–Ω –±—ã–ª –µ—â—ë —Ä–µ–±—ë–Ω–∫–æ–º. –í—Ä—è–¥ –ª–∏ –æ–Ω –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç. –û–Ω –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É —Ä–≤–∞–ª—Å—è –≤ –±–æ–π –∏ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä—è–ª —Ñ–æ—Ä–º—É —É–º–µ—Ä—à–µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç–∞. –¢–æ, —á—Ç–æ –º—ã —Å–µ–π—á–∞—Å —Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–∏, — —Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–∏ –¥–ª—è –ê–Ω—á–∏–∫–∞. –¢–∞–∫ –º—ã –∏ –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–ª–∏, –ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω—É –∏–ª–∏ –≤—ã–≤–µ–∑–ª–∏ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Ä–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ —Ç–∞–∫ –∏ –¥–µ–ª–∞–ª–∏. –û—Ç–µ—Ü –ò–≤–∞–Ω–∞-–ú—É—Å–ª–∏–º–∞, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤—ã–≤–µ–∑ —Å—ã–Ω–∞ –≤ –û—Ä–µ–Ω–±—É—Ä–≥. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –æ–Ω —É–∂–µ –æ–∫–æ–Ω—á–∏–ª –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –∏–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ç –∏ —Å—Ç–∞–ª —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–º –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä–æ–º.
–ü–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤–µ—â–∏ —Ä–∞–∑–≤–µ—Å–∏–ª–∏ —É –Ω–∞—Å –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–∫–µ. –ë–ª–∏–∂–µ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –∫ –Ω–∞—à–∏–º –¥–≤–µ—Ä—è–º –Ω–∞–≤–µ–¥–∞–ª—Å—è –ë—Ä–∏–∑.
— –ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–µ—Ä—å –ø–æ-–∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏. — –£ —Ç–µ–±—è –µ—Å—Ç—å —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã?
— –ò–∑–≤–∏–Ω–∏, –ë—Ä–∏–∑, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å.
— –ú–Ω–µ –∏ –Ω–µ –Ω—É–∂–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –Ø —Ç–µ–±–µ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç.
–°–∫–≤–æ–∑—å —â–µ–ª—å –≤ –¥–≤–µ—Ä–∏ –æ–Ω –ø—Ä–æ—Å—É–Ω—É–ª –º–Ω–µ —à–µ—Å—Ç—å —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç «–ü—Ä–∏–º–∞».
— –í–æ—Ç —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ —Ç–µ–±–µ, –ë—Ä–∏–∑, — –ø–æ–±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª —è. — –ö–∞–∫ —Ç–µ–±–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏ —Å—é–¥–∞ –ø–æ–¥–æ–π—Ç–∏?
— –ú–Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞—é—Ç —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ –≥—É–ª—è—Ç—å –ø–æ –®–∞—Ç–æ—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –¢–æ–ª—å–∫–æ –¥–∞–ª–µ–∫–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞—é—Ç –∏ –∫–∞–∂–¥—ã–µ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ —è –æ—Ç–º–µ—á–∞—é—Å—å —É –æ—Ö—Ä–∞–Ω—ã.
–ü–æ—Ç–æ–º –æ–Ω –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —á—É—Ç—å —Ç–∏—à–µ:
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —è –ø–æ–º–Ω—é —Ç–µ–ª–µ—Ñ–æ–Ω, — –æ–Ω –Ω–∞–∑–≤–∞–ª –º–æ–π —Å–∞–º–∞—Ä—Å–∫–∏–π –Ω–æ–º–µ—Ä. — –Ø –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Ç–µ–±–µ, —á—Ç–æ —è — –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç. –õ–∞–¥–Ω–æ?
— –•–æ—Ä–æ—à–æ, –ë—Ä–∏–∑, —è –±—É–¥—É –º–æ–ª—á–∞—Ç—å.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –æ–Ω–∏ –±–µ—Ä—É—Ç –º–µ–Ω—è —Å —Å–æ–±–æ–π –Ω–∞ –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏, –∏ —è —Å–Ω–∏–º–∞—é —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Å–∫–∞–∂—É—Ç.
— –¢—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ—à—å —Å–≤–æ–∏–º —Ñ–æ—Ç–æ–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç–æ–º?
— –ù–µ—Ç, –≤–∏–¥–µ–æ–∫–∞–º–µ—Ä–æ–π SuperVHS.
— –£ –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –µ–º—É. — –ï—ë –æ—Ç–æ–±—Ä–∞–ª–∏ –µ—â—ë –ª–µ—Ç–æ–º.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –Ω–∞ –∫–∞–º–µ—Ä–µ –ª–µ–π–±–ª «–¢–∏–ø–ø–∞» –∏ –ù–¢–í…
–í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –ë—Ä–∏–∑–∞ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –ø–æ–∑–≤–∞–ª.
— –î–æ —Å–≤–∏–¥–∞–Ω–∏—è, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —è –µ—â—ë –ø—Ä–∏–¥—É.
–ë—Ä–∏–∑ —É–±–µ–∂–∞–ª. –û–Ω –±–æ–ª—å—à–µ –∫ –Ω–∞–º –Ω–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª, –∞ –≤ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —Ä–∞–∑ —è –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª –µ–≥–æ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–æ—á–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∏. –í –Ω–æ—á—å —Å —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ –Ω–∞ —á–µ—Ç–≤—ë—Ä—Ç–æ–µ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è —É—Ö–Ω—É–ª–æ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –º—ã –≤—Å–µ –ø–æ–≤—Å–∫–∞–∫–∏–≤–∞–ª–∏. –í—Å–∫–æ—á–∏–ª –¥–∞–∂–µ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç —Å–±—Ä–æ—Å–∏–ª –±–æ–º–±—É –Ω–∞ –±—Ä–µ—é—â–µ–π –≤—ã—Å–æ—Ç–µ. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –±–æ–º–±–∞ –ø—Ä–µ–¥–Ω–∞–∑–Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –¥–ª—è –Ω–∞—Å, –¥–ª—è —à—Ç–∞–±–∞. –ù–æ —É–≥–æ–¥–∏–ª–∞ –æ–Ω–∞ –≤ –¥–æ–º, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏, —á–µ—Ä–µ–∑ —É–ª–∏—Ü—É.
–£—Ç—Ä–æ–º –ú—É—Å–∞ –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –ú—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∫ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞–º. –¢–∞–º —É–∂–µ –∂–¥–∞–ª –ë—Ä–∏–∑. –ü–æ—à–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –∫ —Ç–æ–º—É –¥–æ–º—É, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ–ø–∞–ª–∞ –±–æ–º–±–∞. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –∏–¥—Ç–∏ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –∫ —á–µ–º—É — –¥–æ–º–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –¥–æ–º–∞ –∑–∏—è–ª–∞ –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–∞, –≥–ª—É–±–∏–Ω–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–µ—Å—å –¥–æ–º –±—ã–ª —Ä–∞—Å–∫–∏–¥–∞–Ω –ø–æ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏–º –µ–≥–æ –Ω–∞–¥–≤–æ—Ä–Ω—ã–º –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–π–∫–∞–º. –ö—Ä—ã–ª—å—Ü–æ —Å—Ç–æ—è–ª–æ –Ω–∞ —Å–∞—Ä–∞–µ, –ø–æ—á—Ç–∏ —Ü–µ–ª–æ–µ. –û–¥–Ω—É –∏–∑ —Å—Ç–µ–Ω –±—ã–≤—à–µ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –ø—Ä–∏–ø–µ—á–∞—Ç–∞–ª–æ –∫ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–º—É. –ù–∞ —Å—Ç–µ–Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –∫–æ–≤–µ—Ä –∏ –ø–æ–ª–∫–∞ –¥–ª—è –∫–Ω–∏–≥.
–ü–æ–¥–æ—à—ë–ª –õ–µ—á–∞.
— –ò–¥–∏—Ç–µ —Å—é–¥–∞, –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç—ã, — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω. — –í–æ—Ç, –≤–∏–¥–∏—Ç–µ –¥—Ä–æ–≤–∞? –¢–∞—Å–∫–∞–π—Ç–µ –∏—Ö –∫ —à—Ç–∞–±—É.
–ú—ã –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –Ω–æ—Å–∏—Ç—å –¥—Ä–æ–≤–∞. –î–µ—Ä–µ–≤–æ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–º –∏ –ø—Ä–æ—á–Ω—ã–º. –ö—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ —Ü–≤–µ—Ç–∞. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ —Ü–µ–Ω–Ω–æ–π –ø–æ—Ä–æ–¥—ã. –ù–æ –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω–µ –æ–± —ç—Ç–æ–º –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è.
–í —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–º –¥–≤–æ—Ä–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—ã. –ë—Ä–∏–∑ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö.
— –≠—Ç–æ –•–∞—Ç—Ç–∞–±.
— –ö–æ—Ç–æ—Ä—ã–π? — –ø–µ—Ä–µ—Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è —Ç–∏—Ö–æ.
— –¢–æ—Ç, —á—Ç–æ —Å –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤–æ–ª–æ—Å–∞–º–∏. –í–∏–¥–∏—à—å, —Ö—Ä–æ–º–∞–µ—Ç?
–Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ-–∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏ «—Ö—Ä–æ–º–∞–µ—Ç» –∏ –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º –¥–∞–ª –ø–æ–Ω—è—Ç—å —ç—Ç–æ –ë—Ä–∏–∑—É. –¢–æ—Ç –∏–∑–æ–±—Ä–∞–∑–∏–ª —Ö—Ä–æ–º–∞—é—â–µ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞.
— –ß–µ–≥–æ —ç—Ç–æ –≤—ã —Ç–∞–º —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å?! — –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –Ω–∞ –Ω–∞—Å –ú—É—Å–∞.
–ú—ã –∑–∞–º–æ–ª—á–∞–ª–∏. –Ý–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –•–∞—Ç—Ç–∞–±–∞ –ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–µ–µ –º–Ω–µ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å. –í —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –∑–∞—Ö–æ–¥ –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏ –•–∞—Ç—Ç–∞–± –∏ –¥–≤–æ–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —É–∂–µ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏. –Ø —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏—Ö —Å–ø–∏–Ω—ã. –ö –≤–µ—á–µ—Ä—É –º—ã —Å –ë—Ä–∏–∑–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∞–ª–∏ –≤—Å–µ –¥—Ä–æ–≤–∞ –∫ —à—Ç–∞–±—É.
–õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π —Ü–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å –∫–æ–ø–∞–ª—Å—è –≤ —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–∏–Ω–∞—Ö, –æ—Ç—ã—Å–∫–∏–≤–∞—è –ø–æ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –≤–µ—â–∏. –ü—Ä—è–º–æ –≤ –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–µ –æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –ª–µ–∂–∞–ª–∞ –∫—É–∫–ª–∞ —Å –æ—Ç–æ—Ä–≤–∞–Ω–Ω–æ–π —Ä—É–∫–æ–π. –Ý–∞–Ω—å—à–µ —è –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –Ω–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ —Ä–µ–∂–∏—Å—Å—ë—Ä—Å–∫–∏–π –∏–∑—ã—Å–∫. –ù–æ —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –±—ã–ª–æ. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –≤–∞–ª—è–ª–æ—Å—å –º–Ω–æ–≥–æ –¥–µ—Ç—Å–∫–∏—Ö –≤–µ—â–µ–π. –û–Ω–∏ –Ω–µ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–∏–∫–æ–≤—ã–≤–∞–ª–∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –∏ –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—É –µ—â—ë —Ç—Ä–∞–≥–∏—á–Ω–µ–µ. –í —ç—Ç–æ–π –∫—É–∫–ª–µ –±—ã–ª–∞ –æ—Å–æ–±–∞—è –º–µ—Ä–∑–æ—Å—Ç—å –≤–æ–π–Ω—ã.
–î—Ä–æ–≤–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–º–∏. –ì–æ—Ä–µ–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–æ –∏ –∂–∞—Ä–∫–æ. –î–∞–≤–∞–ª–∏ –º–∞–ª–æ –¥—ã–º–∞. –í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É –Ω–∞—Å –Ω–æ—á—å—é –±—ã–ª–æ —Ç–µ–ø–ª–æ, —Ö–æ—Ç—è –ø–µ—á–∫–∞ –Ω–æ—á—å—é –∏ –Ω–µ —Ç–æ–ø–∏–ª–∞—Å—å — —Å–≤–µ—Ç–æ–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∫–∞.
–ü—è—Ç–æ–≥–æ —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è, –æ–∫–æ–ª–æ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ —É—Ç—Ä–∞, –∫ –Ω–∞–º –∑–∞—à—ë–ª –≤–æ–∑–±—É–∂–¥—ë–Ω–Ω—ã–π –∏ –∑–ª–æ–π –õ–µ—á–∞.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–π—Å—è, — –±—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω. — –ù–∞–¥–æ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏—Ç—å –≤–∞—à–µ–≥–æ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞.
— –î–∞–≤–∞–π—Ç–µ –∏ —è –ø–æ–º–æ–≥—É, — –≤—ã–∑–≤–∞–ª—Å—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –ï–º—É –Ω–∞–¥–æ–µ–ª–æ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Å–∏–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤—è–∑–∏. –û–Ω –±—ã–ª —Ä–∞–¥ –¥–∞–∂–µ —Ç–∞–∫–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–µ.
— –°–∏–¥–∏, –∏—É–¥–µ–π, — –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –õ–µ—á–∞. — –¢–µ–±–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è —Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏—Ç—å —Ö—Ä–∏—Å—Ç–∏–∞–Ω–∏–Ω–∞.
–£ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤ —Å–≤–æ–∏ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Å—á—ë—Ç. –Ø –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞—Ç—å, —Ö–æ—Ç—è —Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –≤ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫—É — –¥–µ–ª–æ —Ç—è–∂—ë–ª–æ–µ.
–ú—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –º–∏–º–æ —à—Ç–∞–±–∞ –∫ —Å–∞—Ä–∞—é. –ó–¥–µ—Å—å —Å—Ç–æ—è–ª –£–ê–ó–∏–∫. –ë–∞–≥–∞–∂–Ω–∏–∫ —Å–∑–∞–¥–∏ –±—ã–ª –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç. –í –±–∞–≥–∞–∂–Ω–∏–∫–µ — —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π —Ç—Ä—É–ø —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞.
— –Ý–∞–∑–≤—è–∂–∏ –∏ –∑–∞–∫–æ–ø–∞–π –≤–æ—Ç –∑–¥–µ—Å—å, — –õ–µ—á–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–µ—Å—Ç–æ —É —Å–∞—Ä–∞—è. — –ù–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –Ω–µ –∑–∞–∫–∞–ø—ã–≤–∞–π. –ú–∞–∫—Å–∏–º—É–º –Ω–∞ –ø–æ–ª–º–µ—Ç—Ä–∞.
–¢—Ä—É–ø –µ—â—ë –Ω–µ –æ–∫–æ—á–µ–Ω–µ–ª. –Ø –æ—Ç–≤—è–∑–∞–ª –µ–≥–æ –æ—Ç –º–∞—à–∏–Ω—ã –∏, –≤–∑–≤–∞–ª–∏–≤ –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É, –ø–µ—Ä–µ–Ω—ë—Å –∫ —Å–∞—Ä–∞—é. –í—ã–∫–æ–ø–∞–ª –Ω–µ–∫–æ–µ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ –º–æ–≥–∏–ª—ã — —è–º—É, –≥–ª—É–±–∏–Ω–æ–π –≤ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —à—Ç—ã–∫–∞. –õ–µ—á–∞ —Å—Ç–æ—è–ª —Ä—è–¥–æ–º –∏ –Ω–µ –≤–µ–ª–µ–ª –∫–æ–ø–∞—Ç—å –≥–ª—É–±–∂–µ. –ü–æ—Ç–æ–º –≤—Å–µ –æ—Ç–æ—à–ª–∏.
–¢—Ä—É–ø –º–æ–ª–æ–¥–æ–≥–æ —Å–∏–≤–æ–≥–æ –ø–∞—Ä–µ–Ω—å–∫–∞ —è —É–ª–æ–∂–∏–ª –≤ –º–æ–≥–∏–ª—É. –ü—Ä–∏–∫—Ä—ã–ª –µ–º—É –≥–ª–∞–∑–∞ –ø–æ–ø–ª–æ—Ç–Ω–µ–µ, —Å–ª–æ–∂–∏–ª —Ä—É–∫–∏ –Ω–∞ –∂–∏–≤–æ—Ç–µ. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–ª, –Ω–µ—Ç –ª–∏ —É –Ω–µ–≥–æ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤. –î–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –Ω–æ –≤–æ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–º –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–µ –≥–∏–º–Ω–∞—Å—Ç—ë—Ä–∫–∏ —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –∞–ª—é–º–∏–Ω–∏–µ–≤—ã–π –ª–∏—á–Ω—ã–π –∂–µ—Ç–æ–Ω —Å –≤—ã–±–∏—Ç—ã–º –Ω–∞ –Ω—ë–º –Ω–æ–º–µ—Ä–æ–º. –•–æ—Ç–µ–ª –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —É —Å–µ–±—è, –Ω–æ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –Ø –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª –Ω–æ–º–µ—Ä. –ü–µ—Ä–µ–¥ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ –∑–∞–∫–∞–ø—ã–≤–∞—Ç—å, –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–ª —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞ –∏, —Å–Ω—è–≤ —Å —Å–µ–±—è –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–π –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–∫, –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª –µ–º—É –º–µ–∂–¥—É —Ä—É–∫. –ö–æ–≥–¥–∞ —Å –ø–æ–≥—Ä–µ–±–µ–Ω–∏–µ–º –±—ã–ª–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–µ–Ω–æ, –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –õ–µ—á–∞. –ú–æ–ª—á–∞ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–ª —É –º–æ–≥–∏–ª—ã.
— –ë–æ–ª—å—à–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –ø–æ –≤–∞—à–∏–º –æ–±—ã—á–∞—è–º? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—Ç–æ–∫, –Ω–æ –Ω–∞–¥ –º–æ–≥–∏–ª–æ–π –ø–æ–≥–∏–±—à–µ–≥–æ –≤ –±–æ—é —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞ —Å–∞–ª—é—Ç—É—é—Ç.
— –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ? — –õ–µ—á–∞ –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª.
— –°—Ç—Ä–µ–ª—è—é—Ç –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–≤ –≤–≤–µ—Ä—Ö.
— –ü–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –ø–æ–π–¥—ë—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
–Ø –ø–æ–∂–∞–ª –ø–ª–µ—á–∞–º–∏. –ê –õ–µ—á–∞ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç.
— –ù–∞, —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–Ω–∏…
–ù–æ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç –µ—Ä—É–Ω–¥—É. –û–Ω –ø–µ—Ä–µ–¥—ë—Ä–Ω—É–ª –∑–∞—Ç–≤–æ—Ä «–ú–∞–∫–∞—Ä–æ–≤–∞» –∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö.
— –ü–æ–π–¥—ë—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω –º–µ–Ω—è.
— –ü–æ–π–¥—ë—Ç, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑–≤–µ —ç—Ç–æ –º–æ–≥–∏–ª–∞?
— –î—É–º–∞—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞, — –æ–Ω –∑–¥–µ—Å—å –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–ª–µ–∂–∏—Ç. — –ñ–µ—Ç–æ–Ω –Ω–∞—à—ë–ª?
–Ø –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –µ–º—É –∂–µ—Ç–æ–Ω.
— –ó–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª –Ω–æ–º–µ—Ä? — –õ–µ—á–∞ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞. — –õ–∞–¥–Ω–æ, –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —Ç–∞–∫ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª… –ú—ã –∏–∑ —Ç–µ–±—è –≤—ã–±—å–µ–º –≤—Å—é —Ç–≤–æ—é –ø–∞–º—è—Ç—å…
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –≤ –Ω–∞—à –¥–æ–º–∏–∫, —Ç–∞–º –±—ã–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω, — —ç—Ç–æ —Ç—ã —Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏–ª —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞?
— –Ø.
— –≠—Ö! — –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –º–∞—Ö–Ω—É–ª —Ä—É–∫–æ–π. — –ó–∞—á–µ–º –æ–Ω —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª?!
–ë–∏—Å–ª–∞–Ω –±—ã–ª —á–µ—Ä–Ω–µ–µ —Ç—É—á–∏. –¢–∞–∫–∏–º —è –µ–≥–æ –µ—â—ë –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª.
— –ê —á—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å, –ë–∏—Å–ª–∞–Ω? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –≠—Ç–æ –≤–µ–¥—å —è –µ–≥–æ –∑–∞–º–æ—á–∏–ª, — –æ–Ω —Å –æ—Ç–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ–º —É—Å—Ç–∞–≤–∏–ª—Å—è –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –≤ —É–≥–æ–ª. –ë–∏—Å–ª–∞–Ω —è–≤–Ω–æ –Ω–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª —Å–µ–±–µ –º–µ—Å—Ç–∞. –ï–º—É –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è. –ó–∞ —ç—Ç–∏–º –æ–Ω —Å—é–¥–∞ –∏ –ø—Ä–∏—à—ë–ª.
— –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
— –ú—ã —Å –õ–µ—á–µ–π –±—ã–ª–∏ –≤ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–µ, — –Ω–∞—á–∞–ª —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ò –≤–¥—Ä—É–≥ –Ω–∞–ø–æ—Ä–æ–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Ç–∞–∫—É—é –∂–µ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–æ–≤. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –∏—Ö —Ç–∞–º –±—ã–ª–æ —Ç—Ä–æ–µ. –ú—ã –∑–∞—Ç–∞–∏–ª–∏—Å—å. –û–±—ã—á–Ω–æ –≤ —Ç–∞–∫–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∏ —Ä–∞—Å—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è. –¢–∞–∫–æ–≤ –Ω–µ–ø–∏—Å–∞–Ω–Ω—ã–π –∑–∞–∫–æ–Ω. –ù–µ –∑–∞ —Ç–µ–º —à–ª–∏, —á—Ç–æ–±—ã —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –¥—Ä—É–≥ –≤ –¥—Ä—É–≥–∞.
–ê —É –Ω–∏—Ö –æ–¥–∏–Ω —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ —Å–æ —Å–Ω–∞–π–ø–µ—Ä—Å–∫–æ–π –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤–∫–æ–π. –ó–∞—á–µ–º –æ–Ω —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª?! –û–Ω –∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –º–µ–Ω—è –∏ –ø–∞–ª—å–Ω—É–ª. –ù–æ –ø—Ä–æ–º–∞—Ö–Ω—É–ª—Å—è. –¢–æ–ª—å–∫–æ –¥—ã—Ä–æ—á–∫—É —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≤ –≤–∞—Ç–Ω–∏–∫–µ.
–Ø –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª—Å—è –∏ —Å–∫–∞—Ç–∏–ª—Å—è –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –≤ –ª–æ—â–∏–Ω—É. –ù–æ –µ–≥–æ —É–∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª. –ü—Ä–∏—Ü–µ–ª–∏–ª—Å—è, –∂–º—É –Ω–∞ –∫—É—Ä–æ–∫, –∞ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç, –∫–∞–∫ –Ω–∞–∑–ª–æ, –∑–∞–∫–ª–∏–Ω–∏–ª–æ. –û–Ω –æ–ø—è—Ç—å —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–µ—Ç. –°–ø–∞—Å–∏–±–æ, –õ–µ—á–∞ –µ–≥–æ –æ–¥–Ω–æ–π –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å—é —Å–Ω—è–ª —Å –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –ê –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –≤—ã—Å–∫–∞–∫–∏–≤–∞–µ—Ç –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ—Ç –±–æ–µ—Ü. –í–æ—Ç —É–∂ —Ç—É—Ç –º–Ω–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –¥–µ–ª–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –≤–ª–µ–ø–∏—Ç—å –µ–º—É –∏–∑ –ø–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞ –ø—Ä—è–º–æ –≤ –≥—Ä—É–¥—å. –° –ø—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ï–≥–æ –∏–∑ –ª–æ—â–∏–Ω–∫–∏-—Ç–æ –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª–æ.
— –ö–∞–∫ –∂–µ –µ–≥–æ –Ω–µ —Ä–∞–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
–ê —è –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª —Å–≤–æ–∏ —Ä—É–∫–∏. –ù–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ä—É–∫–∏, —è –≤–µ—Å—å –±—ã–ª –ø–µ—Ä–µ–ø–∞—á–∫–∞–Ω –∫—Ä–æ–≤—å—é.
— –ú–æ–∂–µ—Ç, –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª —É–¥–∞—Ä–∏–ª –µ–≥–æ –≤—Å–∫–æ–ª—å–∑—å –∏ —É—à—ë–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –û–Ω —É–ø–∞–ª –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –∏, –ø–æ-–º–æ–µ–º—É, —Å—Ä–∞–∑—É —É–º–µ—Ä. –õ–µ—á–∞ –Ω–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π, –¥–æ–±–∏–ª –µ–≥–æ –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞. –¢–∞–º –±—ã–ª —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π, –Ω–æ –æ–Ω —É—à—ë–ª.
–í–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞ —è –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–æ–º. –û–Ω —Å–∏–ª—å–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤–∞–ª.
— –≠—Ç–æ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —É —Ç–µ–±—è? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
— –ú–æ–∂–µ—Ç –∏ –Ω–µ –ø–µ—Ä–≤—ã–π, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω, — –Ω–æ —á—Ç–æ–±—ã –≤–æ—Ç —Ç–∞–∫, –±–ª–∏–∑–∫–æ, –∏ —Ç–∞–∫ –Ω–µ–ª–µ–ø–æ… –ó–∞—á–µ–º –æ–Ω —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª?!
–ü—Ä–∏—à—ë–ª –õ–µ—á–∞. –û–Ω–∏ –æ —á—ë–º-—Ç–æ –¥–æ–ª–≥–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –õ–µ—á–∞ —É—à—ë–ª, –ë–∏—Å–ª–∞–Ω —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª:
— –°–µ–π—á–∞—Å –∏–¥—É—Ç –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã. –¢—Ä—É–ø —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞ –º—ã —Ö–æ—Ç–∏–º –ø–æ–º–µ–Ω—è—Ç—å –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –∏–∑ –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è –Ω–∞—à–∏—Ö –±–æ–π—Ü–æ–≤. –ò—Ö —Ç–∞–º –ø—è—Ç—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –î–æ–ª–≥–æ –æ–Ω–∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—Å—è.
–£–∂–µ —Å–º–µ—Ä–∫–∞–ª–æ—Å—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –õ–µ—á–∞. –û—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è –∏ –≤–µ–ª–µ–ª –≤–∑—è—Ç—å –ª–æ–ø–∞—Ç—É. –û—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –ü–æ—à–ª–∏ –∫ —Å–≤–µ–∂–µ–º—É –∑–∞—Ö–æ—Ä–æ–Ω–µ–Ω–∏—é, —á—É—Ç—å –ø—Ä–∏–ø–æ—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–º—É —Å–Ω–µ–≥–æ–º. –ò–∑ –º–æ–≥–∏–ª—ã —Ç–æ—Ä—á–∞–ª–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω–∫–∞ —Ç—Ä—É–ø–∞. –í–∏–¥–∏–º–æ —Å–æ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –º—ã—à—Ü—ã, –∞ –∑–µ–º–ª–∏ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –±—ã–ª–æ —á—É—Ç—å.
— –í—ã–∫–∞–ø—ã–≤–∞–π, — –≤–µ–ª–µ–ª –õ–µ—á–∞ –∏ –æ—Ç–æ—à—ë–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É.
–¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–æ–π –£–ê–ó–∏–∫ –∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –°—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∏—Ö –±—Ä–∞—Ç –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º—ã –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª–∏—Å—å –µ—â—ë –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º. –° –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –ø–æ–≥—Ä–µ–±–µ–Ω–∏—è —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–æ —á—É—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ –≤–æ—Å—å–º–∏ —á–∞—Å–æ–≤. –¢—Ä—É–ø —É–∂–µ –æ–∫–æ—á–µ–Ω–µ–ª. –í—ã—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—è –µ–≥–æ –∏–∑ –∑–µ–º–ª–∏, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –ë—Ä–∏–∑–∞. –û–Ω —Å–Ω–∏–º–∞–ª –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥—è—â–µ–µ –Ω–∞ –≤–∏–¥–µ–æ–∫–∞–º–µ—Ä—É. –Ø –≤—Å—ë –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞–π—Ç–∏ –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–æ–º, –Ω–æ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –Ω–∞—à—ë–ª.
–ö–æ–≥–¥–∞ –ë—Ä–∏–∑ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ, —è —Ç–∏—Ö–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ:
— –û–Ω–∏ –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å —Å —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–∞–º–∏?
–û–Ω –≤—ã–∫–ª—é—á–∏–ª –∫–∞–º–µ—Ä—É –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω—ë—Å:
— –î–∞. –í –æ–±–º–µ–Ω –Ω–∞ —Ç—Ä—É–ø –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –≤—ã–ø—É—Å—Ç—è—Ç –∏–∑ –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è.
–ú—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ —Ç—Ä—É–ø –Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω—É. –ó–∞ —Ä—É–ª—å —Å–µ–ª –±—Ä–∞—Ç –ö—é—Ä–∏. –ë—Ä–∏–∑ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å, –∞ —è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ–Ω—è–ª, –ø–æ—á–µ–º—É –æ–Ω —Ç–∞–∫ —É–ø–æ—Ä–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –º–Ω–µ –ø—Ä–æ –ù–¢–í. –ò –ø–æ–Ω—è–ª –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ –ª–µ–π–±–ª–∞ «–¢–∏–ø–ø–∞». –ù–∞ SVHS-–∫–∞–º–µ—Ä–µ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–∫–ª–µ–π–∫–∏ «–¢–µ—Ä—Ä–∞» –∏ –ù–¢–í.
–ë—Ä–∏–∑ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –º–æ–µ–π –∫–∞–º–µ—Ä–æ–π. –ë–æ–ª—å—à–µ —è –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª –ë—Ä–∏–∑–∞ –§–ª–æ—Ç—å–µ, –∏–ª–∏, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Å–∞–º –≤—ã–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª —Å–≤–æ—é —Ñ–∞–º–∏–ª–∏—é, — –§–ª—ë—Ç—å–æ.
–û–±–º–µ–Ω —Ç—Ä—É–ø–∞ –Ω–∞ –∂–∏–∑–Ω—å –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª—Å—è. –ù–æ –¥–µ–ª–∞ —É –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å. –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å–∏–ª—ã –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –≤–ø–ª–æ—Ç–Ω—É—é –∫ –®–∞—Ç–æ—é. –ù–æ—á—å—é –≥–∞—É–±–∏—Ü—ã –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ —É—Ç—é–∂–∏–ª–∏ —Å–µ–ª–æ –∏ –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–í —Ç–æ —É—Ç—Ä–æ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞ —Å–µ–ª–∞ –≤ —â–µ–ª–∏ –¥–≤–µ—Ä–∏ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∞—Å—å. –û—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∫—Ä—ã—à –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ –º–æ—Å—Ç–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω. –£ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—ã –∏ —à–∫–æ–ª—ã —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –º–∞—à–∏–Ω—ã. –í –Ω–∏—Ö –≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, —Å–∫–æ—Ä–æ –ø–æ–≤–µ–∑—É—Ç –∏ –Ω–∞—Å. –Ø –Ω–µ –æ—à–∏–±—Å—è. –ß–∞—Å–æ–≤ –≤ 11 –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª –£–ê–ó–∏–∫. –ó–∞ —Ä—É–ª—ë–º — –ò–≤–∞–Ω. –ú—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –¥–æ–º–∞. –ò–≤–∞–Ω, –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–µ —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å, –ø–æ—à—ë–ª –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É.
— –ü—Ä–∏–≤–µ—Ç, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä! –ö–∞–∫ —É –≤–∞—Å –¥–µ–ª–∞?
–ù–æ –µ–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª —Å—Ç—Ä–æ–≥–∏–π –æ–∫–ª–∏–∫ –õ–µ—á–∏:
— –ú—É—Å–ª–∏–º! — –∏ –¥–∞–ª—å—à–µ — –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏.
–ü–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –ò–≤–∞–Ω —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –º–Ω–µ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º –∏ —â—É–ø–ª—ã–º. –ü–æ—Å–ª–µ –æ–∫—Ä–∏–∫–∞ –æ–Ω –ø–æ—Ç—É–ø–∏–ª –≥–ª–∞–∑–∞ –∏ –æ—Ç–æ—à—ë–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ, –∞ –º—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –ø—Ä–∏–º–æ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±–∞–≥–∞–∂–Ω–∏–∫–µ –Ω–∞ –æ—Ç–∫–∏–¥–Ω—ã—Ö. –ù–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–º –∏–∑ –Ω–∞—Å. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –æ —á–µ–º-—Ç–æ —Ç–∏—Ö–æ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ —Å –ò–≤–∞–Ω–æ–º, –Ω–æ —è —Å–º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ç–∞–º, –∫—É–¥–∞ –º—ã –µ–¥–µ–º, —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–µ–µ.
–ò–≤–∞–Ω —Ç—Ä–æ–Ω—É–ª –º–∞—à–∏–Ω—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –Ω–µ—ë —Å–µ–ª–∏ –ú—É—Å–∞ –∏ —É–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –±–æ–µ–≤–∏–∫ —Å –¥–æ–±—Ä–æ–¥—É—à–Ω—ã–º –ª–∏—Ü–æ–º. –û–Ω –¥–æ–∂—ë–≤—ã–≤–∞–ª –±—É—Ç–µ—Ä–±—Ä–æ–¥. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–∞ —é–≥, –≤ –≥–æ—Ä—ã. –ü–æ –ø—Ä–∞–≤—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–æ—Å—å –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ. –ï—Ö–∞—Ç—å –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –±—ã–ª–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –≤—Å—é–¥—É –∏ —Ç–∞–∫—É—é —Ü–µ–ª—å, –∫–∞–∫ –¥–≤–∏–∂—É—â–∏–π—Å—è –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∞—Ä–º–µ–π—Å–∫–∏–π –£–ê–ó–∏–∫, –ø–∏–ª–æ—Ç—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –±—ã. –ó–∞ –¥—Ä–µ–±–µ–∑–∂–∞–Ω–∏–µ–º –∫—É–∑–æ–≤–∞ –∏ –≥—É–ª–æ–º –º–æ—Ç–æ—Ä–∞ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –∏ –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –µ—â—ë —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–µ–µ. –Ø –ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –æ–ø—ã—Ç –∏ –≤–¥—É–º—á–∏–≤—É—é —Å–º–µ–ª–æ—Å—Ç—å –ò–≤–∞–Ω–∞. –≠—Ç–æ—Ç –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –ª–∏—Ö–∞—á–∏—Ç—å. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π —è –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –Ω–∞–∑–∞–¥, –Ω–æ –æ–∫–æ—à–∫–æ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫–∏–º –≥—Ä—è–∑–Ω—ã–º, —á—Ç–æ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞—é—â–∏–π—Å—è —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ –Ω–∞—Å —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º —É–∂–∞—Å–Ω–æ —Ç—Ä—è—Å–ª–æ. –ú–∞–ª–µ–π—à–∞—è –∫–æ—á–∫–∞ –ø–æ–¥–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞–ª–∞ –∫ –ø–æ—Ç–æ–ª–∫—É –∫–∞–±–∏–Ω—ã.
–°–∞–º–æ–ª—ë—Ç –º—ã –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏. –Ý–∞–∫–µ—Ç–∞ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∏–∂–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –≤ –æ–±—Ä—ã–≤–µ. –ò–≤–∞–Ω —Ä–≤–∞–Ω—É–ª –≤–ø–µ—Ä—ë–¥ –∏ –º–∏–Ω—É—Ç—ã —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è —É —Å–∫–∞–ª—ã, –≤ –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–º —É–≥–ª—É–±–ª–µ–Ω–∏–∏. –î–∞–ª—å—à–µ —Å–µ—Ä–ø–∞–Ω—Ç–∏–Ω –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ —É—Ö–æ–¥–∏–ª —Ä–µ–∑–∫–æ –≤–ª–µ–≤–æ –∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ê —Å–∞–º–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —à–ª–∞ –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–º—É –º–µ—Å—Ç—É. –ú—ã –æ–±–æ–∂–¥–∞–ª–∏ –º–∏–Ω—É—Ç –ø—è—Ç—å. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –ó–∞ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –ø—É—Ç–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –µ—â—ë –¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞ –ø–æ —Ç–æ–π –∂–µ –ø—Ä–∏—á–∏–Ω–µ — —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã.
–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø–æ—à–ª–∞ —Ä–µ–∑–∫–æ –≤–Ω–∏–∑, –∏ –º—ã –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω — –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–µ —Å–µ–ª–æ. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —É –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –∏–∑ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç–¥–µ–ª–æ—á–Ω–æ–≥–æ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞. –ò–≤–∞–Ω –ø–æ–ø—Ä–æ—â–∞–ª—Å—è —Å –Ω–∞–º–∏ –∏ —É–µ—Ö–∞–ª. –í–æ—à–ª–∏ –≤ –¥–æ–º. –û–Ω –±—ã–ª –ø–æ–∫–∏–Ω—É—Ç —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞–º–∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ. –í—Å—è –º–µ–±–µ–ª—å –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ. –ú—ã —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å –≤ –∫—É—Ö–Ω–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—ã–ª–∞ –≤–µ–ª–∏—á–∏–Ω–æ–π —Å–æ —Å—Ä–µ–¥–Ω—é—é –≥–æ—Ä–æ–¥—Å–∫—É—é –∫–≤–∞—Ä—Ç–∏—Ä—É.
–£–ø–∏—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –±–æ–µ–≤–∏–∫ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —Ä–∞—Å–∫–æ—á–µ–≥–∞—Ä–∏–ª –ø–µ—á–∫—É –∏ –Ω–∞—á–∞–ª —Å—Ç—Ä—è–ø–∞—Ç—å. –ó–∞–ø–∞—Ö–ª–æ –≤–∫—É—Å–Ω—ã–º. –û–Ω –ø–æ—à–∞—Ä–∏–ª –≤ –ø–æ—Å—É–¥–µ, –Ω–∞—à—ë–ª —Ñ–∏–≥—É—Ä–Ω—É—é —Å–∫–æ–≤–æ—Ä–æ–¥—É –∏ –Ω–∞–ø—ë–∫ –ø—ã—à–µ–∫. –ü–æ –ø–∞—Ä–µ —à—Ç—É–∫ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –∏ –Ω–∞–º. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —É–º—É–¥—Ä–∏–ª—Å—è —Å—Ç—è–Ω—É—Ç—å —Å–æ —Å—Ç–æ–ª–∞ –µ—â—ë –¥–≤–µ.
–ú—ã –≤—Å—ë –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –∫ –≥—É–ª—É —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤. –ó–¥–µ—Å—å –ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤—ã—à–µ–ª –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –ø–æ –Ω—É–∂–¥–µ, —Ç–æ —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–µ –≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ —à–∞–≥–∞—Ö –æ—Ç –¥–æ–º–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫—É, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—É—é –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –±–æ–º–±–æ–π. –ß—É—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ –∫ —Ä–µ–∫–µ –±—ã–ª–∏ –µ—â—ë —Ç—Ä–∏ —Ç–∞–∫–∏—Ö –∂–µ –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–∏. –ù–∞–¥–µ—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –±—É–¥–µ—Ç —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–µ–µ, –Ω–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å.
— –ö–æ–≥–¥–∞ –∑–¥–µ—Å—å –±–æ–º–±–∏–ª–∏, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–≤—à–µ–≥–æ –º–µ–Ω—è –ú—É—Å—É.
— –í—á–µ—Ä–∞, — —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ó–∞–≤—Ç—Ä–∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—Ç. –£ –Ω–∏—Ö –≤—Å—ë –ø–æ –≥—Ä–∞—Ñ–∏–∫—É. –ë–æ–º–±—è—Ç, –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å —Å–º–æ—Ç—Ä—è—Ç, —á—Ç–æ –µ—â—ë –Ω–µ —Ä–∞–∑–±–æ–º–±–∏–ª–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–ø—è—Ç—å –±–æ–º–±—è—Ç.
— –•–æ–∑—è–µ–≤–∞ —Å—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –∏–∑-–∑–∞ –±–æ–º–±—ë–∂–µ–∫?
— –î–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ú—É—Å–∞. — –ï—â—ë –Ω–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–æ–π –Ω–µ–¥–µ–ª–µ.
–ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å, –≤—Å–µ –¥–æ–º–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –º—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å, –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∏ –≤–µ—Å—å–º–∞ –∑–∞–∂–∏—Ç–æ—á–Ω—ã–º –ª—é–¥—è–º. –ü—Ä–∏—á—ë–º, –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –≤—ã–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –ª—é–±–æ–π –¥–æ–º –ø–æ–±–æ–≥–∞—á–µ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ç–∞–º. –í –¥—Ä—É–≥–∏—Ö, –±–µ–¥–Ω—ã—Ö –¥–æ–º–∞—Ö –ø–æ-–ø—Ä–µ–∂–Ω–µ–º—É –∂–∏–ª–∏ –ª—é–¥–∏. –ü–æ –∏—Ö –æ–¥–µ–∂–¥–µ –∏ –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω—ã–º –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞–º –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Ä–∞–¥—ã –±—ã —É–µ—Ö–∞—Ç—å –æ—Ç –≤–æ–π–Ω—ã, –Ω–æ –Ω–µ –∏–º–µ—é—Ç —Ç–∞–∫–æ–π –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ü–æ–∫–∏–¥–∞–ª–∏ –ß–µ—á–Ω—é —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±–æ–≥–∞—Ç—ã–µ, –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ —Ç–µ, –∫–æ–º—É, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±—ã, –µ—Å—Ç—å —á—Ç–æ —Ç–µ—Ä—è—Ç—å.
–ö–∞–∫ –≤—Å–µ–≥–¥–∞, –º—ã —Å –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–Ω–∏–µ–º –∂–¥–∞–ª–∏ –Ω–æ—á–∏. –ù–æ—á—å—é —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –ª–µ—Ç–∞–ª–∏. –ú—É—Å–∞ –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ –¥–æ–º—É –∏ –ø—Ä–æ–ø–∞–ª. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º –Ω–∞—Å –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ –¥–∂–∏–ø –∏ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–∏ –Ω–∞ —é–≥ –∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ü—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ. –ú–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–µ —Å–µ–ª–æ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —É –±–µ–ª–æ–≥–æ —Å–∞–º–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∏–∫–∞ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –≤–µ—Ä—Ö—É –ø–æ–ª–æ–≥–æ–π –≥–æ—Ä–∫–∏. –ù–∞—Å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª –ú—É—Å–∞ –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ–≤—ë–ª –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª —á–∞—Å—Ç—å—é –¥–æ–º–∞. –ì–¥–µ –ú—É—Å–∞, —Ç–∞–º –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –≠—Ç–æ –º–Ω–µ —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –∑–Ω–∞–∫–æ–º–æ.
–£—Ç—Ä–æ–º –¥–≤–µ—Ä—å –≤ –Ω–∞—à –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª –°–µ–ª–∏–º. –û–Ω –±—ã–ª —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–π—Å—è. –ü–æ–π–¥—ë–º –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π.
–Ø –¥–∞–∂–µ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è –°–µ–ª–∏–º—É. –í—Å—ë –∂–µ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ü—Ä–∏—à—ë–ª –ú—É—Å–∞ —Å –∫–ª—é—á–∞–º–∏ –æ—Ç –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤. –î–æ–ª–≥–æ –≤–æ–∑–∏–ª—Å—è, –ø–æ–∫–∞ –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è. –Ø –≤–∑—è–ª –≤—ë–¥—Ä–∞ –∏ –º—ã –ø–æ—à–ª–∏. –î–æ –∫–æ–ª–æ–¥—Ü–∞ —à–ª–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ —Ä–µ–¥–µ–Ω—å–∫–∏–º –ª–µ—Å–æ–º. –°–∫–æ—Ä–µ–µ, –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ª–µ—Å–æ–º. –¢—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞ –ø–µ—Ç–ª—è–ª–∞ –º–µ–∂–¥—É –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º–∏ –∫—É—Å—Ç–∞–º–∏ –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞. –ß—É—Ç—å —Å–ø—É—Å—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å —Å –∫–æ—Å–æ–≥–æ—Ä–∞, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à—É—é –¥–æ–ª–∏–Ω—É, —Ä–µ—á–∫—É –∏ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –≤—ã—Å–æ–∫—É—é –≥–æ—Ä—É —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞ —Ä–µ–∫–æ–π. –° —ç—Ç–æ–π –≥–æ—Ä–æ–π –±—É–¥—É—Ç —Å–≤—è–∑–∞–Ω—ã –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å–æ–±—ã—Ç–∏—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ–π–¥—É—Ç –ø–æ–∑–∂–µ. –Ø —Å—Ç–∞–ª —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞—Ç—å —à–∞–Ω—Å—ã –Ω–∞ –ø–æ–±–µ–≥. –®–∞–Ω—Å—ã –±—ã–ª–∏, –Ω–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –ø–æ–±–æ–ª—å—à–µ —Ñ–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö –¥–∞–Ω–Ω—ã—Ö –¥–ª—è —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ–π –æ—Ü–µ–Ω–∫–∏ –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏. –°–æ–±—Ä–∞—Ç—å —Ñ–∞–∫—Ç—É—Ä—É, –∫–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç –∂—É—Ä–Ω–∞–ª–∏—Å—Ç—ã. –ü—Ä–∏—á—ë–º —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å –≤—Ç—Ä–æ—ë–º. –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –º–æ–≥—É—Ç —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º, –µ—Å–ª–∏ —Å–±–µ–≥—É –æ–¥–∏–Ω. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä—å—Å–∫–∏–π –º–æ–π –ø–æ–±–µ–≥ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –æ—Ç—Ä–∞–∑–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –Ω–∏—Ö, –Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –º—ã –±—ã–ª–∏ –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –∏ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ –Ω–µ—Å—Ç–∏ –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –¥—Ä—É–≥ –∑–∞ –¥—Ä—É–≥–∞. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤—Å—ë –æ—Å–ª–æ–∂–Ω–∏–ª–æ—Å—å. –ï—Å–ª–∏ –±–µ–∂–∞—Ç—å, —Ç–æ –≤—Å–µ–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ, –Ω–æ —è –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ–≤–µ–¥—ë—Ç —Å–µ–±—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –í –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –Ω–µ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è — –ª–∏—à—å –±—ã –µ–π —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ —Å–∏–ª.
–ö–æ–ª–æ–¥–µ—Ü –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ä—ã–º, —Å –ø—Ä–æ–≥–Ω–∏–≤—à–µ–π, –¥—Ä–∞–Ω–æ–π –æ–ø–∞–ª—É–±–∫–æ–π. –ù–∏ –≤–æ—Ä–æ—Ç–∞, –Ω–∏ –∂—É—Ä–∞–≤–ª—è. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ, –∂—É—Ä–∞–≤–ª—å-—Ç–æ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –±—ã–ª, –Ω–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ä—è–¥–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥—ã—Ä—è–≤–æ–µ –≤–µ–¥—Ä–æ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—ë–≤–∫–µ. –ü–æ–∫–∞ —Ç–∞—â–∏—à—å –µ–≥–æ –∏–∑ –∫–æ–ª–æ–¥—Ü–∞, –≤–æ–¥—ã –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –µ–¥–≤–∞ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞. –ò –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ —Å–ª–∏–≤–∞–π –≤–æ–¥—É, –∞ —Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è. –í –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ —è –≤–µ—Å—å –æ–±–ª–∏–ª—Å—è –∏ –∑–∞–º—ë—Ä–∑. –ü–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–∏–Ω–æ—Ä–æ–≤–∏–ª—Å—è.
–ö–æ–≥–¥–∞ —à–ª–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ, —É–≤–∏–¥–µ–ª –¥–æ—Ä–æ–≥—É, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –∏–∑ –®–∞—Ç–æ—è –≤ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω. –°–µ–ª–æ –ª–µ–∂–∞–ª–æ –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ —É –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è –≥–æ—Ä—ã, –º–µ—Ç—Ä–∞–º–∏ —Ç—Ä–µ–º—è—Å—Ç–∞–º–∏ –Ω–∏–∂–µ –Ω–∞—Å –∏ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ —Ç—Ä—ë—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–µ–µ. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –∂–µ, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –∏–∑ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω–∞, –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –æ—Ç —Å–µ–ª–∞ –≤–¥–æ–ª—å –ª–µ—Å–∞ –∏ –º–∏–º–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –¥–æ–º–æ–≤ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –≤ –≥–æ—Ä–∫—É, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∏ —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞—à —Å–∞–º–∞–Ω–Ω—ã–π –¥–æ–º–∏–∫. –Ý—è–¥–æ–º —Å –Ω–∞—à–∏–º –¥–æ–º–∏–∫–æ–º –ø–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ —Å—Ç–æ—è–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω, –ø–æ–±–æ–ª—å—à–µ, –Ω–æ –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã–π. –ó–∞ –Ω–∏–º –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª–µ, —É—Ö–æ–¥—è—â–µ–µ –≤ –Ω–∏–∑–∏–Ω—É. –ú–µ—Å—Ç–µ—á–∫–æ, –Ω–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –≥–Ω—É—Å–Ω–æ–µ. –Ø –Ω–µ –ø—Ä–æ –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç—ã –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ê—Ç–∞–∫–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞—à –¥–æ–º —Å –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ — –æ–¥–Ω–æ —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏ –ø—Ä—è–º–æ —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–∞, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ–Ω–∞—Ä–æ–∫–æ–º –Ω–µ –≤—Ä–µ–∑–∞—Ç—å—Å—è –≤ –≥–æ—Ä—É, –∏ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –∞—Ç–∞–∫–∏ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–µ–Ω–∞.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫, —Ç–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–ª —Ç–∞–º, –≤ –æ–±—â–µ–º-—Ç–æ, –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—É—é –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—É –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –∏–¥–µ–æ–ª–æ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –±–∏—Ç–≤—ã. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Å –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç—å—é —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞ –∏–ª–∏ –≤—Ä–∞–≥ –Ω–∞ –≤—Ä–∞–≥–∞ — —Ç–∞–∫ –ª—É—á—à–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç. –ù–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –æ–±—ã—á–Ω–æ —Ç–æ—Ä–∂–µ—Å—Ç–≤—É—é—â–∞—è, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∑–∞–∂–∞–ª–∞—Å—å –≤ —É–≥–ª—É. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –∂–µ —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü–µ —Å –≤–∏–¥–æ–º –Ω–µ–∫–æ–µ–≥–æ –ø–∞–¥–∏—à–∞—Ö–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞—Ö. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –°–µ–ª–∏–º —É—à—ë–ª, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–æ–∂–∞–ª–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –º–Ω–µ:
— –í–∏—Ç—è, —ç—Ç–∞ —Å–≤–æ–ª–æ—á—å –º–µ–Ω—è —É–¥–∞—Ä–∏–ª–∞!
— –î–∞, –Ω–µ –±–∏–ª —è –µ—ë! — —Ç—É—Ç –∂–µ –æ—Ç–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª—Å—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –í—Ä—ë—Ç –æ–Ω–∞. –¢–∞–∫ — —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∞.
— –ù–µ—Ç! — –ø–µ—Ä–µ–±–∏–ª–∞ –µ–≥–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –û–Ω –ø–∞–ª–∫–æ–π! –ü–∞–ª–∫–æ–π!
— –ö–∞–∫–æ–π –µ—â—ë –ø–∞–ª–∫–æ–π? — –≤–æ–∑–º—É—â–∞–ª—Å—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
— –í–æ—Ç —ç—Ç–æ–π, — –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –Ω–∞ –ø–∞–ª–∫—É —É –¥–≤–µ—Ä–∏.
— –ó–∞—á–µ–º –≤—ã —Ç–∞–∫, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è. — –û–Ω–∞ –∂–µ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞.
— –û–Ω–∞ –Ω–µ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞! –û–Ω–∞ –ø–∞–¥–ª–∞! –°—É—ë—Ç —Å–≤–æ–π –Ω–æ—Å –≤ —á—É–∂–∏–µ –¥–µ–ª–∞.
— –î–∞ –∫–∞–∫–∏–µ –¥–µ–ª–∞ –º–æ–≥—É—Ç –±—ã—Ç—å —É –Ω–µ—ë —Å –≤–∞–º–∏, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –í–∏—Ç—è, —Ç—ã –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—à—å, —á—Ç–æ –æ–Ω —Ö–æ—á–µ—Ç –æ—Ç –Ω–∞—Å, — –≤–æ–∑–º—É—â–µ–Ω–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –û–Ω —Ö–æ—á–µ—Ç —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–∞—Å —Å–≤–æ–∏–º–∏ —Ä–∞–±–∞–º–∏.
— –•–≤–∞—Ç–∏—Ç —Å –Ω–∞—Å –∏ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –º—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ä–∞–±–∞–º–∏ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –î–∞ –∫–∞–∫–∏–º–∏ —Ä–∞–±–∞–º–∏! — –≤—Å–ø–ª–µ—Å–Ω—É–ª —Ä—É–∫–∞–º–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –Ý–µ—á—å –∏–¥—ë—Ç –æ–± –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ–º –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ.
— –û –∫–∞–∫–æ–º –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è. — –¢—É—Ç, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –ø–æ—Ä—è–¥–∫–∏ —É—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—é—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏. –ú—ã —Å –≤–∞–º–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è–µ–º—Å—è.
— –Ý–µ—á—å –∏–¥—ë—Ç –æ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞–º–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –ö—Ç–æ-—Ç–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º, –∫—Ç–æ-—Ç–æ –ø–æ–¥—á–∏–Ω—ë–Ω–Ω—ã–º.
— –ó–∞—á–µ–º, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ. — –Ý–∞–∑–≤–µ –º—ã —Å –≤–∞–º–∏ –Ω–µ —Ä–∞–≤–Ω—ã?
— –≠—Ç–æ –æ–Ω —Ö–æ—á–µ—Ç –±—ã—Ç—å –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º! — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç—å—é –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –≠—Ç–∞ –µ–≤—Ä–µ–π—Å–∫–∞—è —Å–≤–æ–ª–æ—á—å!
— –ù—É, –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏–º, –µ–≤—Ä–µ–π—Å–∫–∞—è –∫—Ä–æ–≤—å —Ç–µ—á—ë—Ç –∏ –≤ —Ç–µ–±–µ, — –ø–∞—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
— –Ø, — –Ω–µ —É–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è. –û—Ç–µ—Ü —É–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ—Ü, –º–∞—Ç—å — —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è. –ê —Ç—ã –º–Ω–µ –±—É–¥–µ—à—å –¥–∏–∫—Ç–æ–≤–∞—Ç—å —É—Å–ª–æ–≤–∏—è, —Å–≤–æ–ª–æ—á—å?
— –ù—É, –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ, –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ! — –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –Ω–µ—Ä–≤–Ω–∏—á–∞–ª. — –°–≤–µ—Ç–∞, —è –Ω–µ –ø–ª–æ—Ö–æ–π —Ñ–∏–∑–∏–æ–Ω–æ–º–∏—Å—Ç –∏ –º–æ–≥—É —Ç–æ—á–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤ —Ç–µ–±–µ –µ–≤—Ä–µ–π—Å–∫–æ–π –∫—Ä–æ–≤–∏.
— –î–∞–≤–∞–π—Ç–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ–º –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞—Ç—å —Å—é–¥–∞ –Ω–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω—ã–µ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–∞, — –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è. — –û–±—ä—è—Å–Ω–∏—Ç–µ, –≤ —á—ë–º, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞?
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ñ—ã—Ä–∫–Ω—É–ª–∞ –∏ –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å. –í–æ–ø—Ä–æ—Å –±—ã–ª –∫ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—É.
— –ü—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞ –≤ —Ç–æ–º, — –∑–∞–¥—É–º—á–∏–≤–æ –Ω–∞—á–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤, — —á—Ç–æ –≤ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–∞—Ö –∑–∞–∫–ª—é—á—ë–Ω–Ω—ã—Ö –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —É—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω—ã–π –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫. –ú—ã –≤–µ–¥—å —Å –≤–∞–º–∏ –∑–∞–∫–ª—é—á—ë–Ω–Ω—ã–µ?
— –ù—É, —ç—Ç–æ –∫–∞–∫ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, — –≤—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —è.
— –û–±—ã—á–Ω—ã–µ –∑–∞–∫–ª—é—á—ë–Ω–Ω—ã–µ, — —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –ê —Ä–∞–∑ —Ç–∞–∫, —Ç–æ –Ω–∞–º –±—É–¥–µ—Ç –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ª–µ–≥—á–µ –ø—Ä–æ–∂–∏—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ –º—ã –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑—É–µ–º—Å—è –ø–æ –≤—ã–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω—ã–º —Ç—é—Ä–µ–º–Ω—ã–º –∑–∞–∫–æ–Ω–∞–º.
— –ü–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è–º, — —É—Ç–æ—á–Ω–∏–ª —è.
— –ï—Å–ª–∏ —Ö–æ—á–µ—à—å, –ø–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è–º, — –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –Ø —ç—Ç–∏ –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è –∑–Ω–∞—é –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ª—É—á—à–µ –≤–∞—Å –∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞—é –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è—Ç—å—Å—è –º–Ω–µ. –í—ã —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —É–≤–∏–¥–∏—Ç–µ, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –ª–µ–≥—á–µ.
— –ñ—Ä–∞—Ç—å —Ç—ã, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –±—É–¥–µ—à—å –±–æ–ª—å—à–µ –º–µ–Ω—è, — –≤—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –ê —á—Ç–æ –≤ —ç—Ç–æ–º –ø–ª–æ—Ö–æ–≥–æ? — –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª —Å–≤–æ—é –ø—Ä–∞–≤–æ—Ç—É –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –í–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –í–∏–∫—Ç–æ—Ä —Ö–æ–¥–∏–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, —É—Å—Ç–∞–ª.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä—É –∏ –¥–∞–¥–∏–º –±–æ–ª—å—à–µ, — –∑–∞—à–∏–ø–µ–ª–∞ –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — –∞ —Ç—ã —Å–∏–¥–∏—à—å –Ω–∞ –∂–æ–ø–µ –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—ã—Ç–∞–µ—à—å—Å—è —É—Ä–≤–∞—Ç—å —Å–µ–±–µ –ª–∏—à–Ω–∏–π –∫—É—Å–æ–∫.
— –î–∞ —Ç—ã, –≥–ª—É–ø–∞—è –±–∞–±–∞, –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—à—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å—á–∞—Å—Ç—å—è, —á—Ç–æ —è –±—É–¥—É —Ç–æ–±–æ–π —Ä—É–∫–æ–≤–æ–¥–∏—Ç—å! — –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –¥–∞–∂–µ –≤—Å—Ç–∞–ª. — –ú—É—Å–∞, –∫—Å—Ç–∞—Ç–∏, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–±—Ä–∞–¥—É–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —É –Ω–∞—Å –±—É–¥–µ—Ç –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫. –û–Ω —Å–∞–º —Å–∏–¥–µ–ª –∏ –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç.
— –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, — –∫–æ–Ω—Å—Ç–∞—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª —è, — –≤—ã, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, –±—É–¥–µ—Ç–µ —É –Ω–∞—Å –ø–∞—Ö–∞–Ω–æ–º.
— –ù—É, –∑–∞—á–µ–º –∂–µ —Ç–∞–∫? — –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –ø–æ—Ç—É–ø–∏–ª –≥–ª–∞–∑–∞. — –Ø –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞—é –ª—É—á—à–µ–µ –≤ –Ω–∞—à–µ–º –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏.
— –ê –∑–∞ —á—Ç–æ –≤—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. — –Ý–∞—Å—Å–∫–∞–∂–∏—Ç–µ. –ò –≥–¥–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∏?
— –ü—É—Å—Ç—å –ª—É—á—à–µ –æ–± —ç—Ç–æ–º –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—è —É–º–∞–ª—á–∏–≤–∞–µ—Ç.
— –ù–µ—Ç-–Ω–µ—Ç, –í–∏—Ç—è, –ø—É—Å—Ç—å —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—Ç, –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –ù—É, —Å–∏–¥–µ–ª –∑–∞ —Å–ø–µ–∫—É–ª—è—Ü–∏—é –¥–∂–∏–Ω—Å–∞–º–∏. –¢—ã —ç—Ç–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–∞ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å? –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Å–ø–µ–∫—É–ª—è—Ü–∏—è, –≤ —Ç–≤–æ—ë–º, –∫–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–∏, –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–Ω–∞, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–π —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤–ª–µ–π.
— –ö–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–æ–≤ –Ω–µ —Ç—Ä–æ–∂—å, —Å–≤–æ–ª–æ—á—å, — –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ä–∞—Å–∫—Ä–∞—Å–Ω–µ–ª–∞—Å—å.
— –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — —Ç—É—Ç –Ω–µ —Ç–∞ –ø—É–±–ª–∏–∫–∞, —á—Ç–æ–±—ã —É—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—Ç—å —Ç—é—Ä–µ–º–Ω—ã–µ –∑–∞–∫–æ–Ω—ã. –ò –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ —Ä–∞—Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å —Ä—É–∫–∏. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –≤ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–∏ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã. –í—ã, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –º–æ–∂–µ—Ç–µ —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç—å —Å–µ–±—è –ø–∞—Ö–∞–Ω–æ–º —Å –ø–æ–º–æ—â—å—é —Å–∏–ª—ã. –í–µ–¥—å —Ç–∞–∫, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –≤ –∫—É—Ä—Å–µ, —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç—Å—è? –ù–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω —Å—Ä–∞–∑—É –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏—Ç—å, —á—Ç–æ —è –±—É–¥—É –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤.
–ù–∞ —ç—Ç–æ–º –∏–Ω—Ü–∏–¥–µ–Ω—Ç, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –∏ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è. –ù–æ —è —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –Ω–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π. –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª —É –°–≤–µ—Ç—ã —É—à–∏–±. –°–∏–Ω—è–∫–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù—É –≤–æ—Ç, –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è —Ç–æ–≥–¥–∞, –∞ –µ—â—ë —Ö–æ—Ç–µ–ª –∫–∞–∫-—Ç–æ –Ω–∞–¥–µ—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–∏ –ø–æ–±–µ–≥–µ… –ñ–∏–∑–Ω—å –æ—Å–ª–æ–∂–Ω—è–ª–∞—Å—å.
–ú—É—Å–∞ –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –Ω–∞—Å —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –ø–∏–ª–∏—Ç—å –¥—Ä–æ–≤–∞. –ü–∏–ª–∏–ª–∏ –¥–≤—É—Ä—É—á–Ω–æ–π –ø–∏–ª–æ–π –Ω–∞ –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –∫–æ–∑–ª–∞—Ö. –í–æ—Ç —Ç—É—Ç —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —Å–∞—á–∫—É–µ—Ç. –û–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª—Å—è –∑–∞ —Ä—É—á–∫—É –∏ –Ω–µ –≤—ã—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ —Å–µ–±—è –ø–∏–ª—É. –ö–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–µ –Ω–∞–¥–æ–µ–ª–æ –≤—ã—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞—Ç—å –ø–∏–ª—É –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –≤ –µ–≥–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, —è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –∏ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –µ–º—É –≤ –≥–ª–∞–∑–∞. –û–Ω —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –æ–∂–∏–¥–∞–ª –∏ –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å –∑–∞–º–µ—Ä. –û–Ω –≤—Å—ë –ø–æ–Ω—è–ª –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –ø–∏–ª–∏—Ç—å. –Ø –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –∑–∞—á–µ–º —Å–∞—á–∫–æ–≤–∞—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ –µ—â—ë –∏ –Ω–µ —É—Å—Ç–∞–ª. –ù–æ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Å–∏–¥–µ–ª –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ –Ω–µ –∑—Ä—è. –ü–æ—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤ –º–µ–Ω—å—à–µ —Å–∏–ª, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á —Ö–æ—Ç–µ–ª –≤—ã–∂–∏–≤–∞—Ç—å –∑–∞ —Å—á—ë—Ç –¥—Ä—É–≥–∏—Ö.
–ú—ã –ø–∏–ª–∏–ª–∏ —Å –±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –ø–µ—Ä–µ—Ä—ã–≤–∞–º–∏. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è «–ê–≤–∞–∫—Å», –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–¥ –Ω–∞–≤–µ—Å –∫—Ä—ã—à–∏ –∫ —Å—Ç–µ–Ω–µ –¥–æ–º–∞. –í –≤—ã—Å–æ—Ç–µ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –ø—Ä–æ–ø–æ–ª–∑–∞–ª –æ—á–µ–Ω—å –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –¥–≤–æ–µ –º—É–∂–∏–∫–æ–≤, –º–∏—Ä–Ω–æ –∑–∞–≥–æ—Ç–∞–≤–ª–∏–≤–∞—é—â–∏—Ö –¥—Ä–æ–≤–∞, –µ–≥–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—É—é—Ç. –ù–æ –ú—É—Å–∞ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–∞—Ö–æ–≤—ã–≤–∞–ª—Å—è. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å, –ø–æ–∫—É—Ä–∏—Ç—å –∏ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å—Å—è.
–ò–∑ –ª–µ—Å–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –±—ã–ª –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫–æ–º, –≤—ã—à–ª–∏ –¥–≤–æ–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –û–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö —è —Å—Ä–∞–∑—É —É–∑–Ω–∞–ª. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–π, —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –º—ã —É–∂–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª–∏—Å—å –≤ –®–∞—Ç–æ–µ. –û–Ω –Ω—ë—Å —Ä—É—á–Ω–æ–π –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç –ö–∞–ª–∞—à–Ω–∏–∫–æ–≤–∞. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –º—ã –ø–µ—Ä–µ–º–µ—â–∞–µ–º—Å—è –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–º.
— –ù—É, —á—Ç–æ —Ç–∞–º? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ú—É—Å–∞ –∫–∞–∑–∞—Ö–∞. — –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –±–ª–∏–∑–∫–æ?
— –ë–ª–∏–∑–∫–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —Ç–æ—Ç. –û–Ω –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –∫ –Ω–µ–º—É –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω–Ω–æ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏. — –¢–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –∏—Ö —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –æ–Ω.
— –ì–¥–µ?
— –í–æ–Ω —Ç–∞–º, — –∫–∞–∑–∞—Ö –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–æ–π –æ–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≥–æ—Ä—ã, — —Ç–∞–º, –≥–¥–µ —Ä—É—Å–ª–æ –ø–æ–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç –Ω–∞ —é–≥, –≤ –≥–æ—Ä—ã. –ê –Ω–∞—à–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞ –¥–∞—ë—Ç –¥–æ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–æ–≤ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –ø—è—Ç–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
— –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –º—ã –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ–Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ, — –ú—É—Å–∞ –º–∞—Ö–Ω—É–ª —Ä—É–∫–æ–π.
— –ö–∞–∫ –∑–Ω–∞—Ç—å, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö, — —Ä–µ–±—è—Ç–∞ –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —É–∫—Ä–µ–ø–∏–ª–∏—Å—å. –û–¥–∏–Ω –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —á–µ–≥–æ —Å—Ç–æ–∏—Ç!
— –î–∞, —É–∂, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –±–æ–µ—Ü, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∫–∞–∑–∞—Ö–æ–º. –û–Ω –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –ø–æ—á–µ—Å–∞–ª –ª–æ–±, –∏ –≤—Å–µ —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏. –í –æ–±—â–µ–º, –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω —á—É—Ç—å –Ω–µ —Ä–∞—Å—à–∏–± –≥–æ–ª–æ–≤—É –≤ —ç—Ç–æ–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ.
— –ë—É–¥–µ–º –∫–æ–ø–∞—Ç—å –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ú—É—Å–∞ —Ä—ã–∂–µ–≥–æ.
— –û–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö, –∏ –æ–Ω–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ—à–ª–∏ –∏—Å–∫–∞—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞.
–û—Ç–æ—à–ª–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ª–µ—Å–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ, –ø–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏ –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –∏ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å.
–í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ —Ä—ã–∂–∏–π, — —É–º–µ–µ—à—å –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –ª–æ–ø–∞—Ç—É?
— –£–º–µ—é.
— –ë—É–¥–µ–º –∫–æ–ø–∞—Ç—å –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ü–æ—à–ª–∏.
–ú—ã –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ —Ç–æ–º—É –º–µ—Å—Ç—É, –≥–¥–µ –æ–Ω–∏ —Å –ú—É—Å–æ–π –¥–≤–∏–≥–∞–ª–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏. –ó–¥–µ—Å—å –±—ã–ª –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –æ–±—Ä—ã–≤. –°–≤–µ—Ä—Ö—É —á–µ—Ä–Ω–æ–∑—ë–º –µ–¥–≤–∞ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç –∫–∞–º–Ω–∏. –°–ª–æ–π –∫–∞–º–Ω–µ–π –æ–∫–æ–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–∞, –∞ –Ω–∏–∂–µ — –≥–ª–∏–Ω–∏—Å—Ç—ã–π –ø–µ—Å–æ–∫. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–≥–ª—É–±–∏—Ç—å—Å—è –≤ –ø–µ—Å–æ–∫ –ø–æ–¥ –∫–∞–º–Ω–∏ –∏ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç–∞–º –±–æ–ª—å—à—É—é –Ω–∏—à—É.
–ü–ª–∞–Ω –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª –±—ã —Ä–∞–∑—É–º–Ω—ã–º, –µ—Å–ª–∏ –±—ã –ú—É—Å–∞ —Å —Ä—ã–∂–∏–º —É—á–ª–∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –Ω–∞—Å –±—É–¥—É—Ç –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—Ç—å. –ê –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ —Å–æ–≤–ø–∞–¥–∞–ª–æ —Å–æ –≤—Ö–æ–¥–æ–º –≤ –Ω–∏—à—É.
— –°–¥–µ–ª–∞–µ–º –Ω–∏—à—É — –∑–∞–∫—Ä–æ–µ–º –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ –±—Ä—ë–≤–Ω–∞–º–∏ –∏ –∑–µ–º–ª—ë–π, — –ø–æ–¥—É–º–∞–≤ —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ä—ã–∂–∏–π. — –ê –≤—Ö–æ–¥ —Å–¥–µ–ª–∞–µ–º…
–Ø –º–æ–ª—á–∞–ª. –í—Ö–æ–¥ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –±—ã –¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–π –≥–æ—Ä–∫–µ. –•—É–∂–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–µ—à—å. –ú—ã —Å —Ä—ã–∂–∏–º –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞ –∏ —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å.
— –õ–∞–¥–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –æ–Ω, — –¥–∞–≤–∞–π —Ö–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ–∫–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–µ–º –Ω–∏—à—É. –•–æ—Ç—å –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ —É–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ –æ—Ç —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤. –° —ç—Ç–∏–º —è –±—ã–ª –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é —Å–æ–≥–ª–∞—Å–µ–Ω. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—Å—ë –±—ã–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, –ø–æ–∫–∞ —è –Ω–µ –Ω–∞—á–∞–ª –∫–æ–ø–∞—Ç—å. –ö–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π —Å–≤–æ–¥ –æ—Å—ã–ø–∞–ª—Å—è. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –∫–æ–ø–∞—Ç—å –Ω–∏–∂–µ —Å–≤–æ–¥–∞ — —Å—Ç–∞–ª–∞ –æ—Å—ã–ø–∞—Ç—å—Å—è –≥–ª–∏–Ω–∞. –í—Å—ë –∂–µ –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —É–≥–ª—É–±–∏—Ç—å—Å—è –ø–æ–¥ –∫–∞–º–Ω–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞ –Ω–∞ —Ç—Ä–∏. –ì—Ä—É–Ω—Ç –±—ã–ª –ª—ë–≥–∫–∏–π. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —É–±–µ–∂–∏—â–µ –Ω–∞ 5 — 6 —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∏–¥–µ—Ç—å –≤ —ç—Ç–æ–º —É–±–µ–∂–∏—â–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–≤–∞—Ç–æ. –ê –≤–¥—Ä—É–≥ –æ–±–≤–∞–ª–∏—Ç—Å—è?! –Ø –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –∑–∞–≤–µ—Å—Ç–∏ —Å –ú—É—Å–æ–π —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã —É–∫—Ä–µ–ø–∏—Ç—å —Å–≤–æ–¥ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ —Å–≤–∞—è–º–∏. –ú—É—Å–∞ –Ω–∞ —ç—Ç–æ –Ω–µ –æ—Ç—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª. –ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —É—Ç—Ä–æ –º—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –ø–∏–ª–∏–ª–∏ –¥—Ä–æ–≤–∞. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –æ—Ç—Ç–∏—Ä–∞–ª–∞ —Å–æ–ª—è—Ä–∫–æ–π –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω—ã –æ—Ç —Ä–∂–∞–≤—á–∏–Ω—ã. –ü–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö. –ü–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –≤–æ–∑–ª–µ –≤—ã—Ä—ã—Ç–æ–≥–æ –º–Ω–æ—é –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –≤–∑—è–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä –∏ —É–∫—Ä–µ–ø–∏–ª –≤—Ö–æ–¥ —Å–≤–∞—è–º–∏. –ü–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫–æ –º–Ω–µ.
— –ö–∞–∫ —Ç—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –ù–µ—Ç, — –æ–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –Ø —Ç–æ–∂–µ —Ç–∞–∫ –¥—É–º–∞—é, — –æ–Ω –Ω–∞ –ø–∞—Ä—É —Å–µ–∫—É–Ω–¥ –∑–∞–º–æ–ª—á–∞–ª. — –ò –≤—Å—ë –∂–µ –Ω–∞–º –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ —É–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ.
–ù–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ –ø–æ–ª—É—á–∞—Å–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤—ã–µ –±–æ–º–±–∞—Ä–¥–∏—Ä–æ–≤—â–∏–∫–∏ –°—É-24. –û–Ω–∏ —à–ª–∏ –ø–∞—Ä–æ–π, –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å, –Ω–µ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏, –∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ—Ç–±–æ–º–±–∏–ª–∏—Å—å —Å –≤—ã—Å–æ—Ç—ã –≤ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –∏–∑ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–ª—ë—Ç–∞.
–ë–æ–º–±–∞ –æ—Ç–¥–µ–ª–∏–ª–∞—Å—å, –∏ –ø–æ–¥ –±—Ä—é—Ö–æ–º —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –¥—ã–º–æ–∫ –ø–∏—Ä–æ–ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω–æ–≤, –æ—Ç—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤—à–∏—Ö –±–æ–º–±—ã. –ß–µ—Ä–µ–∑ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É —Ä–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –∑–≤—É–∫ –æ—Ç—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞, –¥–≤–æ–π–Ω–æ–π, –Ω–æ –ø–æ—á—Ç–∏ —Å–ª–∏–≤—à–∏–π—Å—è –≤ –æ–¥–∏–Ω. –ü–æ—Ç–æ–º –º—ã —Å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º–∏ —Ä—Ç–∞–º–∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ —ç—Ç–∏ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏–∫–∏–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º–æ–≤—ã–µ –±–æ–º–±—ã –ø–∏–∫–∏—Ä—É—é—Ç –∫ –∑–µ–º–ª–µ. –û–Ω–∏ –ª–µ—Ç–µ–ª–∏ –Ω–∞ –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω—É —Ä–µ–∫–∏. –û—Ç –Ω–∞—Å –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–∫—Ä—ã—Ç–∞ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫–æ–º –∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –æ–∫–æ–ª–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞.
–Ø –Ω–µ —Å–∫–∞–∂—É, —á—Ç–æ —Å–∏–ª—å–Ω–æ —É—Ö–Ω—É–ª–æ. –ù–µ –±—ã–ª–æ –∏ —Å–ø–æ–ª–æ—Ö–∞ –ø–ª–∞–º–µ–Ω–∏. –õ–∏—à—å –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —Å—Ç–≤–æ–ª –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ–¥–±—Ä–æ—Å–∏–ª–æ –Ω–∞–¥ –ª–µ—Å–æ–º –∏ –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–æ –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ –∫—Ä–æ–Ω–æ–π –≤–Ω–∏–∑. –ú–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –∑–µ–º–ª—è –Ω–µ –¥—Ä–æ–≥–Ω—É–ª–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º –Ω–∞–¥ –ª–µ—Å–æ–º –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏—Å—å –¥–≤–∞ –∫–ª—É–±–∞ —Å–µ—Ä–æ–≥–æ –¥—ã–º–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Ä–∞—Å—Å–µ—è–ª—Å—è.
— –¢–∞–º –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ä—ã–∂–∏–π. — –ó—Ä—è —Å—Ç–∞—Ä–∞—é—Ç—Å—è. — –í–æ–Ω, — –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—É—é —á–∞—Å—Ç—å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –≥–æ—Ä—ã, — —Ç—É–¥–∞ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∫–∏–¥–∞—Ç—å –±–æ–º–±—ã. –Ý–µ–±—è—Ç–∞ –º–æ–ª–æ–¥—Ü—ã. –ú–æ–ª—á–∞—Ç, –Ω–µ –≤—ã–¥–∞—é—Ç —Å–µ–±—è.
–ê —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤—ã–µ –±–æ–º–±–∞—Ä–¥–∏—Ä–æ–≤—â–∏–∫–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –∫—Ä—É–≥ –∏ –ø–æ—à–ª–∏ –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∑–∞—Ö–æ–¥.
— –í—Å–µ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂! — –∑–∞–æ—Ä–∞–ª –ú—É—Å–∞ –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª —Ç—É–¥–∞.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –°–≤–µ—Ç–∞ –∏ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç—ã –≤ –¥–æ–º–µ. –ó–∞ –ú—É—Å–æ–π –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É –∏ –Ω–∞–ø–∞—Ä–Ω–∏–∫ —Ä—ã–∂–µ–≥–æ.
— –°—Ç–æ–π—Ç–µ, — –∑–∞–∫—Ä–∏—á–∞–ª –∏–º –∫–∞–∑–∞—Ö, –Ω–µ –Ω–∞—Å –∂–µ –±–æ–º–±—è—Ç.
— –ê –≤–¥—Ä—É–≥ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ —Å–µ–π—á–∞—Å — –Ω–∞—Å? — –ú—É—Å–∞ –±—ã–ª —É–∂–µ —É –≤—Ö–æ–¥–∞ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –Ω–æ –≤–Ω—É—Ç—Ä—å –Ω–µ –ø–æ–ª–µ–∑.
— –ù–µ–ª—å–∑—è —Ç–∞–º –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è, — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª —Ä—ã–∂–∏–π. — –ö—Ä—ã—à–∞ –Ω–µ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç.
— –í—ã–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç-–º—ã–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç, — –∑–∞–≤–æ—Ä—á–∞–ª –ú—É—Å–∞ –∏ –Ω–µ–¥–æ–≤–µ—Ä—á–∏–≤–æ –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤–Ω—É—Ç—Ä—å. — –í—Å—ë –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, —è –æ—Ç–≤–µ—á–∞—é –∑–∞ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ—Å—Ç—å. –Ø –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∏ –∑–Ω–∞—é —Ç–æ—á–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∏—Ç.
–í–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –≤—Å–µ—Ö –æ—Ç–≤–ª—ë–∫ –∑–≤—É–∫ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –º–∏–Ω–æ–º—ë—Ç. –ê —Å –≥–æ—Ä—ã, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Å —Ç–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª —Ä—ã–∂–∏–π, –ø–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞–º —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ—Ä–æ–º —É–¥–∞—Ä–∏–ª –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç. –í–µ–¥—É—â–∏–π —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –æ—Ç–≤–∞–ª–∏–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –∞ –≤–µ–¥–æ–º—ã–π —Å–±—Ä–æ—Å–∏–ª –±–æ–º–±—É. –û–Ω–∞ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±–ª–∏–∂–µ –∫ –Ω–∞–º. –ó–µ–º–ª—è –¥—Ä–æ–≥–Ω—É–ª–∞. –ú—É—Å–∞ –ø–æ–¥–ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª –∏ –æ—Ç—Å–∫–æ—á–∏–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –°–≤–æ–¥ —Ä—É—Ö–Ω—É–ª –∏ —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–æ—Å—å –≤ –±–æ–ª—å—à—É—é —è–º—É.
–í–µ–¥—É—â–∏–π –ø–∞—Ä—ã –∑–∞—à—ë–ª —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–∞ –∏ —É–¥–∞—Ä–∏–ª –ø–æ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–∫—É–Ω–¥ –ø–æ—Å–ª–µ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª —Å–Ω–æ–≤–∞. –í–µ–¥–æ–º—ã–π –±–æ–º–±–∞—Ä–¥–∏—Ä–æ–≤—â–∏–∫ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª –º–∞–Ω–µ–≤—Ä –≤–µ–¥—É—â–µ–≥–æ –∏ –µ—â—ë –¥–≤–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã —É–¥–∞—Ä–∏–ª–∏ –ø–æ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç –Ω–µ —Å–º–æ–ª–∫–∞–ª –Ω–∏ –Ω–∞ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É –∏ –≤—Å—ë –≤—Ä–µ–º—è —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –ø–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—É.
–° —ç—Ç–æ–≥–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –∏—Å–ø–∞—Ä–∏–ª–∏—Å—å –≤—Å–µ –Ω–∞—à–∏ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã –Ω–∞ —Å–ø–æ–∫–æ–π—Å—Ç–≤–∏–µ. –í–æ–π–Ω–∞ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∞–ª–∞ –Ω–∞–º –Ω–∞ –ø—è—Ç–∫–∏.
–ö–∞–∂–¥—ã–µ –¥–µ—Å—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç —Å –≥–æ—Ä—ã —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –º–∏–Ω–æ–º—ë—Ç. –í–∏–¥–∏–º–æ, –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –µ–≥–æ –Ω–∞–≤–æ–¥–∫—É. –°–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≥–æ—Ä—ã –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–µ, –∑–∞ —Ä—É—Å–ª–æ–º —Ä–µ–∫–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∞ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏—è. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥—ã –ª–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å —É —Ä–µ–∫–∏ –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –¥–æ–º–∏–∫–∞.
–ú—É—Å–∞ —Ä–µ—à–∏–ª —É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –Ω–∞–º –±–∞–Ω—é. –í —Å–º—ã—Å–ª–µ — –ø–æ–º—ã–≤–∫—É. –ü—Ä–∏ —Ç–∞–∫–æ–º –∞—Ä—Ç–æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–µ —ç—Ç–æ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª–æ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥. –Ý–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º –∫ –Ω–µ–º—É –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π, –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏–π—Å—è –∑–¥–µ—Å—å, –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∂–∏—Ç–µ–ª—å. –ú—É–∂—á–∏–Ω–∞, –ª–µ—Ç –ø–æ–¥ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç. –û–Ω–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–æ. –¢–æ—Ä–≥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å. –ú—É–∂—á–∏–Ω–∞ –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –º—ã–ª–∞ –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω—ã. –û–Ω —É—à—ë–ª –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å, –ø—Ä–∏—á—ë–º –ø–æ –µ–≥–æ –≤–∏–¥—É –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ –æ–Ω —Å –ú—É—Å–æ–π –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª—Å—è.
–Ý—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö –±—ã–ª –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –º—ã –ø–æ—à–ª–∏ –≤ –±–∞–Ω—é –∫ —ç—Ç–æ–º—É —á–µ—á–µ–Ω—Ü—É. –ù–æ –ú—É—Å–∞ –Ω–∞—à—ë–ª –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–≥. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–Ω–µ—Å—Ç–∏ –∞–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä –æ—Ç –ó–ò–õ–∞ –∫ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∂–∏–ª–∏ –≤ –¥–æ–º–∞—Ö –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –¥–æ–º–∞ —Ç–æ–≥–æ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞. –≠—Ç–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∞–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –Ω–µ—Å—Ç–∏ –º–Ω–µ. –ù–µ–ª—å–∑—è —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —è —Å–∏–ª—å–Ω–æ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ–º—É, –Ω–æ –∫ —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —Ä—É–∫–∏ –º–æ–∏ –ø–æ–∫—Ä—ã–ª–∏—Å—å —Ü—ã–ø–∫–∞–º–∏, –∏ –≤ –±–∞–Ω—é —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
–ú—É—Å–∞ —Ö–∏—Ç—Ä–∏–ª. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Ç–æ—Ç —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –ø–æ–æ–±–µ—â–∞–ª –ú—É—Å–µ —Å–∞—Ö–∞—Ä –∏ –º–∞—Ö–æ—Ä–∫—É. –ü—Ä–æ—Ç–∏–≤ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä—ã–∂–∏–π —Ç–æ–∂–µ –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥.
— –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ –∏–¥—Ç–∏ –≤—Å–µ–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ, — –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª –æ–Ω. — –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–∞–º–∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤—Å—è —ç—Ç–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞.
–ê–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä –¥–∞–∂–µ –≤ —Ä—é–∫–∑–∞–∫–µ –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π –±—ã–ª –Ω–µ–ø–æ–¥—ä—ë–º–Ω–æ–π –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –Ω–æ—à–µ–π. –°–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª –º–µ–Ω—è –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –±–æ–µ–≤–∏–∫ —Å –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤–∫–æ–π. –ú—ã —à–ª–∏ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ. –ê–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä –ø–µ—Ä–µ–∫–∞—Ç—ã–≤–∞–ª—Å—è –ø–æ —Å–ø–∏–Ω–µ –∏ –Ω–æ—Ä–æ–≤–∏–ª –æ–ø—Ä–æ–∫–∏–Ω—É—Ç—å –Ω–∞–∑–∞–¥. –ü–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ –≤–∑–≤–∞–ª–∏—Ç—å –µ–≥–æ –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–æ –Ω–µ —É–≤–µ–Ω—á–∞–ª–∏—Å—å —É—Å–ø–µ—Ö–æ–º. –ù–∞ –ø–æ–ª–ø—É—Ç–∏ —Ä—é–∫–∑–∞–∫ –ø—Ä–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –Ω–µ—Å—Ç–∏ –∞–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö.
–í–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–æ–∫ –Ω–∞—Å –æ–±–æ–≥–Ω–∞–ª–∏ –ú—É—Å–∞ —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π.
— –°–≤–µ—Ç–∞, –≤—ã –∫—É–¥–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –°—Ç–∏—Ä–∞—Ç—å –±–µ–ª—å—ë, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è –∏ –ø–æ–º—ã—Ç—å—Å—è.
–≠—Ç–æ—Ç –∞–∫–∫—É–º—É–ª—è—Ç–æ—Ä –º–µ–Ω—è –∏–∑–º–æ—á–∞–ª–∏–ª. –í–æ—Ç —É–∂–µ –ú—É—Å–∞ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –Ω–∞—à –¥–æ–º –Ω–∞ –≥–æ—Ä–∫–µ. –í–æ—Ç –æ–Ω –≤–µ–¥–µ—Ç –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ, –∞ —è –≤—Å—ë —Ç–∞—â—É.
–ê—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏–π –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª —É—Å–∏–ª–∏–ª—Å—è. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∏ –∫–∞–∂–¥–æ–º —Å–≤–∏—Å—Ç–µ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–∞ –±—Ä–æ—Å–∞—Ç—å –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω—É—é –Ω–æ—à—É –∏ –ª–æ–∂–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é. –¢–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —á–∞—Å–∞, –∏–∑–º—É—á–µ–Ω–Ω—ã–π, —è –≤–æ—à—ë–ª –≤ –¥–æ–º, –≥–¥–µ –Ω–∞—Å —è–∫–æ–±—ã –∂–¥–∞–ª–∞ –±–∞–Ω—è. –ù–∏–∫–∞–∫–æ–π –±–∞–Ω–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ú—É–∂–∏–∫, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –º–æ–µ–º—É –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫—É —á–∞—é, –Ω–æ –∫–∞–∫–æ–π —Ç–∞–º —á–∞–π, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞–¥ –∫—Ä—ã—à–µ–π —Å–≤–∏—Å—Ç—è—Ç —Å–Ω–∞—Ä—è–¥—ã. –ò –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –≤–∑–æ—Ä–≤–µ—Ç—Å—è –æ–Ω —É —Ä–µ–∫–∏, –∏–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤ –¥–æ–º–µ.
–°–≤–µ—Ç–∞ —Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–∞ –±–µ–ª—å—ë –≤ —Å–µ–Ω—è—Ö. –í —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –º–æ—é —Ä—É–±–∞—à–∫—É. –û–Ω–∞ —Å–∞–º–∞ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª–∞ –ø–æ—Å—Ç–∏—Ä–∞—Ç—å –¥–ª—è –º–µ–Ω—è. –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É — –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª–∞. –Ø –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª —à–∞–Ω—Å—ã –ø–æ–º—ã—Ç—å—Å—è, –∫–∞–∫ –Ω—É–ª–µ–≤—ã–µ. –í–æ–¥—ã –±—ã–ª–æ –º–∞–ª–æ.
— –í–∏—Ç—è, — —Ç–∏—Ö–æ–Ω–µ—á–∫–æ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∫–æ –º–Ω–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — –ú—É—Å–∞ —Ö–æ—á–µ—Ç –ø—Ä–æ–¥–∞—Ç—å –º–µ–Ω—è —Ö–æ–∑—è–∏–Ω—É —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞. –û–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç, –ø–æ–∂–∏–≤—ë—à—å –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –±—É–¥–µ–º –ø–µ—Ä–µ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ.
— –ó–∞—á–µ–º –µ–º—É —ç—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ? — –±–µ—Å—Ç–æ–ª–∫–æ–≤–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –¢—ã —á—Ç–æ? –î—É—Ä–∞–∫?! –ù–µ –∑–Ω–∞–µ—à—å –∑–∞—á–µ–º?
–ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –æ—â—É—Ç–∏–ª —Å–ª–∞–±–æ—Å—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è. –ü–æ —Å—É—Ç–∏ –¥–µ–ª–∞, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∞—Å—å –∫–æ –º–Ω–µ –∑–∞ –ø–æ–º–æ—â—å—é, –∞ –≤–µ–¥—å —è –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –Ø —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ —Ä–∞–±, –∫–∞–∫ –∏ –æ–Ω–∞. –£–∂ –µ—Å–ª–∏ –ú—É—Å–∞ –∑–∞–¥—É–º–∞–ª –ø—Ä–∏—Ç–æ—Ä–≥–æ–≤–∞—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, –∫–∞–∫ –Ω–∞–ª–æ–∂–Ω–∏—Ü–µ–π, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è –µ—ë —Å –º—É–∂–∏–∫–æ–º, —Ç–æ —è –≤–µ–¥—å –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–æ–≥—É –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –≤–æ–∑–¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–∑–≤–∞—Ç—å –∫ —Å–æ–≤–µ—Å—Ç–∏, —á—Ç–æ, –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω–æ, —Å–º–µ—à–Ω–æ…
–Ý–∞–∑—ã–≥—Ä–∞–ª–∞—Å—å –≤–æ—Ç —Ç–∞–∫–∞—è –Ω–µ–º–∞—è —Å—Ü–µ–Ω–∞, –∏ –≤—Å—ë –∂–µ —è –Ω–∞—à—ë–ª—Å—è:
— –Ø –∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–µ –Ω–µ –º–æ–≥—É—Ç —Å–∏–ª–æ–π –ø—Ä–∏–Ω—É–¥–∏—Ç—å –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—É –∫ —Å–æ–∂–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, —Ö–æ—Ç—è –æ—á–µ–Ω—å —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –∂–µ —Å–ª–æ–≤–∞—Ö.
— –¢–∞–∫ –≤–µ–¥—å —è-—Ç–æ –Ω–µ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–∫–∞, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—é –∫–æ –º–Ω–µ –æ–Ω –±—É–¥–µ—Ç –≤–µ—Å—Ç–∏ —Å–µ–±—è, –∫–∞–∫ –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –≥–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–π —Å–∞–º–µ—Ü?!
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞—à—ë–ª —Å–∞–º —Å–∞–º–µ—Ü — —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –¥–æ–º–∞. –û–Ω —Å –≤–æ–∂–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É.
— –í—Å–µ –º—É–∂—á–∏–Ω—ã — –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –º–Ω–µ.
–Ø –ø–æ—à—ë–ª –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É, –∞ –æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –≤ —Å–µ–Ω—è—Ö. –§–∞–∫—Ç –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª—Å—è –∏ –¥–≤—É–º—è –º–µ—à–∫–∞–º–∏ —É –≤—ã—Ö–æ–¥–∞. –ú–µ—à–æ–∫ —Å —Å–∞—Ö–∞—Ä–æ–º –∏ –º–µ—à–æ–∫ —Å –º—É–∫–æ–π. –°—Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–æ–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –Ω–∞ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–Ω–µ–π. –Ø –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –ú—É—Å–æ–π. –ú—É—Å–∞ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è, –≤—Å—ë –ª–∏ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –æ–Ω –¥–µ–ª–∞–µ—Ç? –≠—Ç–æ—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –±—ã–ª –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞ –º–æ—Ä–¥–µ. –ù–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á–µ–º –±—ã —ç—Ç–æ –≤—Å—ë –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å, –µ—Å–ª–∏ –±—ã –Ω–µ –≤–∑—Ä—ã–≤ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–∞ –ø—Ä—è–º–æ –≤ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–µ. –ú—É—Å–∞ –∏ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä. –ü–æ—Ç–æ–º –¥–æ–ª–≥–æ –æ —á—ë–º-—Ç–æ —Å–ø–æ—Ä–∏–ª–∏. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ú—É—Å–∞ –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –ø–æ—á–∏–Ω–∏—Ç—å —Å–∞–ø–æ–≥–∏ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞. –ü–æ–∫–∞ —è —á–∏–Ω–∏–ª, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–∞ –≤—Å—ë –±–µ–ª—å—ë –∏ –Ω–∞–º, –∏ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω—É, –∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –≤—Å—ë –∂–µ —Å–º–æ–≥ –ø–æ–º—ã—Ç—å—Å—è.
–£—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –º—ã –≤—Å–µ –≤–º–µ—Å—Ç–µ. –ú—É—Å–∞ –∏—Å–ø—É–≥–∞–ª—Å—è –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –ê –≤–¥—Ä—É–≥ —Ä–∞–∑–±–æ–º–±—è—Ç? –ß—Ç–æ –æ–Ω —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–∫–∞–∂–µ—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º, —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—é—â–∏–º –Ω–∞ –≤—ã–∫—É–ø –≤ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤? –° —Å–æ–±–æ–π –º—ã –∑–∞–±—Ä–∞–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–ª–º–µ—à–∫–∞ —Å–∞—Ö–∞—Ä—É –∏ –ø–∞–∫–µ—Ç —Å –º–∞—Ö–æ—Ä–∫–æ–π. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ —Ü–µ–Ω–∞ –º–æ–µ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –ø–æ –ø–æ—á–∏–Ω–∫–µ —Å–∞–ø–æ–≥.
–ú–∞—Ö–æ—Ä–∫—É –ú—É—Å–∞ –æ—Ç–¥–∞–ª –º–Ω–µ, –Ω–æ –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª —è –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è, –æ—Ç–æ–±—Ä–∞–ª –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É. –í—Ç–æ—Ä—É—é –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É –∑–∞–±—Ä–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. –û–Ω —Å–∞–º –Ω–µ –∫—É—Ä–∏–ª, –Ω–æ –∫—É—Ä–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –±–æ–π—Ü—ã –∏ –æ–Ω –∏–∑–≤–∏–Ω–∏–ª—Å—è –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —è –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –±–µ–∑ —Ç–∞–±–∞–∫–∞.
— –í–æ–∑—å–º—ë—à—å —É –ú—É—Å—ã, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
— –Ý–∞–∑ —É–∂ —Ç—ã —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ –≤–∑—è–ª, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è, — —Ç–æ –º–Ω–µ –æ–Ω –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –¥–∞—Å—Ç.
–Ý—ã–∂–∏–π –ø–æ—á–µ—Å–∞–ª –∑–∞—Ç—ã–ª–æ–∫, –ø–æ–¥–µ–ª–∏–ª –º–∞—Ö–æ—Ä–∫—É –Ω–∞ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —Ä–∞–≤–Ω—ã–µ —á–∞—Å—Ç–∏ –∏ –æ–¥–Ω—É —á–∞—Å—Ç—å –æ—Ç–¥–∞–ª –º–Ω–µ.
— –¢–∞–∫ –±—É–¥–µ—Ç —á–µ—Å—Ç–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –í–∞—Å —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ, –∫—É—Ä—è—â–∏—Ö. –ü—É—Å—Ç—å –±—É–¥–µ—Ç –≤—Å–µ–º –ø–æ—Ä–æ–≤–Ω—É.
–≠—Ç–æ—Ç –ø–∞—Ä–µ–Ω—å –∏ –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —è –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–π. –°–ø–∞—Å–∏–±–æ –µ–º—É –∑–∞ —ç—Ç–æ.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ –≥–æ—Ä–µ –Ω–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–≤—ã–µ –±–æ–º–±–∞—Ä–¥–∏—Ä–æ–≤—â–∏–∫–∏. –ì–æ—Ä—É –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏. –ü—É–ª–µ–º—ë—Ç —Å –≥–æ—Ä—ã —è—Ä–æ—Å—Ç–Ω–æ –æ–≥—Ä—ã–∑–∞–ª—Å—è. –ú–∏–Ω–æ–º—ë—Ç —Ç–æ–∂–µ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã —É–ª–µ—Ç–∞–ª–∏, –≤–∫–ª—é—á–∞–ª–∞—Å—å –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏—è. –û–Ω–∏ —á—ë—Ç–∫–æ –∫–æ–æ—Ä–¥–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ —Å–≤–æ–∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è: –Ω–µ –¥–∞–π –±–æ–≥ —Å–±–∏—Ç—å —Å–≤–æ–π –∂–µ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç. –ß—É—Ç—å –∑–∞–º–æ–ª–∫–∞–ª–∞ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏—è — –∂–¥–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç—É—Ç –∂–µ –∏ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å. –í–∏–¥–∏–º–æ, —ç—Ç–∞ –≥–æ—Ä–∞ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –¥–æ—Å–∞–∂–¥–∞–ª–∞ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º –≤–æ–π—Å–∫–∞–º. –ü–æ—Å–ª–µ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π —Å–º–µ–Ω—ã –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è —Ä—ã–∂–∏–π. –ú—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –ø–∏–ª–∏–ª–∏ –¥—Ä–æ–≤–∞. –û–Ω –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–∞–º.
— –í—ã, –º—É–∂–∏–∫–∏, –ø–µ—Ä–µ–π–¥–∏—Ç–µ –ø–∏–ª–∏—Ç—å –≤–æ–Ω —Ç—É–¥–∞, — –æ–Ω —É–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –Ω–∏–∑–∏–Ω—É –º–µ–∂–¥—É –¥–æ–º–æ–º –∏ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç–æ–º. — –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–µ. –ù–∞–º –Ω—É–∂–µ–Ω –æ–∫–æ–ø.
— –ê –∫–∞–∫ —Ç—ã, –∫–∞–∑–∞—Ö, –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π –≤–æ–π–Ω–µ, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
— –£ –º–µ–Ω—è –ø–∞–ø–∞ –∫–∞–∑–∞—Ö, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –ú–∞–º–∞ — —á–µ—á–µ–Ω–∫–∞. –Ø —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –Ω–∞ –∑–∞–≤–æ–¥–µ. –ó–∞–≤–æ–¥ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è. –ù–∞—Å –Ω–µ —É–≤–æ–ª–∏–ª–∏, –Ω–æ –∏ –Ω–µ –ø–ª–∞—Ç–∏–ª–∏.
— –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
— –ù–µ—Ç, –ø–æ —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –Ø –≤–µ—Ä—É—é—â–∏–π. –ó–¥–µ—Å—å –≤–æ—é—é—Ç –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–µ –∑–∞ —Å–≤–æ—é –∑–µ–º–ª—é.
— –¢—ã –Ω–µ —Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
–°—É–¥—è –ø–æ —Ç–æ–º—É, –∫–∞–∫ –æ–Ω –∑–∞–¥—É–º–∞–ª—Å—è, —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –≤–æ–ª–Ω—É–µ—Ç –∏ –µ–≥–æ.
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω —Ç–∏—Ö–æ. — –ï—â—ë –Ω–µ —Ä–µ—à–∏–ª –∏ –≤—Ä–∞—Ç—å –Ω–µ –±—É–¥—É. –ù–æ —É –º–µ–Ω—è –∑–¥–µ—Å—å –¥—Ä—É–∑—å—è. –Ø –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∏–º –ø–æ–º–æ—á—å. –û–Ω–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—é—Ç.
–í–µ—Å—å —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å —Ä—ã–∂–∏–π –±—ã–ª –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è—Ö. –¶–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –ø–∞—Ä–∞ –∑–∞ –ø–∞—Ä–æ–π –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏ –≥–æ—Ä—É, –Ω–æ —Ç—â–µ—Ç–Ω–æ: –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª, –º–∏–Ω–æ–º—ë—Ç —É—Ö–∞–ª, –∞ —è –∫–æ–ø–∞–ª –æ–∫–æ–ø. –ú–µ—Ç—Ä, –Ω–∞ —à–µ—Å—Ç—å, –Ω–∞ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω—É. –ó–∞ —Ç—Ä–∏ —á–∞—Å–∞ –æ–∫–æ–ø –±—ã–ª –≥–æ—Ç–æ–≤. –ï—â—ë –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞ –µ–≥–æ –º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∫—É –≤–µ—Ç–≤—è–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, –∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —É–∂–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ –Ω—ë–º —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –¥–µ–ª–∞–º–∏. –ü—É–ª–∏ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏ –ø–æ—Å–≤–∏—Å—Ç—ã–≤–∞–ª–∏ –∏ –º—ã –∫ –Ω–∏–º –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫–∞—Ç—å. –ü–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–∞ –≤–µ–ª–∞—Å—å –≥–¥–µ-—Ç–æ –±–ª–∏–∑–∫–æ, –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ —Ä–µ—á–∫–∏, –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–µ –æ—Ç –Ω–∞—Å. –ú—ã –±—ã–ª–∏ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –æ–±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–µ–Ω—ã —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤ –Ω–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è. –®—ë–ª —Å–µ–¥—å–º–æ–π –¥–µ–Ω—å –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è —Ç–∞–º.
–ë–ª–∏–∂–µ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, –æ–∫–æ–ª–æ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –¥–æ–º–∏–∫–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –¥–∂–∏–ø. –ò–∑ –Ω–µ–≥–æ –≤—ã—à–µ–ª –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤. –Ø —Å –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–æ–π —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ.
— –ù–µ —É–Ω—ã–≤–∞–π, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω –º–Ω–µ. — –ú—ã –≤–∞—Å —Ç—É—Ç –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–º –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ä–∑–∞–Ω–∏–µ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–∞–º.
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –Ω–∞–º –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –≤–Ω—É—à–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞—Å –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç—è—Ç —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞, —Ç–æ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—é—Ç. –ú—ã –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –≤–∏–¥, —á—Ç–æ –≤–µ—Ä–∏–º, –≤–Ω–∏–º–∞–µ–º –∏ –∂–∏–≤—ã–º–∏ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º –Ω–µ —Å–¥–∞–¥–∏–º—Å—è. –ü–æ—Ç–æ–º —Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å –Ω–∞–¥ —ç—Ç–∏–º, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
–ö—é—Ä–∏ –æ —á—ë–º-—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å –ú—É—Å–æ–π –∏ —É–µ—Ö–∞–ª. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ —è –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –µ—â—ë —Ä–∞–∑ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –°–µ–ª–∏–º–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º–µ–Ω—è —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª, –∏–∑ –∫—É—Å—Ç–æ–≤ –≤—ã—à–µ–ª —Ä—ã–∂–∏–π. –ì–æ–ª–æ–≤–∞ –≤ –∫—Ä–æ–≤–∏, –Ω–µ—Å–µ—Ç –Ω–∞ —Å–µ–±–µ —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –µ–¥–≤–∞ –≤–æ—Ä–æ—á–∞–µ—Ç —è–∑—ã–∫–æ–º. –û–Ω —Ç–æ–∂–µ –±—ã–ª –≤–µ—Å—å –≤ –∫—Ä–æ–≤–∏.
— –ì–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —è –µ–º—É, –¥—É—Ä–∞–∫—É, — —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö, — —Å–∏–¥–∏ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ. –Ø-—Ç–æ —É–∂–µ –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–π, –∑–Ω–∞—é, –∫–æ–≥–¥–∞ —É–±–µ–≥–∞—Ç—å –æ—Ç –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–∞, –µ—Å–ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –∑–∞—à—ë–ª –¥–ª—è –∞—Ç–∞–∫–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏. –ê —ç—Ç–æ—Ç! — –æ–Ω –ª–µ–≥–æ–Ω—å–∫–æ —Ç–∫–Ω—É–ª —Ä–∞–Ω–µ–Ω–æ–≥–æ, — –≥–µ—Ä–æ–π, –º–∞—Ç—å —Ç–≤–æ—é… –°—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –¥–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –Ω–µ—Å–ø–µ—à–Ω–æ —Ç–∞–∫, –ø–æ—à—ë–ª –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É. –Ø –µ–º—É –∫—Ä–∏—á—É: «–ë—ã—Å—Ç—Ä–µ–π, –±–æ–ª–≤–∞–Ω!» –ê —Ç—É—Ç —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞ –∫–∞–∫ —à–∞—Ä–∞—Ö–Ω–µ—Ç! –í–æ—Ç — —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç, — –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ —Ä–∞–Ω–µ–Ω–æ–≥–æ.
— –¢–µ–±–µ –∏ —Å–∞–º–æ–º—É –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–≤ —É –Ω–µ–≥–æ –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–π —à—Ä–∞–º –Ω–∞ –ª–±—É.
— –≠—Ç–æ –µ—Ä—É–Ω–¥–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ä—ã–∂–∏–π, –≤—ã—Ç–∏—Ä–∞—è –∫—Ä–æ–≤—å. — –ù–∞–¥–æ –≤—ã–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Å–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–Ω—É—é –º–∞—à–∏–Ω—É. –Ø —ç—Ç–æ–≥–æ —Ñ—Ä–∞–µ—Ä–∞ –¥–∞–ª—å—à–µ –Ω–µ –ø–æ—Ç–∞—â—É.
–ú—ã —Å –°–µ–ª–∏–º–æ–º –ø–æ–º–æ–≥–ª–∏ –¥–æ—Ç–∞—â–∏—Ç—å —Ä–∞–Ω–µ–Ω–æ–≥–æ –¥–æ –¥–æ–º–∞. –°–∞–Ω–∏—Ç–∞—Ä–∫–∞ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –Ý–∞–Ω–µ–Ω–æ–≥–æ —É–≤–µ–∑–ª–∏. –£–∂–µ –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–∞—Å –≥–æ—Ä—É —É—Ç—é–∂–∏–ª–∞ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏—è, –∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞. –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ –∞–≤–∏–∞—Ü–∏—è –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –±–µ—Å—Å–∏–ª—å–Ω–∞? –ù–æ –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª —è –æ–± —ç—Ç–æ–º –ø–æ–¥—É–º–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –≤–æ—Ü–∞—Ä–∏–ª–æ—Å—å –∑–∞—Ç–∏—à—å–µ –∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Å–∞–º–æ–ª–µ—Ç —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–∞. –®—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫ –°—É-24. –ù–∞ –≥–æ—Ä–µ –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç. –®—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫ —à—ë–ª –æ—á–µ–Ω—å –Ω–∏–∑–∫–æ –∏ –ø–µ—Ä–≤—É—é –∞—Ç–∞–∫—É —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤—ë–ª —Å —Ö–æ–¥—É. –≠—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ — —Å —Ö–æ–¥—É, –¥–∞ –µ—â—ë –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞!
–í—Ç–æ—Ä–æ–π –∑–∞—Ö–æ–¥ — —Å —é–≥–∞, —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –ò –æ–ø—è—Ç—å –Ω–µ—É–¥–∞—á–∞, –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç –Ω–µ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞—è, —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –ø–æ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫—É. –ï—â—ë –æ–¥–∏–Ω –∑–∞—Ö–æ–¥. –¢–µ–ø–µ—Ä—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —É —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã, –ø–æ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç—É –≥–ª—É—Ö–æ –∑–∞—É—Ä—á–∞–ª–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª—å–Ω–∞—è –ø—É—à–∫–∞. –û–Ω–∞ –∏–∑—Ä—ã–≥–∞–ª–∞ –ø–ª–∞–º—è, –∞ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –ø–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—É. –ü—É–ª–µ–º—ë—Ç—á–∏–∫ –Ω–µ –ø–æ–∫–∏–¥–∞–ª —Å–≤–æ–µ–π –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏.
–Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –¥–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–∞–¥–æ —É–∂–µ –≤—ã–≤–æ–¥–∏—Ç—å –∏–∑ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è! –ü–∏–ª–æ—Ç —Å —Ç–∞–∫–æ–π —Å–∏–ª–æ–π –≤—ã—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç, —á—Ç–æ —Å –∫–æ–Ω—Å–æ–ª–µ–π –∫—Ä—ã–ª–∞ —Å—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –±–µ–ª—ã–µ —Å—Ç—Ä—É–∏ —Ç—É—Ä–±—É–ª–µ–Ω—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏. –í –Ω–∏–∂–Ω–µ–π —Ç–æ—á–∫–µ —Ç—Ä–∞–µ–∫—Ç–æ—Ä–∏–∏ —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫ –∑–∞ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫–æ–º. –¢–∞–∫ –Ω–∏–∑–∫–æ –æ–Ω –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –∏–∑ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞—Ö–æ–¥ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –£—Ä—á–∞–Ω–∏–µ –ø—É—à–∫–∏, —Ç—Ä–µ—Å–∫ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–∞ —Å –≥–æ—Ä—ã, –∞–≤–∞—Ä–∏–π–Ω—ã–π –≤—ã–≤–æ–¥ –∏–∑ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –±–æ–µ–≤–æ–π —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—Ç –∏ –Ω–æ–≤—ã–π –∑–∞—Ö–æ–¥. –¢–∞–∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—é—Ç –∞—Å—ã. –ù–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞ –ø–æ–ª–∫–∞. –í–æ—Ç –∫–∞–∫ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª —ç—Ç–æ—Ç –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç! –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å —Å–µ–¥—å–º–æ–≥–æ –∑–∞—Ö–æ–¥–∞ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç —Å–º–æ–ª–∫. –õ–µ—Ç—á–∏–∫ –∑–∞—à—ë–ª –≤ –≤–æ—Å—å–º–æ–π —Ä–∞–∑, –Ω–æ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–∞ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ö–æ—Ä–æ—Ç–∫–∞—è –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –∏–∑ –ø—É—à–µ–∫ –∏ –≤—ã–≤–æ–¥ –∏–∑ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω—É—é —Å–≤–µ—á—É, –¥–≤–æ–π–Ω–∞—è –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω–∞—è –±–æ—á–∫–∞ –∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è –≤ –æ–±–ª–∞–∫–∞—Ö. –í—ã—Å–æ–∫–∏–π –∫–ª–∞—Å—Å! –Ø –±—ã–ª –≥–æ—Ä–¥ –∑–∞ –Ω–∞—à–∏—Ö –ª—ë—Ç—á–∏–∫–æ–≤.
–û—Ç –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–∞-—Å–º–µ—Ä—Ç–Ω–∏–∫–∞ –∏ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–∞ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å. –°–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –ø–æ –∫—É—Å–∫–∞–º. –í—Å—ë –±—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–º–æ–ª–æ—Ç–æ. –≠—Ç–æ—Ç –∂–µ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫ —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–∏–ª –∏ –º–∏–Ω–æ–º—ë—Ç. –í —Ç–æ—Ç –≤–µ—á–µ—Ä –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ–∫–∏–Ω—É–ª–∏ –≥–æ—Ä—É.
–£—Ç—Ä–æ–º, –æ–∫–æ–ª–æ –¥–µ–≤—è—Ç–∏ —á–∞—Å–æ–≤, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ç—Ä–∏ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–∞ –ú–∏-24 — «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª—ã». –û–Ω–∏ –≤—Å—Ç–∞–ª–∏ –≤ –∫—Ä—É–≥ –Ω–∞–¥ –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω–æ–π —Ä–µ–∫–∏.
–ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –¥–æ–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª—Å—è, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–º –±—ã–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤ –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ —Ç–∞–º —Å–µ–π—á–∞—Å –±—ã–ª–∏ –∏ –£–º–∞—Ä, –∏ —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö.
–ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –¥–æ–ª–µ—Ç–∞–ª –¥–æ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –¥–æ–º–∏–∫–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ —è —Ö–æ–¥–∏–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ—Ç «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª–æ–≤» –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –î–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∏ –≤ –∫–æ–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è –ª–æ–∂–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é. –°–∏–ª—É—ç—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –±—É–¥–µ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ª—É—á—à–µ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–≤–µ—Ä—Ö—É. –õ—É—á—à–µ –ø—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω–∏—Ç—å—Å—è –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É –∏–ª–∏ –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–∏–º. –í –ø–µ—Ä–≤–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –≤—ã –±—É–¥–µ—Ç–µ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å —Å–≤–µ—Ä—Ö—É, –∫–∞–∫ —á–∞—Å—Ç—å —Å—Ç–≤–æ–ª–∞. –í–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–º, –∫–∞–∫ –ø–µ–Ω—ë–∫. –ï—Å–ª–∏ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–ø–æ—Å–æ–± –¥–ª—è –≤–∞—Å –æ—Å–∫–æ—Ä–±–∏—Ç–µ–ª–µ–Ω, –≤—ã–±–∏—Ä–∞–π—Ç–µ –ø–µ—Ä–≤—ã–π.
–ö–∞–∂–¥—ã–µ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç—ã –º–µ–Ω—è–ª–∏—Å—å. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –ª–µ—Ç–∞–ª–∞ –ø–∞—Ä–∞, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ — —Ç—Ä–∏. –ò–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç—ã –ø–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–≤ —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ. –ü–æ –≤—Å–µ–º –∫–∞–Ω–æ–Ω–∞–º –≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–∞—É–∫–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤—ã—Å–∞–¥–∫–∞ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞. –ê —Å–∞–º—ã–º –≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω—ã–º –º–µ—Å—Ç–æ–º –¥–ª—è –≤—ã—Å–∞–¥–∫–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å—Ç–∞—Ç—å –≥–æ—Ä–∞, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–æ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç –∏ –º–∏–Ω–æ–º—ë—Ç. –¢–∞ —Å–∞–º–∞—è, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –≤–µ–ª–∞—Å—å –æ–∂–µ—Å—Ç–æ—á—ë–Ω–Ω–∞—è –±–æ—Ä—å–±–∞. –í–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∫–ª—é—á–æ–º –∫ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª—é –Ω–∞–¥ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–º —É—á–∞—Å—Ç–∫–æ–º –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–í–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç—ã –ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –¥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –º–∞—Å—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –Ω–∞–ª—ë—Ç –Ω–∞ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω –∏ –±–ª–∏–∑–ª–µ–∂–∞—â–∏–µ —Å—ë–ª–∞. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤–¥–æ–ª—å –¥–æ–ª–∏–Ω—ã –ê—Ä–≥—É–Ω–∞ —Å –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞ –∏ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–µ–ª–æ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏. –ó–∞–ø–∞–¥–Ω–µ–µ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω–∞ –≤ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –æ—Ç –Ω–∞—Å –±—ã–ª–æ –µ—â—ë –æ–¥–Ω–æ —Å–µ–ª–æ. –¢–∞–º —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Å —é–≥–æ-–≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞. –ï—Å–ª–∏ –≤ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω–µ –ø–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞–º –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª, –∏–ª–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, —Ç–æ –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–º —Å–µ–ª–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –¥–≤–µ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–Ω—ã–µ —Ç–æ—á–∫–∏. –¢—Ä–∞—Å—Å–µ—Ä—ã —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤ –±—ã–ª–∏ –æ—Ç—á—ë—Ç–ª–∏–≤–æ –≤–∏–¥–Ω—ã –≤ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–º –Ω–µ–±–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–º–µ—Ä–∫–∞—Ç—å—Å—è, –Ω–∞–¥ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω–æ–º –ø–æ–¥–Ω—è–ª–æ—Å—å –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–µ –æ–±–ª–∞–∫–æ –∏–∑ –¥—ã–º–∞ –∏ –ø—ã–ª–∏. –ò–∑–Ω—É—Ç—Ä–∏ –æ–Ω–æ –ø–æ–¥—Å–≤–µ—á–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–∂–∞—Ä–∞–º–∏ –∏ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª–æ –∑–ª–æ–≤–µ—â–µ. –°–∞–º–æ–ª–µ—Ç—ã –≤–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤ —ç—Ç–æ –æ–±–ª–∞–∫–æ. –ß—Ç–æ –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –ø–∏–ª–æ—Ç—ã –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ, –ø–æ –∫–∞–∫–∏–º —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ —Ü–µ–ª—è–º, –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –∑–∞–≥–∞–¥–∫–æ–π. –≠—Ç–æ—Ç –Ω–∞–ª—ë—Ç –Ω–∞ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª –Ω–µ –±–æ–µ–≤–æ–π –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–µ–π, –Ω–æ –∞–∫—Ç–æ–º —É—Å—Ç—Ä–∞—à–µ–Ω–∏—è –∏ –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è.
–í—Å—é –Ω–æ—á—å –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –ª–µ—Ç–∞–ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –∏, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω–∏ —É–ª–µ—Ç–∞–ª–∏, –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª—Å—è –∞—Ä—Ç–æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª. –ú—ã –º–æ–ª–∏–ª–∏ –±–æ–≥–∞ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞—à –¥–æ–º–∏–∫ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª —Ü–µ–ª—å—é –¥–ª—è —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏–ª–∏ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–∏. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏—Ö —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤ –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –¥–æ–º —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–∞–∫ —Ö–æ—Ç–µ–ª –∑–∞–ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –ß–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –ø–æ–≥–∏–±. –û–¥–Ω–∞ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–∏–ª–∞ —Ä–æ—Å–∫–æ—à–Ω—ã–π –æ—Å–æ–±–Ω—è–∫, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –±—ã–ª–∞ –±–∞–∑–∞ —á–∞—Å—Ç–∏ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞. –û –ø–æ—Ç–µ—Ä—è—Ö –≤ –æ—Ç—Ä—è–¥–µ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –æ–±–æ—à–ª–æ—Å—å. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤–µ—Å—å –æ—Ç—Ä—è–¥ –±—ã–ª –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è—Ö, –Ω–æ —Å–∏–¥–µ–ª —Ç–∞–º —Ç–∏—Ö–æ, –Ω–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–≤–∞—è —Å–µ–±—è –±–µ—Å–ø–æ–ª–µ–∑–Ω–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–±–æ–π –ø–æ –±—Ä–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–º –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–∞–º.
–£—Ç—Ä–æ–º «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª—ã» –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –ª–µ—Ç–∞—Ç—å. –û–Ω–∏, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –¥–ª—è —É—Å—Ç—Ä–∞—à–µ–Ω–∏—è —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏ –ø–æ –ª–µ—Å—É –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞—Ö —é–∂–Ω–æ–π –≥–æ—Ä—ã. –ú—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ –æ–∫–æ–ø–µ. –î–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –ø–æ—Å–≤–∏—Å—Ç—ã–≤–∞–ª–∏ —à–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø—É–ª–∏. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–º –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—ã –ø–∞–¥–∞–ª–∏ –≤–µ—Ç–æ—á–∫–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∫–∏, –ø–µ—Ä–µ–±–∏—Ç—ã–µ –∏–º–∏.
–í–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ú–∏-24 –¥–≤–∞–∂–¥—ã –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–µ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç—ã –ú–∏-8. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª—ã» –≤–µ–ª–∏ —Å–µ–±—è, –∫–∞–∫ –≤–µ—Ä–Ω—ã–µ —Å–æ–±–∞–∫–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–∞, –Ω–µ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞—è —Å—Ç—Ä–µ–ª—å–±—É –Ω–∏ –Ω–∞ –º–∏–Ω—É—Ç—É. –û–Ω–∏ –≤—Å–µ –≤–º–µ—Å—Ç–µ –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏ –≤ –∫—Ä—É–≥, –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ–±–ª—ë—Ç–æ–≤ –≥–æ—Ä—ã –∏ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏.
–û–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–∏ —á–∞—Å–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–∏ «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª–æ–≤» –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–π –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –æ–Ω —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞—à—ë–ª –Ω–∞ –ø–æ—Å–∞–¥–∫—É –∏ –∑–∞–≤–∏—Å –Ω–∞–¥ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–æ–π –≥–æ—Ä—ã. –ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –∑–∞ –∫—Ä–æ–Ω–∞–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, —Å–µ–ª –æ–Ω, –∏–ª–∏ –∑–∞–≤–∏—Å, –Ω–æ —Å—É–¥—è –ø–æ —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç –Ω–µ —Å–Ω–∏–∂–∞–ª —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç–∏ –≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –Ω–µ—Å—É—â–µ–≥–æ –≤–∏–Ω—Ç–∞, –æ–± —ç—Ç–æ–º –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –¥–æ–≥–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è.
–í–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç –ø—Ä–æ–≤–∏—Å–µ–ª —Ç–∞–∫ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –æ–¥–Ω–æ–π –º–∏–Ω—É—Ç—ã. –ü–æ—Ç–æ–º —Ä–µ–∑–∫–æ –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª –æ–±–æ—Ä–æ—Ç—ã –∏ —É—à—ë–ª –≤–≤–µ—Ä—Ö —Å –ª–µ–≤—ã–º –∫—Ä–µ–Ω–æ–º. –í—Å—ë —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ç—Ä–∏ –ú–∏-24 –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∫—É –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω—ã–º –æ–≥–Ω—ë–º –∏–∑ –ø—É—à–µ–∫ –≤–æ –≤—Å–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤—ã—Å–∞–¥–∫–∞ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É —Å—Ç—Ä–∞—Ç–µ–≥–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –≥–æ—Ä—ã —Å—Ç–∞–ª–∞ –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω—ã–º —Ñ–∞–∫—Ç–æ–º. –û—Ç —ç—Ç–æ–π –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –¥–æ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –æ–∫–æ–ø–∞ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞. –î–ª—è —Å–Ω–∞–π–ø–µ—Ä–∞ — –Ω–µ—Ç –Ω–∏—á—Ç–æ. –ù–∞–º –Ω–µ –≤–µ—Ä–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤–æ–Ω —Ç–∞–º –Ω–∞—à–∏ —Ä–æ–¥–Ω—ã–µ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –ø–∞—Ä–Ω–∏. –ù–æ –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä?!
–ú—É—Å–∞ –≤–¥—Ä—É–≥ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ –ø–æ–≥–Ω–∞–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π.
— –î–∞–≤–∞–π –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ, — –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è–ª –æ–Ω, — –ø–æ–∫–∞ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç –Ω–µ —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –ø–æ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è–º. –ü–æ–∫–∞ –æ–Ω–∏ –µ—â–µ —Ç–∞–º —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è.
–î–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –µ–¥–≤–∞ –º—ã –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å, —Å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã —Ä–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª –∏ –Ω–∞–¥ –Ω–∞—à–∏–º –¥–æ–º–∏–∫–æ–º, –¥–∞ –∏ –Ω–∞–¥ –≤—Å–µ–π –æ–∫—Ä—É–≥–æ–π, –ø–æ–≤–∏—Å–ª–∞ –æ—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞. –î–µ—Å–∞–Ω—Ç –Ω–∞—á–∞–ª –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—é.
–≠—Ç–∞ –Ω–æ—á—å, –ø–æ–¥—Å–≤–µ—á–µ–Ω–Ω–∞—è —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏, –±—ã–ª–∞, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —Å–∞–º–æ–π —Ç—è–∂—ë–ª–æ–π –¥–ª—è –Ω–∞—Å. –ú—ã –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –Ω–∞—à –¥–æ–º–∏–∫ –¥–ª—è –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏. –Ý—è–¥–æ–º —Å –Ω–∏–º –æ–∫–æ–ø, –ø—É—Å—Ç—å –¥–∞–∂–µ –∏ –∑–∞–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π. –î–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –æ–¥–Ω–æ–π –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–Ω–æ–π –æ—á–µ—Ä–µ–¥–∏, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–±–∏—Ç—å —Å–∞–º–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å—Ç–µ–Ω—ã, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –º—ã, –∑–∞–∫–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏.
–ê —É—Ç—Ä–æ–º —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª–µ—Ç—ã –∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –∫—Ä—É–≥–æ–≤–æ–π –æ–±–ª—ë—Ç –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω—ã —Ä–µ–∫–∏. –ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–µ–ª —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–π –∏ —Å—Ç–∞–ª –∑–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –¥–ª—è –ø–æ—Å–∞–¥–∫–∏ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É –≥–æ—Ä—ã. –ú—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –ø–∏–ª–∏–ª–∏ –¥—Ä–æ–≤–∞ –∏ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –≤–∏–¥–µ–ª–∏, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç. –ò–∑ –ª–µ—Å–∞ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ø–æ–¥–ª–µ—Ç–∞—é—â–µ–≥–æ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–∞ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç, –Ω–æ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –º–∏–º–æ. –í—Ç–æ—Ä–æ–π –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª –∏–∑ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç–∞ –ø—Ä–∏—à—ë–ª—Å—è –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ. –Ø —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤–∏–¥–µ–ª –º–µ—Å—Ç–æ, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏. –°—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏ —Å–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞ –≥–æ—Ä—ã. –î–æ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã, –¥–æ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–π –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞ — –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ —Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–æ—Ç, –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –≥–¥–µ –∑–∞—Ç–∞–∏–ª–∏—Å—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞.
–¢—Ä–µ—Ç–∏–π –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª. –ì—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–µ—Ç –≤ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç. –û–Ω –Ω–∞–∫—Ä–µ–Ω–∏–ª—Å—è –∏ —É–ø–∞–ª. –ß—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–æ–º, –º—ã –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –∑–∞ –∫—Ä–æ–Ω–∞–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤, –Ω–æ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–û–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ —Ä–µ–∑–∫–æ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∞—Å—å. –¢—Ä–∏ –ú–∏-24 —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—Ç—å —Å–∫–ª–æ–Ω –≥–æ—Ä—ã, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç. –ú–µ–∂–¥—É –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–æ–º –∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ –∑–∞–≤—è–∑–∞–ª—Å—è –±–æ–π. –Ø –º–æ–≥ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å —Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ. –î–µ—Å–∞–Ω—Ç–Ω–∏–∫–∏ –∏–∑ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –ø—ã—Ç–∞—é—Ç—Å—è –≤—ã—Ç–∞—â–∏—Ç—å —Ç–æ–≤–∞—Ä–∏—â–µ–π –∏–∑ –≥–æ—Ä—è—â–µ–≥–æ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–∞. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –Ω–∞–¥–æ –æ—Ç–±–∏–≤–∞—Ç—å –∞—Ç–∞–∫—É –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤.
–ü–æ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–∞–º –≤—ë–ª—Å—è –æ–≥–æ–Ω—å –∏ —Å –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —É—â–µ–ª—å—è –ê—Ä–≥—É–Ω–∞. –ù–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ –ø–æ–ª—É—á–∞—Å–∞, –∫–∞–∫ –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–º—É, –ø–æ –¥–≤–æ–µ, –∏–∑ –ª–µ—Å–∞ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –∏ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è. –ú—É—Å–∞ –ø–æ–¥–±–µ–≥–∞–ª –∫ –Ω–∏–º, —Ä–∞—Å—Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª –∏ —á–µ—Å–∞–ª «—Ä–µ–ø—É». –ú—É—Å–∞ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å. –ß–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å-–ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –∑–¥–µ—Å—å –º–æ–≥—É—Ç –±—ã—Ç—å —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞, –∞ —É –Ω–µ–≥–æ —Ç—Ä–æ–µ –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Å–∏–¥—è—Ç –≤ –æ–∫–æ–ø–µ.
— –ú—É—Å–∞, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –∫ –Ω–µ–º—É –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — –¥–∞–≤–∞–π —É–π–¥—ë–º, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ–∑–¥–Ω–æ.
— –ö—É–¥–∞ –º—ã –º–æ–∂–µ–º —É–π—Ç–∏? — —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª –ú—É—Å–∞ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –ø–æ-–¥–æ–±—Ä–æ–º—É, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏, –∂–µ–ª–∞—è –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –≤ —Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—á–µ—Å–∫–∏–π.
— –ú—É—Å–∞, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –µ–º—É —è, — –≤–æ–Ω, –≤–∏–¥–∏—à—å, –ø–µ—â–µ—Ä—ã –≤ –≥–æ—Ä–µ? –î–∞–≤–∞–π —Å–ø—Ä—è—á–µ–º—Å—è –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö. –ü–µ—Ä–µ—Å–∏–¥–∏–º, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º —É–π–¥—ë–º.
— –í—Å–µ —ç—Ç–∏ –ø–µ—â–µ—Ä—ã –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–∞–Ω—è—Ç—ã –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–º –Ω–∞—Å–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ú—É—Å–∞, — –∞ –≤–µ—Å—Ç–∏ –≤–∞—Å —Å–µ–π—á–∞—Å –≤ –≥–æ—Ä—ã —è –Ω–µ –º–æ–≥—É. –í—ã –Ω–µ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã –∫ —ç—Ç–æ–º—É. –í–æ–Ω —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç–µ —É –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–∞, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –≥–æ—Ä—ã. –û–Ω —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—Ç.
— –° –≥–æ—Ä–∞–º–∏ –º—ã —Å–ø—Ä–∞–≤–∏–º—Å—è, –ú—É—Å–∞, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª —è, — –∞ –∑–¥–µ—Å—å —Ç–æ—á–Ω–æ –ø—Ä–∏–±—å—é—Ç, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ —É–π–¥—ë–º.
–ò –≤–¥—Ä—É–≥, —è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª —É–¥–∞—Ä –≤ —É—Ö–æ. –û—Ç –ú—É—Å—ã. –° –¥–æ—Å–∞–¥—ã. –í–æ—Ç —Å–≤–æ–ª–æ—á—å –±–µ–∑–º–æ–∑–≥–ª–∞—è! –ù–∞ —ç—Ç–æ–º –¥–∏–∞–ª–æ–≥ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ –ú—É—Å–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –Ω–∞—Å —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–∏–ª–∏—Ç—å –¥—Ä–æ–≤–∞. –ú—ã —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–ª–∏, –≤—Å—Ç–∞–≤ –Ω–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω–∏, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –ø—É–ª–∏ —Ç–∞–∫ –∏ —Å–≤–∏—Å—Ç–µ–ª–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ–¥ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ–º –¥–≤—É—Ö «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª–æ–≤» –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É —Å–µ–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã–π –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç. –í–∏–¥–∏–º–æ, –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø–æ–¥–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ –∏ –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã—Ö. –ù–µ —Å–±–∞–≤–ª—è—è –æ–±–æ—Ä–æ—Ç–æ–≤, –ú–∏-8 –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ –ø—è—Ç–∏ –º–∏–Ω—É—Ç –∏ —É–ª–µ—Ç–µ–ª. –ü–æ—Ç–æ–º —ç—Ç–æ—Ç –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–∞–ª –µ—â—ë –¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±–æ–π –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –±–∞–Ω–∞–ª—å–Ω—É—é –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∫—É, –∞ —É –Ω–∞—à–µ–≥–æ –¥–æ–º–∏–∫–∞ —Å–∫–æ–ø–∏–ª–æ—Å—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –í—Å–µ –±—ã–ª–∏ –≤ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–µ –∏ —Å –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º. –ù–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–ø—É—Ç–∞—Ç—å –∏—Ö —Å –º–∏—Ä–Ω—ã–º–∏ –∂–∏—Ç–µ–ª—è–º–∏ –¥–∞–∂–µ —Å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –≥–æ—Ä—ã. –°—Ç–æ–∏–ª–æ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç—É –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å —ç—Ç—É –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—É, –∏ –º—ã –±—ã–ª–∏ –±—ã –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª—è–Ω—ã. –ù–æ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç—É –±—ã–ª–æ –Ω–µ –¥–æ –Ω–∞—Å. –ü–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—Ç—å –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏–µ –≥–æ—Ä—ã, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —Ç–∞–º —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –° –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–π –ø—Ä–∏—à—ë–ª –¥–∞–∂–µ —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –í—Å—ë, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, — —è —É—Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º. –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –±—É–¥—É—Ç –∑–¥–µ—Å—å.
–û–¥–∏–Ω –∏–∑ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–æ–≤ —Å–ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω—É –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω–∞. –Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —ç—Ç–æ –∏ –≤—Å—Ç–∞–ª. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–∫—É–Ω–¥ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª –∏–∑-–∑–∞ –≥–æ—Ä–∫–∏ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –Ω–∞—Å –∏ –∞—Ç–∞–∫–æ–≤–∞–ª —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–π. –û–Ω–∞ —á—É–¥–æ–º –Ω–µ –∑–∞–¥–µ–ª–∞ –¥–æ–º, —É–¥–∞—Ä–∏–ª–∞—Å—å –æ –∑–µ–º–ª—é –≤ –¥–≤—É—Ö —à–∞–≥–∞—Ö –æ—Ç –Ω–∞—Å, —Å—Ä–∏–∫–æ—à–µ—Ç–∏–ª–∞ –∏ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç–æ–º. –í–∑—Ä—ã–≤ —Ä–∞—Å–∫–∏–¥–∞–ª –Ω–∞—Å –ø–æ –ø–æ–ª–æ–≥–æ–º—É —Å–∫–ª–æ–Ω—É, –æ–±–¥–∞–ª –∂–∞—Ä–æ–º, –Ω–æ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏ –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –∑–∞–¥–µ–ª–∏. –Ý—ã–∂–∏–π –ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª –≤ –æ–∫–æ–ø –≤–Ω–∏–∑ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ä—å—è–Ω–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —è —ç—Ç–æ—Ç –æ–∫–æ–ø –≤—ã—Ä—ã–ª.
–ë—ã–ª–æ —É–∂–µ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, –∏ –¥–æ–º–∏–∫ –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω—ã. –°–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –æ–∂–∏–¥–∞—Ç—å —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–π –∞—Ç–∞–∫–∏. –ü–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç—á–∞—è–Ω–Ω–æ–µ, –∞ –±–æ–ª–≤–∞–Ω –ú—É—Å–∞ –≤–∑—è–ª –∏ –∑–∞–ø–µ—Ä –Ω–∞—Å –≤ –¥–æ–º–∏–∫–µ — –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–π –º–∏—à–µ–Ω–∏ –¥–ª—è —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤. –î–∞ –µ—â—ë –∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª. –û—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∂–¥–∞—Ç—å –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –∏, –µ—Å–ª–∏ –±–æ–≥ —Å–º–∏–ª–æ—Å—Ç–∏–≤–∏—Ç—Å—è, –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —Å–º–µ—Ä—Ç–∏.
–û–∫–æ–ª–æ –ø–æ–ª—É—á–∞—Å–∞ –º—ã —Ç–∏—Ö–æ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –∏ –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥–∞. –ì–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –í—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –º—ã –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ –∏–∑–º–µ–Ω–∏—Ç—å. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∏ –∞—Ç–∞–∫–æ–≤–∞—Ç—å –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ —Ü–µ–ª–∏. –î–æ –Ω–∞—Å —É –Ω–∏—Ö –ø–æ–∫–∞ –µ—â—ë –¥–µ–ª–æ –Ω–µ –¥–æ—à–ª–æ. –ù–æ –¥–æ–π–¥–µ—Ç. –ò —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ.
–í–¥—Ä—É–≥ –¥–≤–µ—Ä—å –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –∏ –Ω–∞ –ø–æ—Ä–æ–≥–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ú—É—Å–ª–∏–º –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤.
— –ë—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–π—Ç–µ—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
— –ù–∞–º –Ω–µ—á–µ–≥–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å, — –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫–æ–º—É-—Ç–æ –∏–∑–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—é –≤ —ç—Ç–æ–º —Ü–∞—Ä—Å—Ç–≤–µ –±–µ–∑—ã—Å—Ö–æ–¥–Ω–æ—Å—Ç–∏.
— –¢–æ–≥–¥–∞ — –∂–∏–≤–æ –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É!
— –ü—É—Å—Ç—å –ú—É—Å–∞ –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—ë—Ç –Ω–∞—Å, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫ –ú—É—Å–ª–∏–º—É –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
— –¢–∞–∫ –≤—ã –µ—â—ë –∏ –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞—Ö! — –ú—É—Å–ª–∏–º —Å–¥–µ–ª–∞–ª —Å–≤–∏—Ä–µ–ø–æ–µ –ª–∏—Ü–æ –∏ –∑–∞–æ—Ä–∞–ª: — –ú—É—Å–∞! –ë—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å—é–¥–∞ –∫–ª—é—á!
–ù–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∑–∞ –¥–æ–º–æ–º, –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–π –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π —Ç–æ—á–∫–µ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–∫–∞ —Å—Ç–æ—è–ª —á—ë—Ä–Ω—ã–π –¥–∂–∏–ø. –ú—ã –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ —Ç—É–¥–∞. –ú—É—Å–ª–∏–º –≤–ø–∏—Ö–Ω—É–ª –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–µ–µ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ –∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –æ–Ω –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –≤ –±–∞–≥–∞–∂–Ω–∏–∫–µ. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω–∞ –Ω–∞ –Ω–∞—Å –∑–∞—à—ë–ª —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫. –í—Å–µ, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –ú—É—Å–ª–∏–º, –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –≤ –æ–∫–æ–ø. –ú—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ –º–∞—à–∏–Ω–µ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ. –Ø –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –≥–¥–µ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞. –í–∏–¥–µ–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è—Ä–∫–∏–π —Å–ø–æ–ª–æ—Ö –∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π —Ç—Ä–µ—Å–∫ –±–ª–∏–∑–∫–æ–≥–æ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞. –ó–∞—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –∫–∞–∂–¥—É—é –∑–∞–∫–ª—ë–ø–∫—É –Ω–∞ –±—Ä—é—Ö–µ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–∞, –º–µ–ª—å–∫–Ω—É–≤—à–µ–≥–æ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –º–∞—à–∏–Ω–æ–π. –ê –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω. –û–Ω –ø–æ–ø–∞–ª —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–π –≤ –Ω–µ–∂–∏–ª–æ–π –¥–æ–º —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –î–æ–º —Å—Ä–∞–∑—É –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –±–µ–∑ –∫—Ä—ã—à–∏ –∏ –¥–≤—É—Ö —Å—Ç–µ–Ω. –í—Å—ë! –°–ª–µ–¥—É—é—â–∞—è —Ü–µ–ª—å — –Ω–∞—à–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞. –®—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫ —É–∂–µ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ –±–æ–µ–≤–æ–π –∫—É—Ä—Å, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ —Å–∏–¥–µ–Ω—å–µ –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª—è –∑–∞–ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª –ú—É—Å–ª–∏–º –∏ —Ä–≤–∞–Ω—É–ª –¥–∂–∏–ø –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –Ø —Å–ª—ã—à–∞–ª –≤–∑—Ä—ã–≤ —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏—Ç—Å—è, —ç—Ç–æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤ —Ä–∞–∑–Ω—ë—Å –Ω–∞—à –¥–æ–º–∏–∫, –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –Ω–∏ —â–µ–ø–∫–∏.
–ú—É—Å–ª–∏–º –≥–Ω–∞–ª –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∫ –¥–æ–º–∞–º, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∂–∏–ª–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞. –ü—Ä–∏—Ç–æ—Ä–º–æ–∑–∏–ª —É –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ. –ö –Ω–∞–º –ø–æ–¥—Å–µ–ª–∏ –µ—â—ë –¥–≤–æ–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –∫ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç—É –Ω–∞ –®–∞—Ä-–ê—Ä–≥—É–Ω. –ù–æ –≤–º–µ—Å—Ç–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Å–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å —Ç—É–¥–∞, –ú—É—Å–ª–∏–º –ø–æ–µ—Ö–∞–ª –≤ –ª–µ—Å –ø—Ä–æ—Å—ë–ª–æ—á–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π.
–î–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –≤–≤–µ—Ä—Ö, –≤ –≥–æ—Ä—ã. –ó–¥–µ—Å—å, —Å—Ä–µ–¥–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤, –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –Ω–µ –æ–ø–∞—Å–∞—Ç—å—Å—è –∞—Ç–∞–∫–∏ —Å –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞. –ï—Ö–∞–ª–∏ –æ–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞. –ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç–æ–≤ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –æ–±–æ–≥–Ω–∞–ª–∏ –º–µ—Ä–Ω–æ –∏–¥—É—â–µ–≥–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞ —Å –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–æ–º –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–∞—Ö. –°—É–¥—è –ø–æ —Ç–æ–º—É, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ —à—ë–ª, —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å–∏–ª—ã –±—ã–ª–∏ –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –≤ —É–∑–∫–æ–º –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–º —É—â–µ–ª—å–µ, —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç—ä–µ—Ö–∞–≤ –æ—Ç –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –Ý—è–¥–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª –∑–µ–ª—ë–Ω—ã–π –∞—Ä–º–µ–π—Å–∫–∏–π –£–ê–ó–∏–∫. –ú—É—Å–ª–∏–º —Å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ –Ω–µ–º—É, –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ —Å —à–æ—Ñ—ë—Ä–æ–º, –∏ –£–ê–ó–∏–∫ —É–µ—Ö–∞–ª.
–ù–∞—Å –≤—ã—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –∏–∑ –¥–∂–∏–ø–∞. –£–µ—Ö–∞–ª –∏ –ú—É—Å–ª–∏–º. –ú–µ—Å—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ–±–∂–∏—Ç–æ. –Ý–æ–≤–Ω–∞—è –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—è –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∞. –ü–æ–ª—É—Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–æ–µ —Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ–µ –Ω–∞ —Å–∫–ª–∞–¥. –ü–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç –∞–≤–∏–∞–Ω–∞–ª–µ—Ç–∞ —Å—Ç—Ä–µ—Å—Å–∞ –Ω–∞–º –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ù–æ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É —Ä–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –≥—Ä–æ–º–∫–∏–π –∑–≤—É–∫ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞, –∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–∞–º–∏ –∑–≤–æ–Ω–∫–æ —É–ø–∞–ª–∞ –≥–æ—Ä—è—á–∞—è –≥–∏–ª—å–∑–∞ —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤–æ–≥–æ –æ—Ä—É–¥–∏—è.
— –û—Ç–∫—É–¥–∞ —É–ø–∞–ª–∞ —ç—Ç–∞ —à—Ç—É–∫–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤.
— –°–≤–µ—Ä—Ö—É, —Å –≥–æ—Ä—ã, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —Ç–æ—Ç.
— –û—Ç–∫—É–¥–∞ —Ç–∞–º —Ç–∞–Ω–∫–∏? — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –í–µ–¥—å —ç—Ç–æ —Ç–∞–Ω–∫–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª!
— –î–∞, — —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –±–æ–µ–≤–∏–∫. — –ù–æ –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏—Ç –æ–ø–∞—Å–∞—Ç—å—Å—è. –û–Ω–∏ –∂–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã—à–µ –∏ –Ω–µ –≤–∏–¥—è—Ç –Ω–∞—Å.
–ü–æ—Ç–æ–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ—Å–æ–≤–µ—Ç–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞—Å –≤ –ø–æ–≥—Ä–µ–±, –≤—Ö–æ–¥ –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–µ–Ω —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –¢–∞–º –º—ã –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª–∏ –¥–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–π —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã.
–ú–µ–Ω—è —Ä–∞—Å—Ç–æ–ª–∫–∞–ª–∏ —É–∂–µ –Ω–æ—á—å—é. –ü—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –£–ê–ó–∏–∫. –ù–∞–º –≤–µ–ª–µ–ª–∏ –ª–µ–∑—Ç—å —Ç—É–¥–∞. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–∞–±–∏—Ç–∞ –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º –∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏. –ú—ã —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º –≤—Ç–∏—Å–Ω—É–ª–∏—Å—å. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –ø–æ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ï—Ö–∞–ª–∏, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ù–∞–¥ –≥–æ—Ä–∞–º–∏ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –ø–æ–ª–Ω–∞—è –õ—É–Ω–∞.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, — –∫–æ–Ω—Ñ–µ—Ç–∫—É —Ö–æ—á–µ—à—å?
–ì–æ–ª–æ—Å –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π. –Ø –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ —Ö–æ—á–µ—Ç —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å –æ—Ç –º–µ–Ω—è –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥, –∏ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –ø–æ–¥—ã–≥—Ä–∞–ª, —á–µ–º –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª:
— –•–æ—á—É.
— –ê –Ω–µ—Ç—É, — –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª –æ–Ω –¥–∏–∞–ª–æ–≥ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–π —à—É—Ç–∫–æ–π –§—Ä—É–Ω–∑–∏–∫–∞ –ú–∫—Ä—Ç—á—è–Ω–∞ –∏–∑ «–ú–∏–º–∏–Ω–æ».
–í—Å–µ —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å.
— –¢—ã –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–ª –º–µ–Ω—è, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä?
–Ø —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–Ω—å–∫–æ –ø—Ä–∏–≥–ª—è–¥–µ–ª—Å—è –∏ —É–∑–Ω–∞–ª. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤.
–ü–æ—Å–ª–µ –∑–∞—Ö–≤–∞—Ç–∞ –Ω–∞—Å –≤ –ø–ª–µ–Ω 19 –∏—é–Ω—è 1999 –≥–æ–¥–∞ –º—ã —Å –Ω–∏–º –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ. –¢–æ–≥–¥–∞, –ª–µ—Ç–æ–º, –æ–Ω –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω—ë—Å —Ñ—Ä–∞–∑—É: «–ù—É, –∞ –º–Ω–µ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∫—É–¥–∞?» –∏ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –µ–º—É: «–ò–¥–∏ –∫—É–¥–∞ —Ö–æ—á–µ—à—å! –¢—ã –Ω–∞–º –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –Ω—É–∂–µ–Ω».
–ò —Ç–æ–≥–¥–∞, —Å –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç—ã–º–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏, —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –∏ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä, –∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –µ–º—É, —É–ª—ã–±–∞–ª–∏—Å—å. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ —Ç–∞–∫, –º–µ–∂–¥—É –ø—Ä–æ—á–∏–º, –Ω–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π, –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Ç—ã–≥—Ä–∞—Ç—å –≤—Å–µ —Ä–æ–ª–∏ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–ª—É—á–∞–µ–º, –ø—Ä–∏–∫–∏–Ω—É–≤—à–∏—Å—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω—ã–º –¥—É—Ä–∞–∫–æ–º. –Ø –Ω–µ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –æ–Ω –ø—Ä–∏–º–µ—Ç —ç—Ç—É –∏–≥—Ä—É, –∞ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª —à–∞–Ω—Å —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫-—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –¥–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—é –æ –Ω–∞—à–µ–º –¥–µ–ª–µ. –ü—É—Å—Ç—å –æ–Ω –±—É–¥–µ—Ç –≤—Ä–∞—Ç—å, –Ω–æ –µ—Å—Ç—å —à–∞–Ω—Å –æ–ø–æ–∑–Ω–∞—Ç—å –≤—Ä–∞–Ω—å—ë, –∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—é. –ú–Ω–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—Ç—å –¥–∏–∞–ª–æ–≥ —Å–∞–º–æ–º—É, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –Ω–∞—á–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
— –•–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ —è –≤–∞—Å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª, — –Ω–∞—á–∞–ª –æ–Ω. — –í–∏–¥–∏—à—å, –∫–∞–∫ —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å… –Ø –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –≤–µ–∑—É –≤–∞—Å –∫ –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–º –ø–∞—Ç—Ä–∏–æ—Ç–∞–º –ß–µ—á–Ω–∏, –∞ –Ω–∞—Å –ø–µ—Ä–µ—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã.
–ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞–ø—É—Ç–∞–ª—Å—è –≤ —Å–≤–æ—ë–º –≤—Ä–∞–Ω—å–µ. –Ø –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –µ–≥–æ —É–ª–∏—á–∞—Ç—å. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —á—Ä–µ–≤–∞—Ç–æ.
— –ù–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å-—Ç–æ —á—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤—ã –≤ –Ω–∞–¥—ë–∂–Ω—ã—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –ú—ã –±—É–¥–µ–º –∏—Å–∫–∞—Ç—å –ø—É—Ç–∏, –∫–∞–∫ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞—Ç—å –≤–∞—Å –Ω–∞ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ù–æ –∏–¥–µ—Ç –≤–æ–π–Ω–∞, –∏ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —ç—Ç–æ —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ.
— –ù–æ, –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –Ω–∞—Å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –í—ã –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç–µ —Å–µ–±–µ, —á—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –¥–ª—è —Ä—É—Å—Å–∫–æ–≥–æ –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –≤ –ß–µ—á–Ω–µ. –í–∞—Å —Ç—É—Ç –∂–µ –ø–æ—Ö–∏—Ç—è—Ç –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –∏ –ø–æ—Å–∞–¥—è—Ç –Ω–∞ —Ü–µ–ø—å. –î–∞ –µ—â—ë –±—É–¥—É—Ç –∏–∑–¥–µ–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏ –∑–∞–ª–æ–º—è—Ç –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –≤—ã–∫—É–ø.
–ù–∞ –¥–æ–ª—é —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –º–æ–∂–µ—Ç, –∏ –ø—Ä–∞–≤–¥–∞ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç? –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–π—á–∞—Å —Å–µ–ª –≤ —ç—Ç–æ—Ç –£–ê–ó–∏–∫ –∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª –Ω–∞—Å. –ù–æ –≤–µ–¥—å –±—ã–ª –µ—â—ë –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ä–∞–∑—ã–≥—Ä–∞–ª —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ä–æ–ª—å –∑–∞–º–µ—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—è –ø–æ–ª–µ–≤–æ–≥–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–∞, –∫–æ–∏–º, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –æ–Ω –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –∏ —è–≤–ª—è–ª—Å—è. –ò –æ–Ω –Ω–µ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è, —Ö–æ—Ç—è –∏ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞-—Ç–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º –Ω–µ –∑–∞–≤–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å. –ó–∞—á–µ–º?
–ê –º–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞ –Ω–µ—Å–ª–æ –¥–∞–ª—å—à–µ.
— –Ø –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–∞–π–¥—É —Ç–µ—Ö –ª—é–¥–µ–π, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–∞—Å –ø–æ—Ö–∏—Ç–∏–ª–∏. –ú—ã —Ä–∞–∑–±–µ—Ä—ë–º—Å—è —Å –Ω–∏–º–∏ –ø–æ-—Å–≤–æ–µ–º—É. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –≤—ã —Ä–∞–∑–≤–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç–µ, —á—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç–µ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏—é –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ø–ª–µ–Ω—É —É –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤?
— –ù–µ—Ç, –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ–º, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –û–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç–µ, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä, — –≤–µ–¥—å –≤—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç–µ—Å—å –≤ –ø–ª–µ–Ω—É –Ω–µ –∑–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü–µ–π, –∞ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.
— –ê –∫–∞–∫–∞—è —Ä–∞–∑–Ω–∏—Ü–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –Ý–∞–∑–Ω–∏—Ü–∞ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∑–∞ –≤–∞—à—É –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç—å –∏ —Å–≤–æ–±–æ–¥—É –Ω–µ—Å—É—Ç –æ—Ç–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –≤–ª–∞—Å—Ç–∏ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –≠—Ç–æ –æ–Ω–∏ –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å –≤–∞–º –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É–µ–º–æ–π –∏–º–∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏.
— –¢–∞–∫ —á—Ç–æ –Ω–∞–º? –í —Å—É–¥ –ø–æ–¥–∞–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –ï–ª—å—Ü–∏–Ω–∞, –∏–ª–∏ —Ç–∞–º, –Ω–∞ –ü—É—Ç–∏–Ω–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –ú–Ω–µ –Ω–µ –≤–ø–µ—Ä–≤–æ–π! –Ø –æ–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑ —É–∂–µ —Å—É–¥–∏–ª–∞—Å—å —Å –ï–ª—å—Ü–∏–Ω—ã–º.
— –ù–µ –Ω–∞–¥–æ –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –∏ –Ω–∏ –Ω–∞ –∫–æ–≥–æ –ø–æ–¥–∞–≤–∞—Ç—å, — —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–µ—Ä–Ω—ë—Ç–µ—Å—å — –∏ –≤–∞–º –≤—ã–¥–∞–¥—É—Ç —ç—Ç—É –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏—é.
— –ë–æ–ª—å—à—É—é? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ë–æ–ª—å—à—É—é! — –Ω–µ–∑–∞–º–µ–¥–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –í–∞–º —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç –Ω–∞ –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å. –ò –º—ã –µ—â—ë –∫–æ–µ-—á—Ç–æ –≤–∞–º –¥–∞–¥–∏–º. –¢—ã—Å—è—á –ø–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤. –•–æ—Ä–æ—à–æ? — –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª—Å—è.
–í–æ—Ç —ç—Ç–æ —É–∂–µ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–º. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –≤—Å—ë –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ —Ö–æ–¥—É, –∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏ —è —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –¥–∞–ª—å—à–µ, –æ–Ω –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –∑–∞–ø—É—Ç–∞–ª—Å—è –±—ã –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –∂–µ —Ñ–∞–Ω—Ç–∞–∑–∏—è—Ö. –ù–æ –≤–æ—Ç –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –Ω–∞–º –∑–∞–ø–ª–∞—Ç—è—Ç, —è —Å–ª—ã—à–∞–ª —É–∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑. –í —Ä–∞–∑–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –æ–± —ç—Ç–æ–º –æ–±–º–æ–ª–≤–∏–ª—Å—è –∏ –ó—É–±, –∏ –ú—É—Å–∞, –∏ –ê–±–¥—É–ª–ª–∞, –∏ –≤–æ—Ç —Ç–µ–ø–µ—Ä—å — –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –º–µ–ª–æ—á–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞—á–Ω—É—Ç —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤ —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ø–æ–∑–∂–µ.
–£–ê–ó–∏–∫ –µ—Ö–∞–ª —É–∂–µ —Ç—Ä–∏ —á–∞—Å–∞. –ò–∑ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–≥–æ—Ä—å—è —Å –õ—É–Ω–æ–π, –∑–≤—ë–∑–¥–∞–º–∏, —Å–Ω–µ–≥–æ–º –∏ –æ–±–ª–∞–∫–∞–º–∏ –≤–Ω–∏–∑—É, –º—ã —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ —É—â–µ–ª—å–µ. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –º–∞—à–∏–Ω—ã —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –ó–≤—É–∫ –º–æ—Ç–æ—Ä–∞, –æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –æ—Ç —Å–∫–∞–ª, —Å—Ç–∞–ª —Å–ª—ã—à–Ω–µ–µ. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å. –ú—ã –µ—Ö–∞–ª–∏ –ø–æ –∫–∞–º–Ω—è–º —Ä—É—Å–ª–∞ –≥–æ—Ä–Ω–æ–π —Ä–µ—á–∫–∏. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥ –∫–æ–ª—ë—Å–∞–º–∏ –∂—É—Ä—á–∞–ª–∞ –≤–æ–¥–∞. –í —Å–≤–µ—Ç–µ —Ñ–∞—Ä –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ, –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ –∫—É—Å—Ç—ã –∏–≤–Ω—è–∫–∞ –∏ –º–æ–∫—Ä—ã–µ, –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–∏–µ –≤–∞–ª—É–Ω—ã.
–ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –£–ê–ó–∏–∫ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—ã—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏. –°–Ω–µ–≥–∞ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –≤—Å—ë –±–æ–ª—å—à–µ. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –º–∞—à–∏–Ω–∞ –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞ –Ω–∞–ª–µ–≤–æ. –ú—ã –≤—ä–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ, –º–µ–Ω—å—à–µ–µ —É—â–µ–ª—å–µ. –ó–¥–µ—Å—å —É –≤—ã—Å–æ–∫–∏—Ö –æ—Ç–≤–µ—Å–Ω—ã—Ö —Å–∫–∞–ª —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã–µ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∏, –≤–∞–ª—è–ª—Å—è –Ω–∞ –±–æ–∫—É –ø—Ä–∏—Ü–µ–ø —Å —Ü–∏—Å—Ç–µ—Ä–Ω–æ–π. –ú—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —É «—à–µ—Å—Ç—ë—Ä–∫–∏» «–ñ–∏–≥—É–ª–µ–π». –ò–∑ «—à–µ—Å—Ç—ë—Ä–∫–∏» –≤—ã—à–µ–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —è —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —É–∑–Ω–∞–ª. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –±—Ä–∞—Ç –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤. –û–Ω–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–¥–∞–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º –ø—Ä–æ—à–ª—ã–º –ª–µ—Ç–æ–º.
–Ý—É—Å–ª–∞–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤—Å–µ –∑–≤–∞–ª–∏ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–æ–º –∏–ª–∏ –ú–∞–º–µ–¥–æ–º, —Å —É–¥–∞—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Å–ª–æ–≥, —Å–µ–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å –≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ–º –∏ —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –ï—Ö–∞–ª–∏ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –í—ã—à–ª–∏. –°—Ç–∞–ª–∏ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∏. –í –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º — –æ—Ä—É–∂–∏–µ. –ß—É—Ç—å –≤—ã—à–µ –ø–æ –∫—Ä—É—Ç–æ–º—É —Å–∫–ª–æ–Ω—É –≥–æ—Ä—ã –±—ã–ª —Å—Ç–∞—Ä—ã–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –¢–∞—Å–∫–∞–ª–∏ –≤—Å—ë —Ç—É–¥–∞. –ù–æ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∞–ª–∏. –ò–∑–º—É—á–∏–ª–∏—Å—å –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —É–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–ø–∞—Ç—å –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ —Å–Ω–µ–≥—É, –º–µ–∂–¥—É —è—â–∏–∫–æ–≤ —Å –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω–∞–º–∏ –∏ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞–º–∏ –¥–ª—è —Ä—É—á–Ω—ã—Ö –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç–æ–≤.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω, — –ø–æ–π–¥—ë–º —Å–æ –º–Ω–æ–π.
–ú—ã –ø–æ—à–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –∏–∑ —É—â–µ–ª—å—è.
— –Ø –±—É–¥—É —Å–ø–∞—Ç—å –≤ –º–∞—à–∏–Ω–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –í—Å–µ —Ç–∞–º, —É –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –∞ —è, –∫–∞–∫ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä, –≤ –º–∞—à–∏–Ω–µ.
— –ù–µ –∑–∞–º—ë—Ä–∑–Ω–µ—à—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ù–µ—Ç, —É –º–µ–Ω—è —Ç–∞–º –≤—Å—ë –µ—Å—Ç—å. –ê —Ç—ã –≤–æ–∑—å–º—ë—à—å –æ–¥–µ—è–ª–∞ –∏ –æ—Ç–Ω–µ—Å—ë—à—å –∏—Ö –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –í–æ–∑—å–º–∏ –æ–¥–Ω–æ —Å–µ–±–µ. –¢–µ–ø–ª–µ–µ –±—É–¥–µ—Ç.
— –Ø –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–º –æ–¥–µ—è–ª–∞ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–∞–º, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — –∞ —É–∂ –¥–∞–¥—É—Ç –º–Ω–µ –æ–¥–Ω–æ, –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç, –Ω–µ –∑–Ω–∞—é.
— –°–∫–∞–∂–∏, —á—Ç–æ —è –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª.
— –•–æ—Ä–æ—à–æ.
— –Ø –±—É–¥—É –≤–∞—Å –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –Ý—É—Å–ª–∞–Ω. — –ß—Ç–æ–±—ã –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–∞—Å –Ω–µ –Ω–∞–∫—Ä—ã–ª —Å–ø—è—â–∏–º–∏.
–ù–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ –∏–∑ —É—â–µ–ª—å—è –¥—É–ª —Å–∏–ª—å–Ω—ã–π –≤–µ—Ç–µ—Ä. –ú–∞—à–∏–Ω—É –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –±—É–¥–µ—Ç –ø—Ä–æ–¥—É–≤–∞—Ç—å. –ù–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ –º–æ—ë –¥–µ–ª–æ. –Ø –≤–∑—è–ª –æ–¥–µ—è–ª–∞ –∏ –ø–æ—à—ë–ª –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∑–∞ –º–Ω–æ–π –Ω–µ —Å–ª–µ–¥–∏—Ç? –î–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Å—Ç–∞. –ú–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å –¥–∞—Ç—å –¥—ë—Ä—É. –ù–æ –∑–∏–º–∞! –ù–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞! –î–∞ –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞—Å–Ω–æ —è –¥–∞–∂–µ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º. –ß—É—Ç—å –æ—Ç–æ–π–¥—è –æ—Ç –º–∞—à–∏–Ω—ã –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ª–∞–≥–µ—Ä—è, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –í–∞—Ö–∞. –û–Ω –∂–¥–∞–ª –º–µ–Ω—è. –ö–æ–≥–¥–∞ —è —Å –Ω–∏–º –ø–æ—Ä–∞–≤–Ω—è–ª—Å—è, –æ–Ω –ø–æ—à—ë–ª —Å–ª–µ–¥–æ–º.
–û–¥–µ—è–ª –Ω–∞–º, –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω–æ, –Ω–µ –¥–∞–ª–∏. –ú—ã –≤–ª–µ–∑–ª–∏ –ø–æ–¥ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ —Ç–µ–Ω—Ç, –Ω–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–≤—à–∏–π —è—â–∏–∫–∏ —Å –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω–∞–º–∏. –ï–¥–≤–∞ –ø–æ–º–µ—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å —Ç–∞–º –≤—Ç—Ä–æ—ë–º –∏ —Ç–∞–∫ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∞–ª–∏ –Ω–æ—á—å –¥–æ —É—Ç—Ä–∞. –ë—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ.
–£—Ç—Ä–æ–º –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º. –ó–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ–π –ø–æ—à—ë–ª –∏ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π. –î–æ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞ — –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –ü–æ—Ç–æ–º –æ–ø—è—Ç—å —Ç–∞—Å–∫–∞–ª–∏ –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∏ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –ù–∞–º —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∏ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–∏–µ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ë–æ–ª—å—à–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –≥–ª–∞–∑–µ–ª–∞ –∏ –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è–ª–∞ –Ω–∞—Å. –¢—É—Ç –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤–µ—Å—å –æ—Ç—Ä—è–¥ –Ω–µ –ø–æ–º–µ—â–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ. –ù–æ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –•—É—Å–µ–π–Ω, –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –≤ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —É—â–µ–ª—å—è –µ—Å—Ç—å –Ω–∏–∫–µ–º –Ω–µ –∑–∞–Ω—è—Ç—ã–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –û—Ç—Ä—è–¥ —Ä–µ—à–∏–ª–∏ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–∏—Ç—å.
–¢–æ–≥–¥–∞ –º—ã –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –° –µ–≥–æ –≤–Ω–µ—à–Ω–æ—Å—Ç—å—é –≤—Å—è–∫–∞—è –∫–∏–Ω–æ—Å—Ç—É–¥–∏—è –Ω–µ –Ω—É–∂–¥–∞–ª–∞—Å—å –±—ã –±–æ–ª—å—à–µ –≤ –∞–∫—Ç—ë—Ä–µ –¥–ª—è –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏—è —Ä–æ–ª–µ–π –∫–æ–≤–∞—Ä–Ω—ã—Ö –∑–ª–æ–¥–µ–µ–≤. –°–≤–∏—Ä–µ–ø—ã–π –≤–∏–¥, –±–æ—Ä–æ–¥–∞, —É—Å–æ–≤ –Ω–µ—Ç, —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–≥–æ —Ä–æ—Å—Ç–∞. –ò –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º—ã–π —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä. –≠—Ç–æ –ø—Ä–∏—Ç–æ–º, —á—Ç–æ –•—É—Å–µ–π–Ω —É–º–µ–ª –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è—Ç—å—Å—è. –ê –µ—â—ë –≥–ª–∞–∑–∞: —É–º–Ω—ã–µ –∏ —á–µ—Å—Ç–Ω—ã–µ. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç –≤–Ω–µ—à–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ï—Å–ª–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ –•—É—Å–µ–π–Ω—É, —Ç–æ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–µ–≤–∞–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞–¥ –≤—Å–µ–º –µ–≥–æ –≤–∏–¥–æ–º –Ω–∞—Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ –æ—Ç –æ–±—Ä–∞–∑–∞ –∑–ª–æ–¥–µ—è –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ä–æ–≤–Ω—ã–º —Å—á—ë—Ç–æ–º –Ω–∏—á–µ–≥–æ. –•—É—Å–µ–π–Ω—É –±—ã–ª–æ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –≥–æ–¥–∞.
–ß–∞—Å—Ç—å –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–∏–∂–Ω–µ–º –ª–∞–≥–µ—Ä–µ. –¢–∞–º –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –∏ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä — –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä — —ç—Ç–æ –µ–≥–æ —ç—Ñ–∏—Ä–Ω—ã–π –ø–æ–∑—ã–≤–Ω–æ–π. –ù–æ –µ–º—É –æ—á–µ–Ω—å –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ–≥–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–æ–º. –ö –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, –≤ –Ω–∏–∂–Ω–µ–º –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –∏ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π — –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
–í –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π –ª–∞–≥–µ—Ä—å —è –Ω—ë—Å —Ç—è–∂–µ–ª–µ–Ω–Ω—ã–π —Ä—é–∫–∑–∞–∫. –í —É—â–µ–ª—å–µ –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –¢–æ —Å–ª–µ–≤–∞, —Ç–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –≤ –æ–≤—Ä–∞–∂–∫–∞—Ö –±—ã–ª–∏ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω—ã –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∏. –ú—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –º–∏–º–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –±–µ–∑–Ω–∞–¥—ë–∂–Ω–æ —Ä–∞—Å–∫—É—Ä–æ—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –º–∞—à–∏–Ω. –ü–æ–ø–∞–ª–∞—Å—å –ª–∏—à—å –æ–¥–Ω–∞ — –ì–ê–ó-66 — –Ω–∞ —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–Ω–∞—è. –í –µ—ë –º–æ—Ç–æ—Ä–µ –∫–æ–ø–∞–ª—Å—è –º–æ–ª–æ–¥–æ–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. –í—Å–µ –º–∞—à–∏–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –∞—Ä–º–µ–π—Å–∫–æ–π —Ä–∞—Å–∫—Ä–∞—Å–∫–∏ –∏, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞, –Ω–µ–∫–æ–≥–¥–∞ —Å–ª—É–∂–∏–ª–∏ –≤ –°–æ–≤–µ—Ç—Å–∫–æ–π –∞—Ä–º–∏–∏.
–ù–∞—à–∏–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º —É—â–µ–ª—å–µ –∏ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ë–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω —Ç–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –∏ –≤—Å–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ. –ï–≥–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∫–æ–ø–∞–ª. –ï—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–ª–∏–Ω —É—â–µ–ª—å—è –±—ã–ª –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã—Ç –±—Ä—ë–≤–Ω–∞–º–∏ –∏ –æ–±—É—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å —Ç—É–∞–ª–µ—Ç–æ–º –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥—ã –æ—à–∏–±–ª–∏—Å—å. –û–Ω –±—ã–ª –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω –≤—ã—à–µ —Å–∞–º–æ–≥–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –≤—ã—Ç–µ–∫–∞—é—â–∏–º–∏ –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –∏ –∏–∑ –Ω–µ–≥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è–º–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω–æ –≤—Å–µ–º–∏, –Ω–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è —á—Ç–æ-—Ç–æ –º–µ–Ω—è—Ç—å. –í–∏–¥–∏–º–æ —É–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –¥–æ–ª–≥–æ –∑–¥–µ—Å—å –º—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ–±—É–¥–µ–º. –ö—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –¥–ª—è –Ω–∞—Å — –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏ — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ç–æ–≥–¥–∞:
— –ù—É –≤–æ—Ç, –¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–∞—Ç—å –Ω–µ–∫—É–¥–∞. –ü–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —ç—Ç–æ–π –≥–æ—Ä—ã — –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω.
–ú—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ. –ë—ã–ª–æ 15 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è –¥–≤—É—Ö—Ç—ã—Å—è—á–Ω–æ–≥–æ –≥–æ–¥–∞.
–ò–∑ —è—â–∏–∫–∞ –∏ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö –ª—ã–∂ —Ä–∞–∑–Ω–æ–π –¥–ª–∏–Ω—ã —è —Å–∫–æ–ª–æ—Ç–∏–ª —Å–∞–Ω–∫–∏. –ù–∞ –Ω–∏—Ö –∏ –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª –æ—Å—Ç–∞–≤—à–∏–µ—Å—è –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∏ –∏–∑ –Ω–∏–∂–Ω–µ–≥–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—è –≤ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π. –î–≤–æ–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º, –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∏. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–∞–Ω–∫–∏ –≤ –º–µ—Å—Ç–∞—Ö, –≥–¥–µ —Å–Ω–µ–≥–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –í –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ —è –≤–æ—à—ë–ª –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É. –í—Ö–æ–¥ –≤ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª –Ω–µ–∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã–º, –µ—Å–ª–∏ –∏–¥—Ç–∏ –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø—É—Ç–µ–π –∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ë–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —Å—Ç—Ä–æ–∏–ª—Å—è –≤ –ø—Ä–æ—à–ª—É—é –≤–æ–π–Ω—É –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ. –ü–µ—Ä–µ–¥ –≤—Ö–æ–¥–æ–º –±—ã–ª–∏ –Ω–∞–≤–∞–ª–µ–Ω—ã –∫–∞–º–Ω–∏ –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç—É –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –∑–∞–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —ç—Ç—É –≥–æ—Ä–∫—É –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –≠—Ç–æ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ —Å —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–æ–≤, –Ω–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ. –ì–æ—Ä–∫–∞ –æ–±–ª–µ–¥–µ–Ω–µ–ª–∞, –∞ —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–∫–∞—Ç—ã–º–∏. –ù–∞ –Ω–∏—Ö —É–ø–∞–ª–∏ –ø–æ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ. –ù–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ —É–ø–∞–ª —è, –¥–∞ –µ—â—ë —Å –¥–≤—É–º—è –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏ –≤–æ–¥—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –∂–µ –∏ –≤—ã–ª–∏–ª–∏—Å—å, —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–∏ –±—ã–ª–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ –ø–æ–¥–Ω–æ–≤–∏—Ç—å. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –ª–∏—à–Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –º–Ω–µ.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –ø–æ —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤—É: —Å—Ç–∏—Ä–∞–ª–∞ –±–µ–ª—å—ë –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º –∏ —á–∏—Å—Ç–∏–ª–∞ –ø–æ—Å—É–¥—É. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —á–∏—Å—Ç–∏–ª–∞, —è –Ω–µ –æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª—Å—è. –ß–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç «–≤—ã–º—ã—Ç—å –ø–æ—Å—É–¥—É», –∫–∞–∫ –º—ã. –û–Ω–∏ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á–∏—Ç–∞—é—Ç –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å «—á–∏—Å—Ç–∏—Ç—å». «–≠—Ç–æ –æ—Ç —Å–ª–æ–≤–∞ «—á–∏—Å—Ç–æ», — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –æ–Ω–∏ –∏ —É–ø–æ—Ä–Ω–æ —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–∞–∫.
–ë–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –±—ã–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–π –æ–¥–Ω–æ –∑–∞ –¥—Ä—É–≥–∏–º. –í –ø–µ—Ä–≤–æ–º –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ — –º–µ—Å—Ç–æ –¥–µ–∂—É—Ä–Ω–æ–≥–æ: —Å—Ç–æ–ª–∏–∫, —Ç–∞–±—É—Ä–µ—Ç–∫–∞, –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–≤–∞—è –ª–∞–º–ø–∞, —Ä–∞–¥–∏–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏—è.
–¢–∞–º –∂–µ, –Ω–æ —Å–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∞ — —Å—Ç–µ–ª–ª–∞–∂–∏ —Å –±–æ–µ–ø—Ä–∏–ø–∞—Å–∞–º–∏. –í–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ — –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –æ–±–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã–π —Å—Ç–æ–ª —Å –ª–∞–≤–∫–∞–º–∏ –ø–æ –æ–±–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –∏ –ø–µ—á–∫–∞ –¥–ª—è –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ø–∏—â–∏. –°–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∞ –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω —Å—Ç–µ–ª–ª–∞–∂ —Å –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç–∞–º–∏ –∏ –æ–≥–Ω–µ–º—ë—Ç–æ–º «–®–º–µ–ª—å». –í —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–π, —Å–∞–º–æ–π –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ — —Ç—Ä–∏ —Ä—è–¥–∞ –Ω–∞—Ä. –ù–∞—à–∏ —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –Ω–∞—Ä—ã –±—ã–ª–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–æ –ø—Ä–∏ –≤—Ö–æ–¥–µ –≤ —ç—Ç—É –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É. –ü–æ–Ω—è—Ç–∏–µ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç –∑–¥–µ—Å—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ —É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ–µ. –ï—Å–ª–∏ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö –¥–≤—É—Ö –µ—â—ë –±—ã–ª–∏ –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–º—É –æ–∫–æ—à–∫—É, —Ç–æ —Ç—Ä–µ—Ç—å—è — —Ç—ë–º–Ω–∞—è. –¢–∞–º –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–º —É–≥–ª—É –≥–æ—Ä–µ–ª–∞ –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–≤–∞—è –ª–∞–º–ø–∞. –ü–æ–ª—ã –≤ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∞—Ö –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞—Ä–∞–º–∏ –∑–∞—Å—Ç–µ–ª–µ–Ω—ã –¥–æ—Å–∫–∞–º–∏ –∏ —Ñ–∞–Ω–µ—Ä–æ–π. –ù–æ –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∂—É—Ç–∫–æ –≥—Ä—è–∑–Ω–æ. –ù–∞ –∑–µ–º–ª—è–Ω—ã—Ö —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±–ª–µ—Å—Ç–µ–ª–∏ –∫–∞–ø–ª–∏ –≤–æ–¥—ã. –° –±—Ä—ë–≤–µ–Ω –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –∫–∞–ø–∞–ª–æ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –Ω–∞—Ä—ã.
–í –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∂–µ –¥–µ–Ω—å –≤ –Ω–∞—à–µ–º –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –î–∂–æ—Ö–∞—Ä. –Ø –µ–≥–æ –±—É–¥—É –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–µ –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–æ–º –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤—ã–º, –∞ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–æ–º. –¢–∞–∫ –±—É–¥–µ—Ç —É–º–µ—Å—Ç–Ω–µ–µ.
–î–∂–æ—Ö–∞—Ä –±—ã–ª –ø—Ä–∏ –ø–∞—Ä–∞–¥–µ: –≤ –∫–æ—Å–æ–π –±–µ—Ä–µ—Ç–∫–µ —Å –∫–æ–∫–∞—Ä–¥–æ–π, –≤ –∫–∞–∫–∏—Ö-—Ç–æ –Ω–µ–≤–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–º—ã—Ö –ø–æ–≥–æ–Ω–∞—Ö –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–∞—Ö, –Ω–∞ –≥—Ä—É–¥–∏ — –º–µ–¥–∞–ª—å, –Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∞—è —Ç–∞–∫–∞—è.
— –î–∂–æ—Ö–∞—Ä, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ, — –∫–∞–∫–æ–µ —É —Ç–µ–±—è –∑–≤–∞–Ω–∏–µ?
— –ü–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫, — –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å, –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
— –ê –∫–∞–∫–æ–µ –∑–≤–∞–Ω–∏–µ —É –ë–∞—Å–∞–µ–≤–∞? — –ø–æ–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è —è.
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –∑–∞—Å—Ç–µ–Ω—á–∏–≤–æ, — –Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ —è –±—ã–ª –ø–æ–ª–∫–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–º –≤ –ø—Ä–æ—à–ª—É—é –≤–æ–π–Ω—É, –æ–Ω –µ—â—ë —Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω–∞—Ö.
–î–∂–æ—Ö–∞—Ä —Ä–∞–∑–±–∏–ª –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –±–æ–µ–≤—ã–µ —Ä–∞—Å—á—ë—Ç—ã –∏ –ø—Ä–æ–≤—ë–ª —É—á–µ–Ω–∏—è. –í–æ—Ç —ç—Ç–æ–º—É —è –±—ã–ª —É–¥–∏–≤–ª—ë–Ω. –û–Ω –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É, –∞ –≤—Å–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ª–µ–≥–ª–∏ –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏ –Ω–∞—Ä—ã. –ù–µ —Ä–∞–∑–¥–µ–≤–∞—è—Å—å, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ. –ó–¥–µ—Å—å –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏ –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Ä–∞–∑–¥–µ–≤–∞–ª—Å—è, –ª–æ–∂–∞—Å—å —Å–ø–∞—Ç—å. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä —Å —É–ª–∏—Ü—ã –ø—Ä–æ—Ç—Ä—É–±–∏–ª —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥—É. –í—Å–µ —Å–æ—Ä–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å –º–µ—Å—Ç, –ø–æ—Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—ã –∏ –≤—ã–±–µ–∂–∞–ª–∏ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å—Å—è –ø–µ—Ä–µ–¥ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º. –í –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ —É –Ω–∏—Ö —ç—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –ø–ª–æ—Ö–æ. –Ý–µ–ø–µ—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–∏–µ –µ—â—ë –¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞. –ù–∞ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π —Ä–∞–∑ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –¥–æ–≤–æ–ª–µ–Ω. –Ø –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏. –ë—É–¥–µ—Ç –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —Å–∞—á–∫–æ–≤–∞—Ç—å? –ë—É–¥–µ—Ç –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ? –ë—É–¥–µ—Ç –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–≥–æ —Ä–æ–¥–∞ —É—á–µ–Ω–∏—è –∏–≥—Ä–æ–π –≤ «–ó–∞—Ä–Ω–∏—Ü—É»? –ù–µ—Ç. –í—Å–µ —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω–æ –∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å —É–ª–æ–∂–∏—Ç—å—Å—è –≤ –Ω–æ—Ä–º–∞—Ç–∏–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª –∏–º –î–∂–æ—Ö–∞—Ä.
–ü–µ—Ä–≤–∞—è –ø—è—Ç—ë—Ä–∫–∞, –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–º –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –±—ã–ª –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω –•—É—Å–µ–π–Ω, —É—à–ª–∞ –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏. –í—Ç–æ—Ä—É—é –ø—è—Ç—ë—Ä–∫—É –≤–æ–∑–≥–ª–∞–≤–∏–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ — —ç—Ç–æ –∫–ª–∏—á–∫–∞. –í–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ –µ–≥–æ –∑–≤–∞–ª–∏ –ò–±—Ä–∞–≥–∏–º–æ–º, —É–¥–∞—Ä–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å—Ç–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞ –±—É–∫–≤—É «–∞». –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ — –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π, —Å—É—Ö–æ—â–∞–≤—ã–π –±–æ–µ–≤–∏–∫. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —ç—Ç–æ —è –∑—Ä—è —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π. –ù–µ –≤—ã—à–µ –º–µ–Ω—è, –Ω–æ —Ç–∞–∫ —É–∂ –æ–Ω –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª. –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Å–∫–∞–∂–µ—Ç –ª–∏—à–Ω–µ–≥–æ —Å–ª–æ–≤–∞, –Ω–æ —É–∂ –µ—Å–ª–∏ –æ–±—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è —Å —á–µ–º-–Ω–∏–±—É–¥—å –∫ —Ç–µ–±–µ, –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è—Ç—å –Ω–∞–¥–æ —Ç–æ—á–Ω–æ –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –≠—Ç–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª–æ—Å—å –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ –º–Ω–µ –∏–ª–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ï–≥–æ –≥–æ–ª–æ–≤–æ—Ä–µ–∑–æ–≤ —ç—Ç–æ –∫–∞—Å–∞–ª–æ—Å—å –≤ –µ—â—ë –±–æ–ª—å—à–µ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –±—ã–ª –ø—Ä–∏–≤–µ—Ä–∂–µ–Ω—Ü–µ–º —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏. –û–Ω –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –ª—é–¥–µ–π –∏–∑ —Å–≤–æ–µ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å –º–Ω–µ –≤ –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ –¥—Ä–æ–≤, –∏ —Ç–µ –ø–æ–¥—á–∏–Ω—è–ª–∏—Å—å –±–µ–∑–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–æ—á–Ω–æ. –ü—Ä–∏—á—ë–º, —è –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –≤ —Å–≤–æ–π –∞–¥—Ä–µ—Å –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ —Å –∏—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã, —É–≤–∏–¥–µ–≤, –∫–∞–∫ —è –∏–∑–º—É—á–∏–ª—Å—è, –æ–Ω –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ —Å–ø–∞—Ç—å —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —á–∞—Å–∞. –ú–æ—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –µ–≥–æ –ª—é–¥–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —Å–∞–º—ã–µ –æ—Ç–º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –≤ –æ—Ç—Ä—è–¥–µ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –∏ –º–æ–≥ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –∏–º–∏. –ò–ª—å–º–∞–Ω –ë–∞—Ä–∞–µ–≤, –ê–Ω–∑–æ—Ä, –£–º–∞—Ä –∏ –ê–¥–∞–º. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –µ—â—ë –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–∞ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–∞—è –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∞.
–¢—Ä–µ—Ç—å—è –ø—è—Ç—ë—Ä–∫–∞ — –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä, –µ–≥–æ –±—Ä–∞—Ç — –ú—É—Å–ª–∏–º, –•—É—Å–µ–π–Ω-–ø–æ–≤–∞—Ä –∏ –í–∞—Ö–∞. –° –Ω–∏–º–∏ –∂–µ –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª –∏ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä. –ü–æ–≤–∞—Ä –Ω–µ —á–∞—Å—Ç–æ –±—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è—Ö, –Ω–æ –±–µ–∑—É–º–Ω–æ —Ä–≤–∞–ª—Å—è —Ç—É–¥–∞. –î–æ –≤–æ–π–Ω—ã –æ–Ω –±—ã–ª —à–µ—Ñ-–ø–æ–≤–∞—Ä–æ–º –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –≥—Ä–æ–∑–Ω–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö —Ä–µ—Å—Ç–æ—Ä–∞–Ω–æ–≤, –∏, –ø–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á—ë—Ç—É, –∑–∞–º–µ–Ω–∏—Ç—å –µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∫–µ–º. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª–∞ —Å–≤–æ–∏ —É—Å–ª—É–≥–∏ –ø–æ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –ø–∏—â–∏, –Ω–æ –µ—ë –¥–∞–∂–µ —Å–ª—É—à–∞—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏. –ß—Ç–æ–±—ã –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–∞–º –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞?! –¢–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞!
–ò–∑ —Å–µ–ª–∞ –Ω–µ–ø–æ–¥–∞–ª—ë–∫—É –ø—Ä–∏–≤–æ–∑–∏–ª —Ö–ª–µ–± –∏ –º—ë–¥ –º–µ–ª–∫–∏–π –º—É–∂–∏—á–∏—à–∫–∞. –ú—ë–¥—É –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ. –î–∞–∂–µ –Ω–∞–º –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å. –î–µ–Ω—å–≥–∏ —É –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –±—ã–ª–∏ –∏ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –Ω–µ –º–∞–ª—ã–µ. –Ø –Ω–µ —Ä–∞–∑ –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª –∏–∑ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞ –∫—Ä—É—Ç—É—é –ø–∞—á–∫—É –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤ –∏ –¥–∞–≤–∞–ª —á–∞—Å—Ç—å –ø–æ–≤–∞—Ä—É-–•—É—Å–µ–π–Ω—É –Ω–∞ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã. –û–Ω –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è —Å –º—É–∂–∏—á–∏—à–∫–æ–π, –∏ —Ç–æ—Ç –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–∏–≤–æ–∑–∏–ª –∑–∞–∫–∞–∑ –Ω–∞ –ª–æ—à–∞–¥–∏.
–ò –≤—Å—ë –∂–µ, –≤–º–µ—Å—Ç–æ —Ö–ª–µ–±–∞ — –±–µ–ø–∏–∫–∞ — —á–∞—â–µ –æ–±—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –ª–µ–ø—ë—à–∫–∞–º–∏. –•—É—Å–µ–π–Ω –∏—Å–ø–µ–∫–∞–ª –∏—Ö –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏. –û–Ω –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω–µ –≤—Å—ë –¥–µ–ª–∞–ª –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏. –ü–ª–æ–≤, –¥–∞–∂–µ –±–µ–∑ –º—è—Å–∞, –±—ã–ª –Ω–µ–æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤–∫—É—Å–µ–Ω. –ù–æ, –ø–æ –æ—Ç–∑—ã–≤–∞–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —É–º–µ–ª–æ –æ–Ω –∏ –≤–æ–µ–≤–∞–ª.
–ü–µ—Ä–≤—ã–º–∏, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –µ–ª–∏ —Ç–µ, –∫—Ç–æ —É—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏. –í—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ — –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞—é—â–∞—è —Å–º–µ–Ω–∞. –ü–æ—Ç–æ–º — –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ö–∞–∫ –≤—Å–µ–≥–¥–∞, —è —Ä–∞—Å—Å–æ–≤—ã–≤–∞–ª –ª–µ–ø—ë—à–∫–∏ –ø–æ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞–º –∫—É—Ä—Ç–∫–∏. –ù–∞ —Å–ª—É—á–∞–π –ø–æ–±–µ–≥–∞. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—Å—è —Ç–∞–∫–æ–π —Å–ª—É—á–∞–π, —è –∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ –Ω–µ –º–æ–≥. –ó–∏–º–∞. –ì–æ—Ä—ã. –í–æ–∫—Ä—É–≥ — –æ–¥–Ω–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏. –ö—É–¥–∞ –∏–¥—Ç–∏ — –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ. –û–¥–Ω–æ–º—É —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π.
–ú–æ–π –¥–µ–Ω—å –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª—Å—è –æ—á–µ–Ω—å —Ä–∞–Ω–æ, –∑–∞ —á–∞—Å –¥–æ –æ–±—â–µ–≥–æ –ø–æ–¥—ä—ë–º–∞. –Ø —à—ë–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ–π —à—ë–ª –≤–æ–æ—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω—ã–π –±–æ–µ–≤–∏–∫ —Å —Ñ–æ–Ω–∞—Ä–∏–∫–æ–º. –Ý–∞–Ω–Ω–∏–º —É—Ç—Ä–æ–º –≤ —É—â–µ–ª—å–µ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ç–µ–º–Ω–æ. –î–æ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞ — –æ–∫–æ–ª–æ —á–µ—Ç—ã—Ä—ë—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —è –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª—Å—è —Ç–∞–º —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º. –£–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–∞—Ä—É –¥–Ω–µ–π –º–µ–Ω—è —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –±–µ–∑ –∫–æ–Ω–≤–æ—è. –≠—Ç–æ –æ—Ç –ª–µ–Ω–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –û–Ω–∏ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ—Ç—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Å—Ç–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ—é, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –ø—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ–±—ã —è –¥–æ—à—ë–ª –¥–æ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞, –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–∏–ª –≤—ë–¥—Ä–∞ –∏ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è. –ù–æ –ø–æ—Ç–æ–º –∫–∞–∫-—Ç–æ —Ç–∞–∫ —Å–ª–æ–∂–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤–æ–æ–±—â–µ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –õ–∏—à—å –∑–∞—Å–µ–∫–∞–ª–∏ –≤—Ä–µ–º—è –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –∏ –≤—Ä–µ–º—è –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –Ø —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è —É–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è—Ç—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ–¥–Ω–æ–º—É —Ö–æ—Ç—å –∏–Ω–æ–≥–¥–∞. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∑–∞ –º–Ω–æ—é –ø—Ä–∏—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ –∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –∏–∑ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–≤.
–° –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∞. –Ø –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ –º–æ–≥—É –ø–æ–Ω—è—Ç—å –ø–æ—á–µ–º—É. –ù–æ, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—ã –±—ã–ª–∏. –¢–æ, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è —Ç–∞–∫ –±–µ—Å–ø–µ—á–Ω–æ –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏, –±—ã–ª–æ –æ–±—É—Å–ª–æ–≤–ª–µ–Ω–æ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∫—É–¥–∞. –ì–æ—Ä—ã —É—â–µ–ª—å—è —Ç–∞–∫ –≤—ã—Å–æ–∫–∏ –∏ –∫—Ä—É—Ç—ã, —á—Ç–æ —É–±–µ–∂–∞—Ç—å –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –í–µ—Ä—Ö–Ω—è—è —á–∞—Å—Ç—å —É—â–µ–ª—å—è –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏, –ø—Ä–∏—á—ë–º, –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞—à–∏–º–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ —Å –≥–æ—Ä—ã –Ω–∞–¥ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º.
–ö —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —è —Å–∏–ª—å–Ω–æ –∏—Å—Ö—É–¥–∞–ª, –∞ –º–æ–π –≤–Ω–µ—à–Ω–∏–π –≤–∏–¥ –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–µ–Ω. –í –∑–µ—Ä–∫–∞–ª–æ —É–∂–µ –¥–∞–≤–Ω–æ —Å–µ–±—è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –Ω–æ –º–æ–≥ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–µ –ª–æ—Ö–º—ã –≤–æ–ª–æ—Å –∏–∑-–ø–æ–¥ —á—ë—Ä–Ω–æ–π –≤—è–∑–∞–Ω–æ–π —à–∞–ø–æ—á–∫–∏, –¥–ª–∏–Ω–Ω–∞—è –∏ —Ä–µ–¥–∫–∞—è –¥—å—è–∫–æ–Ω–æ–≤—Å–∫–∞—è –±–æ—Ä–æ–¥—ë–Ω–∫–∞, –∫—É—Ä—Ç–æ—á–∫–∞, –¥—Ä–∞–Ω—ã–µ —à—Ç–∞–Ω—ã –∏ —Ä–≤–∞–Ω—ã–µ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏.
— –¢—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä, — –∫–æ –º–Ω–µ —Ç—É—Ç –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–ª–∏ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥—ã –∏–∑ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è. –ü—Ä–æ–¥–∞–π, –≥–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, –Ω–∞–º –ø—Ä–∞–≤–æ—Å–ª–∞–≤–Ω–æ–≥–æ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞, —á—Ç–æ —É —Ç–µ–±—è –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π —Ö–æ–¥–∏—Ç. –°—Ä–∞–∑—É –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª–∏ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ —Ç—ã—Å—è—á –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤. –Ø –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è.
–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã, –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥—è —Å –ø–æ–ª–Ω—ã–º–∏ –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏ –º–∏–º–æ –º–æ–ª–æ–¥—ã—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏–∑ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞, —è –≤–¥—Ä—É–≥ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª:
— –î–µ–¥—É—à–∫–∞, —Ç—ã –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–µ–µ –∏–¥–∏ –ø–æ –∫–∞–º–Ω—è–º. –¢–∞–º –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –ª—ë–¥ –Ω–∞–º—ë—Ä–∑.
— –°–ø–∞—Å–∏–±–æ, —Å—ã–Ω–∫–∏, — –ø–æ–±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª —è.
–ö–∞–∫-—Ç–æ –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª —É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞ –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–∞. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –Ω–µ —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü. –°—Ä–µ–¥–Ω–µ–≥–æ —Ä–æ—Å—Ç–∞ –∏ –æ—á–µ–Ω—å –æ—Å–ª–∞–±—à–∏–π. –ï–≥–æ –≥—Ä—É–±–æ –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –¥–≤–æ–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤. –Ø –¥–∞–∂–µ –∑–∞–º–µ–¥–ª–∏–ª —à–∞–≥, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å –∏–º –ø–æ–¥ –≥–æ—Ä—è—á—É—é —Ä—É–∫—É. –°—Ç–∞—Ä–∏–∫ –≤–∑–≤–∞–ª–∏–ª –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤—ã–π –±–∏–¥–æ–Ω —Å –≤–æ–¥–æ–π, –∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –±–µ–≥–æ–º –ø–æ–≥–Ω–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –ü–æ—Ç–æ–º –æ—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —è —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –≤ —É—â–µ–ª—å–µ, –∫—Ä–æ–º–µ –Ω–∞—Å, –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç –ë—Ä–∏–∑–∞ –§–ª–æ—Ç—å–µ –∏ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞ –®–ø–∏–≥—É–Ω–∞. –ï—Å–ª–∏ —Ç–∞–∫, —Ç–æ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —Ç–µ–º —Å—Ç–∞—Ä–∏–∫–æ–º –∏ –±—ã–ª –®–ø–∏–≥—É–Ω. –ï—â—ë —Ä–∞–∑ —è –≤–∏–¥–µ–ª –µ–≥–æ –∑–∞ –¥–µ–Ω—å –¥–æ —É—Ö–æ–¥–∞ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –∏–∑ —É—â–µ–ª—å—è. –í —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å —É—Ö–æ–¥–∏–ª –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–≤ –∏–∑ —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π —á–∞—Å—Ç–∏ —É—â–µ–ª—å—è. –°—Ç–∞—Ä–∏–∫–∞ —Ç–∞–∫ –∂–µ –Ω–µ—â–∞–¥–Ω–æ –≥–Ω–∞–ª–∏, –Ω–∞–≤–µ—Å–∏–≤ –µ–º—É –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π —Ä—é–∫–∑–∞–∫. –ü–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫ –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –ø–ª–æ—Ö –∏ –±–ª–µ–¥–µ–Ω. –ñ–∏–∑–Ω–∏ –≤ –µ–≥–æ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–ü–µ—Ä–≤–∞—è –Ω–µ–¥–µ–ª—è —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª–∞ –Ω–∞—à –±—ã—Ç. –° —Ä–∞–Ω–Ω–µ–≥–æ —É—Ç—Ä–∞ –∏ –¥–æ –ø–æ–∑–¥–Ω–µ–≥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ —è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª. –í–æ–¥–∞: —É—Ç—Ä–æ–º — —Å –±–∏–¥–æ–Ω–∞–º–∏ –ø–æ 20 –ª–∏—Ç—Ä–æ–≤. –¢–æ –∂–µ — –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º. –î–Ω–µ–º —Ö–æ–¥–∏–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π —Å –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏ –ø–æ —Ç—Ä–∏ — —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —Ä–∞–∑–∞. –í –ø—Ä–æ–º–µ–∂—É—Ç–∫–∞—Ö –º–µ–∂–¥—É —Ç–∞—Å–∫–∞–Ω–∏–µ–º –≤–æ–¥—ã –∑–∞–≥–æ—Ç–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª –¥—Ä–æ–≤–∞. –î–ª—è —ç—Ç–æ–≥–æ –≤ –≤–∏–∑—É–∞–ª—å–Ω–æ–π –±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç–∏ –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª —Å—É—Ö–æ–π —Å—Ç–≤–æ–ª –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –ü–∏–ª–∏–ª –∏–ª–∏ —Ä—É–±–∏–ª –µ–≥–æ –ø–æ–¥ –∫–æ—Ä–µ–Ω—å, –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É, —Ä–∞—Å–ø–∏–ª–∏–≤–∞–ª –≤ –æ–¥–∏–Ω–æ—á–∫—É –¥–≤—É—Ä—É—á–Ω–æ–π –ø–∏–ª–æ–π –∏ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–ª–µ–Ω—å—è –∫–æ–ª–æ–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º –Ω–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞.
–í —á–∞—Å—Ç–∏ –ø–∏–ª–µ–Ω–∏—è –∏ —Ä–∞—Å–∫–æ–ª–∞ –ø–æ–ª–µ–Ω—å–µ–≤ –º–Ω–µ —á–∞—Å—Ç–æ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –ë–∞—Ä–∞–µ–≤. –ï–º—É —ç—Ç–æ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –¥–µ–ª–∞—Ç—å.
— –í–æ—Ç —Ç–∞–∫, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞—â–∏ –ø–∏–ª—É –Ω–∞ —Å–µ–±—è, — —É—á–∏–ª –æ–Ω –º–µ–Ω—è, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –ø–∏–ª–∏–ª–∏ —Å—Ç–≤–æ–ª –¥–≤—É—Ä—É—á–Ω–æ–π –ø–∏–ª–æ–π. — –ù–µ –Ω–∞–¥–æ –¥–∞–≤–∏—Ç—å. –ü—É—Å—Ç—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ –∏–¥—ë—Ç.
— –ê –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –∏–¥—ë—Ç? — —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª —è.
— –¢–æ–≥–¥–∞ –ø–∏–ª—É –Ω–∞–¥–æ —Ç–æ—á–∏—Ç—å, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª, –∫–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ —Ç–æ—á–∏—Ç—å –ø–∏–ª—É —Ç—Ä–µ—Ö–≥—Ä–∞–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞–ø–∏–ª—å–Ω–∏–∫–æ–º.
–ù–µ –º–µ–Ω–µ–µ –ª–∏—Ö–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Ä–∞—Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª—Å—è –∏ —Å –∫–æ–ª–∫–æ–π –¥—Ä–æ–≤ —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º. –ò –≤—Å—ë –∂–µ —è –Ω–µ –ª—é–±–∏–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –º–Ω–µ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª. –ï–≥–æ –±–µ–ª—ë—Å—ã–µ –≥–ª–∞–∑–∞ –≤–Ω—É—à–∞–ª–∏ —É–∂–∞—Å. –ê –ø–æ—Ç–æ–º —è –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ —É–∂–µ –≤–∏–¥–µ–ª –∏—Ö –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ü–µ–¥—É—Ä–µ –æ–±–º–µ–Ω–∞ –§–∏—à–º–∞–Ω–∞ –Ω–∞ –Æ–Ω—É—Å–∞ –≤ –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏.
–ù–µ —Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å–æ–ª–Ω—ã—à–∫–æ –¥–Ω—ë–º —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–æ –ø–æ –≤–µ—Å–µ–Ω–Ω–µ–º—É, —Å–Ω–µ–≥—É –≤ —É—â–µ–ª—å–µ –Ω–µ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –º–µ–Ω—å—à–µ. –ê –º–æ–∏ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏ –≤—Å—ë –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –±–æ—Å–æ–Ω–æ–∂–∫–∏. –Ø –≤—Å—ë –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –≤–æ—Ç –∑–∞–±–æ–ª–µ—é –∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É. –ù–æ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–ª. –° –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–π –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ, —á–µ–º –Ω–µ–¥–µ–ª—é –Ω–∞–∑–∞–¥. –≠—Ç–æ –º–æ–≥–ª–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–æ — –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∑–∏–ª–∏—Å—å –∫ —É—â–µ–ª—å—é.
–í —É—â–µ–ª—å–µ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –ø—Ä–∏–±–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –£—Å–∏–ª–∏–ª–∏—Å—å –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–π—Å–∫–∏–µ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã.
23 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞, —Å—Ä–µ–¥–∞. –ü–æ—Å–ª–µ –±–æ—è –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å–≤–æ–µ–π –≥—Ä—É–ø–ø–æ–π –≤ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä. –û–Ω –±—ã–ª —Ä–∞–Ω–µ–Ω –≤ –ø—Ä–∞–≤–æ–µ –ø—Ä–µ–¥–ø–ª–µ—á—å–µ —Å–Ω–∞–π–ø–µ—Ä–æ–º. –Ý—É–∫–æ–π –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥. –ù–æ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞—Ç—å –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–º.
24 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥.¬Ý–Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –Ω–∞ —Å—Ç–µ–ª–ª–∞–∂–∞—Ö –≤ –∫—É—Ö–Ω–µ –ª–µ–∂–∏—Ç –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º. –°–≤–µ—Ä—Ö—É –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–∞–¥–∞–µ—Ç –∑–µ–º–ª—è –∏–∑ —â–µ–ª–µ–π –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã—Ç–∏—è. –Ý—è–¥–æ–º –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –Ø –≤–∑—è–ª –≥–æ—Ä—Å—Ç—å –∑–µ–º–ª–∏ –∏ —Å—ã–ø–∞–Ω—É–ª –µ—ë –≤ —É–¥–∞—Ä–Ω–æ-—Å–ø—É—Å–∫–æ–≤–æ–π –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º –æ–≥–Ω–µ–º—ë—Ç–∞ «–®–º–µ–ª—å». –ü—É—Å—Ç—å –ø–æ—á–∏—Å—Ç—è—Ç.
–í—Å—ë —É—Ç—Ä–æ —è –ø—Ä–æ–º—É—á–∏–ª—Å—è —Å –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∞–º–∏ —Å—É—Ö–æ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã. –° —ç—Ç–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ü–æ–ª–æ—Å–∫–∏ –æ–∫–æ–ø–æ–≤ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤–¥–æ–ª—å –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ –Ω–∞ —É—á–∞—Å—Ç–∫–µ –æ–∫–æ–ª–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞. –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —É—â–µ–ª—å—è –∏–º–µ–ª–∏, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –±–æ–ª—å—à–µ–µ –ø—Ä–µ–∏–º—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ. –û–Ω–∏ –º–æ–≥–ª–∏ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—Ç—å –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É. –ù–æ —É–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞—Ö –≥–æ—Ä—ã –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≥–¥–µ, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª –≤—ë–ª—Å—è –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ —Å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –≥–æ—Ä—ã, —Å —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏—è –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä—ë—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å —Å –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–π –≤ –≥–ª—É–±—å –ø–ª–æ—Å–∫–æ–≥–æ—Ä—å—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–∞ –æ–≥—Ä–∞–Ω–∏—á–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞—à–∏–º —É—â–µ–ª—å–µ–º –∏ –≥–æ—Ä–æ–π, –∏–∑ –Ω–µ–¥—Ä –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —è –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Å–µ–π—á–∞—Å –∫–æ—Ä—á–µ–≤–∞—Ç—å –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ —Å—É—Ö–æ—Å—Ç–æ—è. –ï—â—ë –Ω–∞–∫–∞–Ω—É–Ω–µ –æ–±–∫—Ä–æ–º—Å–∞–ª —Å—Ç–≤–æ–ª –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–æ –∫–æ—Ä–Ω–µ–π. –ù–æ –∏ –∫–æ—Ä–Ω–µ–≤–∞—è —Å–∏—Å—Ç–µ–º–∞, –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–∞—è, –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –≥–æ–¥–∏–ª–∞—Å—å –¥–ª—è —Ç–æ–ø–∫–∏.
–Ø –¥–æ–ª–≥–æ –º—É—á–∏–ª—Å—è, –æ–±—Ä—É–±–∞—è –∫–æ—Ä–µ—à–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ –µ—â—ë –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–æ—Å—å –∑–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω. –ü–æ—Ç–æ–º –≤—ã–¥–∏—Ä–∞–ª —É–∂–µ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–µ –∫–æ—Ä–Ω–µ–≤–∏—â–µ –∏–∑ –∑–∞—Ä–æ—Å–ª–µ–π —Å–∞–º–æ–π –∫–æ—Ä–Ω–µ–≤–æ–π —Å–∏—Å—Ç–µ–º—ã. –ü–æ –ø—É—Ç–∏ —Å—Ä—É–±–∏–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—É—Ö–∏—Ö —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–≤ –∏ –æ—Ç–Ω—ë—Å –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ –Ω–∞—á–∞–ª —Ä–∞—Å–ø–∏–ª–∏–≤–∞—Ç—å –∏—Ö –Ω–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞. –° –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–Ω–∏–µ–º –∫–æ—Ä–Ω—è —Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ–∫–∞ –æ–±–æ–∂–¥–∞—Ç—å. –í–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, —è —Å–∏–ª—å–Ω–æ —É—Å—Ç–∞–ª, –≤–æ-–≤—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –∫–æ–º—É –æ–Ω –Ω—É–∂–µ–Ω, —ç—Ç–æ—Ç –∫–æ—Ä–µ–Ω—å.
–ü–æ–∫–∞ —è –ø–∏–ª–∏–ª, –∏–∑ –Ω–∏–∂–Ω–µ–≥–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π. –ù–∞ —Å–∞–Ω–∫–∞—Ö –æ–Ω –ø—Ä–∏–≤—ë–∑ –º–µ—à–æ–∫ –º—É–∫–∏. –í—ã–≥—Ä—É–∑–∏–ª –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω—é –∏ —É—à—ë–ª –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –ü–æ–¥ –∫–æ–Ω–≤–æ–µ–º, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ. –ß–∞—Å–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —è –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –∫–æ—Ä–Ω–µ–≤–∏—â–µ–º. –ë–∞—Ö–∞–ª–∞–π. –ö–æ—Ä–Ω—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –Ω–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, –µ–≥–æ —É–∫—Ä–∞–ª –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π. –û–Ω –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª –∫—Ä–∞—Å—Ç—å –¥—Ä–æ–≤–∞ –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —É–Ω—ë—Å –ø–æ–ª–µ–Ω—å—è —É –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤ –∏–∑ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–≥–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –ó–∞ —ç—Ç–æ –æ–Ω –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø–ª—é—Ö –ø–æ –º–æ—Ä–¥–µ. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –µ—â—ë –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª –æ–ø—Ä–∞–≤–¥—ã–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–π –ø–æ—Å—Ç—É–ø–æ–∫ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –∫—Ä–∞–¥—ë—Ç –Ω–µ —É –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤, –∞ —É –º–µ–Ω—è. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –ª—é–±–∏–ª–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–µ–¥–∞—é—Ç —Å–≤–æ–∏—Ö.
–Ø —Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ç—å —Å—É—Ö–æ—Å—Ç–æ–π –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–º –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ. –ò –Ω–µ –Ω–∞–ø—Ä–∞—Å–Ω–æ. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –º–∞—Å—Å–∞ —Å—É—Ö–∏—Ö —Å–æ—Å–µ–Ω. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—Ç–≤–æ–ª—ã –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥—Ç–∞—â–∏—Ç—å –∏—Ö –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É. –Ø –ø–æ–¥—Ç–∞—â–∏–ª –¥–≤–∞ —Å—Ç–≤–æ–ª–∞. –ù–∞ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ –±—ã.
25 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞, –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –ø–æ—Ö–æ–¥–∞ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π —Å –¥–≤—É–º—è –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤—ã–º–∏ –±–∏–¥–æ–Ω–∞–º–∏, –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ —Å—Ç–≤–æ–ª–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª –µ—â—ë –≤—á–µ—Ä–∞. –û–¥–Ω–∞–∫–æ –º–µ–Ω—è –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª –ø–æ–≤–∞—Ä –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ç—ã —Ç—É–¥–∞ –Ω–µ —Ö–æ–¥–∏, –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª –æ–Ω. — –í–∏–¥–∏—à—å –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ —à—Ç—É–∫–æ–≤–∏–Ω—É?
–Ø –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª. –ù–∞ —Å–Ω–µ–≥—É –∑–∞ –∫–∞–º–Ω–µ–º –ª–µ–∂–∞–ª –æ–≥–Ω–µ–º—ë—Ç «–®–º–µ–ª—å». –¢–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π, —á—Ç–æ —è –Ω–∞–∫–∞–Ω—É–Ω–µ –ø–æ—Å—ã–ø–∞–ª –∑–µ–º–ª—ë–π.
— –ê –≤ —á—ë–º –¥–µ–ª–æ? — –ø—Ä–∏–∫–∏–Ω—É–ª—Å—è —è –¥—É—Ä–∞–∫–æ–º.
— –ú–æ–∂–µ—Ç, –∑–∞–∫–ª–∏–Ω–∏–ª–æ, –∏–ª–∏ –æ—Å–µ—á–∫–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ø–æ–≤–∞—Ä. — –ù–æ —Ç—Ä–æ–≥–∞—Ç—å –µ–≥–æ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ. –ú–æ–∂–µ—Ç —Ä–≤–∞–Ω—É—Ç—å.
–¢–∞–∫ —è –ø—Ä–æ–≤—ë–ª —Å–≤–æ—é –ø–µ—Ä–≤—É—é –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫—É—é –¥–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—é. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –Ω–∞ —Å–≤–æ—é –∂–µ –≥–æ–ª–æ–≤—É. –ö–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–æ—Å–Ω–æ–≤—ã–µ –±—Ä—ë–≤–Ω–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –≤–Ω–µ –∑–æ–Ω—ã –¥–æ—Å—è–≥–∞–µ–º–æ—Å—Ç–∏. –ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ –∂–µ –º–µ—Å—Ç–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ª—é–±–∏–ª–∏ –Ω–æ—á—å—é —Ö–æ–¥–∏—Ç—å «–¥–æ –≤–µ—Ç—Ä—É». –ó–¥–µ—Å—å –∂–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏ –∫–æ–Ω—è, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª –º—É–∂–∏—á–∏—à–∫–∞ —Å –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∞–º–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–∑–ª–µ–∂–∞—â–µ–≥–æ —Å–µ–ª–∞.
–ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å –∂–∞–ª–∫–æ –±—Ä–æ—Å–∞—Ç—å —Ç–∞–∫–∏–µ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–µ –¥—Ä–æ–≤–∞. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–≤–∞—Ä —É—à—ë–ª, —è –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –∑–∞ —Å—Ç–≤–æ–ª–∞–º–∏, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ—Ç–∞—â–∏—Ç—å –∏—Ö –≤–µ—Ä—Ö–æ–º, –º–∏–Ω—É—è –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –ª–µ–∂–∏—Ç –æ–≥–Ω–µ–º—ë—Ç. –ò —É–∂ –±—ã–ª–æ –Ω–∞—á–∞–ª –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—Ç—å, –Ω–æ –±—ã–ª –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω –¥—Ä—É–≥–∏–º –•—É—Å–µ–π–Ω–æ–º. –° –≤–∏–¥—É —Å–≤–∏—Ä–µ–ø—ã–º, –Ω–æ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –¥–æ–±—Ä—ã–º –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–º.
— –ù–µ –Ω–∞–¥–æ, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –Ø –ø–æ–∫–∞–∂—É —Ç–µ–±–µ, –≥–¥–µ –µ—Å—Ç—å —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π —Ö–≤–æ—Ä–æ—Å—Ç –Ω–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞.
— –•—É—Å–µ–π–Ω, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª —è, — –≤–µ–¥—å —ç—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å –æ–≥–Ω–µ–º—ë—Ç. –í—Ä—è–¥ –ª–∏ –æ–Ω –≤–¥—Ä—É–≥ –≤–æ–∑—å–º—ë—Ç –∏ –≤–∑–æ—Ä–≤—ë—Ç—Å—è.
— –í—Å—è–∫–æ–µ –±—ã–≤–∞–µ—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –í–æ—Ç, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –≤—ã—à–ª–∏ –º—ã –Ω–∞ –¥–∏–≤–µ—Ä—Å–∏—é. –í–∑—Ä—ã–≤–∞–µ–º –º–æ—Å—Ç. –ó–∞–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –±–æ–º–±—É, –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∞, –ø–æ–¥–∫–ª—é—á–∏–ª–∏ –¥–∏–Ω–∞–º–æ–º–∞—à–∏–Ω–∫—É. –ö—Ä—É—Ç–∞–Ω—É–ª–∏ — –Ω–µ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ß—Ç–æ –º—ã –¥–µ–ª–∞–µ–º?
— –ü—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–µ–º, –ø–æ—á–µ–º—É –Ω–µ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–æ—Å—å, — –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å, –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞! — –•—É—Å–µ–π–Ω —Ä—É–±–∞–Ω—É–ª –≤–æ–∑–¥—É—Ö —Ä—É–∫–æ–π. — –í –ª—É—á—à–µ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –∑–∞–±–∏—Ä–∞–µ–º –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞—Ç–æ—Ä –∏ —É—Ö–æ–¥–∏–º. –ö—Ç–æ –µ–≥–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç, –ø–æ—á–µ–º—É —ç—Ç–∞ —à—Ç—É–∫–∞ –Ω–µ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å?
— –ß—Ç–æ –∂–µ? –¢–∞–∫ –≤—Å—ë –∏ –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç—É? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ü—É—Å—Ç—å —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –∏—â—É—Ç –∏ —É–±–∏—Ä–∞—é—Ç –±–æ–º–±—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –ñ–∏–∑–Ω—å –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–∞ –¥–æ—Ä–æ–∂–µ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤–æ–∫—Ä—É–≥, –∫–∞–∫ –≥—Ä—è–∑–∏.
–í–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–µ –¥–Ω—è –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –í–∏—Ç—è, —Ç—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª, –ú—É—Å–ª–∏–º–∞ —É–±–∏–ª–∏!
— –û—Ç–∫—É–¥–∞ —Ç—ã —É–∑–Ω–∞–ª–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –£ –Ω–∏—Ö —Ç–∞–º, –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ, —Ä–∞—Ü–∏—è. –û–Ω–∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏, —á—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è—Ö, –∞ –∏–º –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∏, —á—Ç–æ —É–±–∏—Ç –ú—É—Å–ª–∏–º.
–Ø —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–ª–µ–Ω—å–µ–≤ –∏ –ø–æ–Ω—ë—Å –∏—Ö –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –∫ –ø–µ—á–∫–µ. –ó–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–ª—Å—è —Ç–∞–º, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –ø–æ–≥—Ä–µ—Ç—å —Ä—É–∫–∏, –∞ —Å–∞–º —Å–ª—É—à–∞—é —Ä–∞–¥–∏–æ–æ–±–º–µ–Ω. –¢–æ–ª–∫—É –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ, –≤–µ–¥—å –æ–±—â–∞—é—Ç—Å—è –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏. –í –∫—É—Ö–Ω—é –∑–∞—à—ë–ª –ø–æ–≤–∞—Ä.
— –ü–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è —Ç–∞–∫, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, — —á—Ç–æ —É–±–∏–ª–∏ –ú—É—Å–ª–∏–º–∞. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞–º –æ–± —ç—Ç–æ–º –ø–æ —Ä–∞—Ü–∏–∏ —Å–∞–º –ú—É—Å–ª–∏–º.
–î–≤–æ–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –≤–æ–æ—Ä—É–∂–∏–≤—à–∏—Å—å, –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏, —á—Ç–æ–±—ã —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –∏ –ø–æ–º–æ—á—å.
–ö –≤–µ—á–µ—Ä—É –≤—Å–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å. –í —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ —Å–∏—è—é—â–∏–π –ú—É—Å–ª–∏–º –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, —à–µ—è —É –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤—è–∑–∞–Ω–∞, –∞ –∫—Ä–æ–≤—å —Å–æ—á–∏–ª–∞—Å—å —á–µ—Ä–µ–∑ –±–∏–Ω—Ç—ã –∏ —Ç—Ä—è–ø–∫–∏. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —Å–Ω–∞–π–ø–µ—Ä –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª –µ–º—É —à–µ—é –Ω–∞–≤—ã–ª–µ—Ç. –ü—É–ª—è –Ω–µ –∑–∞–¥–µ–ª–∞ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ –≤–∞–∂–Ω–æ–≥–æ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∞. –£–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—É—Ç–∫–∏ –ú—É—Å–ª–∏–º —Å–Ω–æ–≤–∞ –±—ã–ª –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è—Ö. –ò, —á—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, –∏ —ç—Ç–æ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —Å—Ä–∞–∑—É, –ú—É—Å–ª–∏–º –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª—Å—è. –û–Ω —Å—Ç–∞–ª –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–µ–µ. –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞–Ω—å—à–µ –æ–Ω –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª –º–Ω–µ –ø–æ–º–æ—â–∏. –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —Å–≥—É—â—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–æ–ª–æ–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –≤ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤. –ú—É—Å–ª–∏–º –ø–æ–≤–∑—Ä–æ—Å–ª–µ–ª.
–ù–∞–¥ —É—â–µ–ª—å–µ–º —É–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞–ª –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –∞—Ç–∞–∫–æ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –≤–æ—Å—å–º–∏—Å—Ç–∞—Ö –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –í –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö –¥—Ä–æ–≤ —è —á–∞—Å—Ç–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –∏ –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è—Ö. –ù–æ –≤—ã—Å–æ–∫–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ –º–æ–≥. –í—ã—à–µ —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—Ç–µ–ª—å, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–∞—Ä—É —Ä–∞–∑ –≥–æ–Ω—è–ª –º–µ–Ω—è –æ—Ç—Ç—É–¥–∞.
–ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º –≤–æ–π—Å–∫–∞–º –ø–µ—Ä–µ–π—Ç–∏ –Ω–∞ —ç—Ç—É, –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è.
26 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞, —Å—É–±–±–æ—Ç–∞. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –Ω–µ–∫–æ–µ –ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–æ–±–ª–µ–Ω–∏–µ, —Å–æ—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –∏–∑ –¥–≤—É—Ö —Ç—Ä–µ—É–≥–æ–ª—å–Ω—ã—Ö –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç–µ–ª–µ–π. –ù–∞ –Ω–∏—Ö –æ–Ω –ø–æ–¥–≤–µ—Å–∏–ª –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—É—é —Ä–∞–∫–µ—Ç—É. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–∞—Å—å –ø—É—Å–∫–æ–≤–∞—è —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ –¥–ª—è –∑–∞–ø—É—Å–∫–∞ —ç—Ç–æ–π —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã —Å –∑–µ–º–ª–∏. –ü–æ—Å–ª–µ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∫–∏ –ø—Ä–∏—Å–ø–æ—Å–æ–±–ª–µ–Ω–∏–µ –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω—É—é –≥–æ—Ä—É –∏ –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—â–∏–ª–∏ –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –¥–Ω—è —è —Å–ª—ã—à–∞–ª —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π –∑–≤—É–∫ –∑–∞–ø—É—â–µ–Ω–Ω–æ–π —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –∏ –≤–∑—Ä—ã–≤, –Ω–æ —É–∂–µ –≤–¥–∞–ª–µ–∫–µ. –ü–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–∞–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Ä–∞–∫–µ—Ç—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å. –û–Ω–∞ –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–æ–π—Å–∫.
27 —Ñ–µ–≤—Ä–∞–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞, –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ. –ù–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è—Ö –ø–æ—á—Ç–∏ –≤—Å–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏. –Ø –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, –Ω–æ –Ω–∞ –ø–æ–ª–º–∏–Ω—É—Ç—ã –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–ª—Å—è —É –£–ê–ó–∏–∫–∞, —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –∑–∞–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–µ—Ç–∫–∞–º–∏. –ù–∞ –ø–æ—Ä–æ–∂–∫–µ —É –∫–∞–±–∏–Ω—ã –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –±–∞–Ω–∫—É —Å –≤–∞–∫—Å–æ–π –∏ –ø–æ—Ç—Ä—ë–ø–∞–Ω–Ω—É—é —Å–∞–ø–æ–∂–Ω—É—é —â—ë—Ç–∫—É. –ú–æ–∏ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏ –º–∞–ª–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –¥—ã—Ä—è–≤—ã, –µ—â—ë –∏ –Ω–∞–º–æ–∫–∞–ª–∏ –¥–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–æ—Å—Ç–∏. –Ø —Ö–æ—Ç–µ–ª —Ö–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ–º–∞–∑–∞—Ç—å –∏—Ö –≤–∞–∫—Å–æ–π.
–¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –≤—ë–¥—Ä–∞, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫. –û–Ω –ø–∏–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –Ø —É—Å–ø–µ–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å—Å—è –ø–æ–¥ —Å–∫–∞–ª—É, –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–∞ –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≥–ª—É–ø–æ—Å—Ç—å. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ–¥ —Å–∫–ª–æ–Ω–æ–º —Å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –í —Å–ª—É—á–∞–µ –∞—Ç–∞–∫–∏ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É, —ç—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –ê —Å–µ–π—á–∞—Å —è —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–µ –æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞, –∞ –æ—Ç —Å–∞–º–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞. –î–≤–∞ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –æ–¥–Ω–æ–≤—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–æ–≥—Ä–µ–º–µ–ª–∏ –Ω–∏–∂–µ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –ü–æ–¥–æ–∂–¥–∞–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–Ω—É—Ç. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ü–æ—à—ë–ª –∫ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫—É. –ü—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º –≥–æ—Ä–µ–ª —Å–∫–ª–æ–Ω –≥–æ—Ä—ã. –ü–∞—Ä–µ–Ω—ë–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —á–∏–Ω–∏–ª –ì–ê–ó-66, –ø–æ—Ç–∏—Ä–∞–ª –æ–∫—Ä–æ–≤–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –ø–ª–µ—á–æ.
— –¢–µ–±—è –∑–∞–¥–µ–ª–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ù–µ —É—Å–ø–µ–ª —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –ö–æ–≥–¥–∞ —Ä–≤–∞–Ω—É–ª–æ, —è –±—ã–ª –Ω–∞ –º–∞—à–∏–Ω–µ.
–û–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –ø–ª–µ—á–æ. –ü—Ä—è–º–æ –∏–∑ —Ä–∞–Ω—ã —Ç–æ—Ä—á–∞–ª –±–ª–µ—Å—Ç—è—â–∏–π –æ—Å–∫–æ–ª–æ–∫ —Ä–∞–∫–µ—Ç—ã.
— –ü–æ—Ç–µ—Ä–ø–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –°–µ–π—á–∞—Å –≤—ã—Ç–∞—â–∏–º.
–ì—Ä—è–∑–Ω—ã–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏ —è –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –≤—ã–Ω—É–ª –æ—Å–∫–æ–ª–æ–∫ –∏–∑ —Ä–∞–Ω—ã.
— –¢—ã –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∏—Å—å –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –ø–∞—Ä–µ–Ω—å–∫—É, — –∏ –æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–π —Ä–∞–Ω—É –π–æ–¥–æ–º. –ò –ø–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ–≤—è–∂–∏.
— –î–∞ –ª–∞–¥–Ω–æ! — –æ–Ω –º–∞—Ö–Ω—É–ª —Ä—É–∫–æ–π.
–ü–æ—Ç–æ–º –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∏–∑ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞ –≥—Ä—è–∑–Ω—ã–π –±–∏–Ω—Ç, —Å–¥–µ–ª–∞–ª –∏–∑ –Ω–µ–≥–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Ä–æ–¥–µ —Å–∞–ª—Ñ–µ—Ç–∫–∏ –∏ –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–ª –∫ —Ä–∞–Ω–µ. –ù–∞–¥–µ–ª –∫—É—Ä—Ç–∫—É –∏ –æ–ø—è—Ç—å –ø–æ–ª–µ–∑ –∫–æ–ø–∞—Ç—å—Å—è –≤ –º–æ—Ç–æ—Ä–µ.
–í–µ—á–µ—Ä–æ–º –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã –∏ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –ß—Ç–æ-—Ç–æ —É –Ω–∏—Ö —Ç–∞–º –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ. –ß—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–µ—Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ. –í–∞—Ö–∞ —É–±–µ–∂–¥—ë–Ω–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –≤—Å–µ–º –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ, –∞ –ê–Ω–∑–æ—Ä —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ–≥—Ä—ã–∑–∞–ª—Å—è, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º –º–µ–∂–¥—É –Ω–∏–º –∏ –í–∞—Ö–æ–π –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å –¥—Ä–∞–∫–∞. –ê–Ω–∑–æ—Ä, –º–∞—Å—Ç–µ—Ä —Å–ø–æ—Ä—Ç–∞ –ø–æ –±–æ–∫—Å—É, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å –í–∞—Ö—É, –Ω–æ —Ç–æ—Ç —Ç–∞–∫ –æ—Ç—á–∞—è–Ω–Ω–æ –¥—Ä–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ê–Ω–∑–æ—Ä –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–∞–ª –æ—Ç –µ–≥–æ –Ω–∞—Ç–∏—Å–∫–∞.
–î—Ä–∞–∫—É –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. –û–Ω –≤—Å—Ç—Ä—è—Ö–Ω—É–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞ –∏ —Ç–æ—Ç —É—Ç—É—Ö. –•—É—Å–µ–π–Ω –≤–∑—è–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞ –Ω–µ —Å–∏–ª–æ–π. –î—É—Ö–æ–º! –ê —Å–∏–ª–∞ –¥—É—Ö–∞ —è–≤–Ω–æ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –í–∞—Ö–∏ –∏ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–µ –≤–º–µ—à–∏–≤–∞–ª—Å—è. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–µ—Ç—å, –∫–∞–∫–æ–π –∑–ª–æ—Å—Ç—å—é –≥–æ—Ä–µ–ª–∏ –≥–ª–∞–∑–∞ –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞ –∏ –±–µ–ª—ë—Å—ã–µ, –ø—É—Å—Ç—ã–µ –∑–µ–Ω–∫–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞.
–ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ç–∏—Ö–æ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏—Ö –Ω–∞—Ä–∞—Ö.
— –ß—ë —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—à—å?! — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. — –û—Ç–≤–µ—Ä–Ω–∏—Å—å, —Å–≤–æ–ª–æ—á—å!
–ù–æ –∑–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—Å—Ç—É–ø–∏–ª—Å—è –•—É—Å–µ–π–Ω. –û–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ —Ä–µ–∑–∫–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω—É –∏ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–∞–º.
— –í—Å—ë –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –Ý–µ–±—è—Ç–∞ —É—Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ –±–æ—è.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ç—ë—Ä–ª–∞ —Ç–µ–ª–æ —Ç—Ä—è–ø–æ—á–∫–æ–π, —Å–º–æ—á–µ–Ω–Ω–æ–π –∫–µ—Ä–æ—Å–∏–Ω–æ–º.
— –ß—Ç–æ —ç—Ç–æ —Ç—ã –¥–µ–ª–∞–µ—à—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ—ë.
— –¢—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞ —Å —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥–æ–π, — –ø–æ-–º–æ–µ–º—É, —ç—Ç–æ –≤—à–∏. –£ —Ç–µ–±—è –Ω–µ—Ç?
— –ù–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –ù–æ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —É–∂–µ –∂–∞–ª—É—é—Ç—Å—è, —á—Ç–æ —É –Ω–∏—Ö –∑–∞–≤–µ–ª–∏—Å—å –≤—à–∏. –¢—ã —Ö–æ—Ç—å —á—Ç–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É–µ—à—å?
— –ö—É—Å–∞—é—Ç—Å—è, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — –∏ –ø—Ä—ã–≥–∞—é—Ç –ø–æ —Ç–µ–ª—É. –Ø —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —ç—Ç–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤—É—é.
–ü–æ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Å–ø–∞–ª–∏ –º—ã —Ä—è–¥–æ–º, –±–µ–ª—å–µ–≤—ã–µ –≤—à–∏ –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –∏ —É –º–µ–Ω—è. –û–Ω–∏ –ø—Ä—è—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Å–∫–ª–∞–¥–∫–∞—Ö –æ–¥–µ–∂–¥—ã. –ö–æ–≥–¥–∞ —è –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ —Å–Ω—è–ª —Ä—É–±–∞—à–∫—É –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –µ—ë –æ–±—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å, —Ç–æ –≤ —Ä–∞–π–æ–Ω–µ —à–≤–æ–≤ –∏—Ö –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª–Ω—ã–º –ø–æ–ª–Ω–æ.
1 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, —Å—Ä–µ–¥–∞. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º —Å—Ç–∞–ª–æ –ø–∞—Å–º—É—Ä–Ω–æ. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –∏–∑ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∏. –û–Ω –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –æ–∫—Ä–æ–≤–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—É—é –∫–∞—Ä—Ç—É –∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –º–µ–Ω—è –æ—Ç–º—ã—Ç—å –µ—ë –æ—Ç –∫—Ä–æ–≤–∏. –ö–∞—Ä—Ç–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª–∞ —É–±–∏—Ç–æ–º—É –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–æ–π —Å—Ç–∞—Ä—à–µ–º—É –ª–µ–π—Ç–µ–Ω–∞–Ω—Ç—É —Å–≤—è–∑–∏. –§–∞–º–∏–ª–∏–∏ –µ–≥–æ —É–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é, –æ–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ. –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–º –∫–∞—Ä–∞–Ω–¥–∞—à–æ–º –æ—Ç–º–µ—á–µ–Ω–∞ –¥–∏—Å–ª–æ–∫–∞—Ü–∏—è —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª –≤ —É—â–µ–ª—å–µ. –°—Ç—Ä–µ–ª–æ—á–∫–∞–º–∏ — –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –≤—ã–¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è –≤ —Ö–æ–¥–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—â–µ–π –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏. –ü–æ–∫–∞ —è –º—ã–ª –∫–∞—Ä—Ç—É, —É—Å–ø–µ–ª –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å –∏ —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞—à –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —Ç–æ–∂–µ –±—ã–ª –æ—Ç–º–µ—á–µ–Ω –Ω–∞ –Ω–µ–π.
–î–ª—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –¥–æ–±—ã—á–∞ —Ç–∞–∫–æ–π —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ–π –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏ –±—ã–ª–∞ —É–¥–∞—á–µ–π. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ —É–Ω—ë—Å –∫–∞—Ä—Ç—É –≤—ã—Å—à–µ–º—É –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –±–∞–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –≤ –∫–∞–∫–æ–º-—Ç–æ —Å–µ–ª–µ. –ê –≤–æ—Ç –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–µ –æ–¥–∏–Ω. –û–Ω –ø—Ä–∏—à—ë–ª —Å –Ω–æ–≤–æ–π –∂–µ–Ω–æ–π.
–≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏ —Å–ª–æ–≤–∞ –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –µ–º—É —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–æ–∑–Ω–∞–∫–æ–º–∏–ª–∞—Å—å —Å –¥–µ–≤—É—à–∫–æ–π. –ü–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏ –µ—ë –∑–≤–∞–ª–∏ –ú–∞—à–µ–π. –û–Ω–∞ —Å –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞ –≤–ª—é–±–∏–ª–∞—Å—å –≤ –ò–±—Ä–∞–≥–∏–º–∞ — —Ç–∞–∫ –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –∑–≤–∞–ª–∏ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—É. –ú–∞—Ç—å —É –Ω–µ—ë –ø–æ–≥–∏–±–ª–∞. –û—Ç–µ—Ü — —Ç–æ–∂–µ. –î–æ–º–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Å–µ—Å—Ç—Ä–∞. –í –¥–æ–º–µ –Ω–µ—á–µ–≥–æ –µ—Å—Ç—å, –∞ –∑–¥–µ—Å—å, —É –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, —Ö–æ—Ç—è –±—ã —Å—ã—Ç–Ω–æ.
–ò–º –æ—Ç–≥–æ—Ä–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–æ—á—å —á–∞—Å—Ç—å –∫—É—Ö–Ω–∏. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å –Ω–µ–æ–¥–æ–±—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –∫ —Ç–∞–∫–æ–π —Å–ø–µ—à–Ω–æ–π –∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π —Å–≤–∞–¥—å–±–µ –Ω–∞ –≤–æ–π–Ω–µ –∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –∫ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—é –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—ã –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ. –ù–æ –∏–∑-–∑–∞ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏—è –∫ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–µ, –º–æ–ª—á–∞–ª–∏.
2 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥. –°–∏–ª—å–Ω—ã–µ –±–æ–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —à–ª–∏ –Ω–∞ –≤—Ö–æ–¥–µ –≤ –Ω–∞—à–µ –±–æ–∫–æ–≤–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ, –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —É—Ç–∏—Ö–ª–∏. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –∏–∑-–∑–∞ –ø–ª–æ—Ö–æ–π –ø–æ–≥–æ–¥—ã –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –Ø —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∞–ª —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤–¥–≤–æ–µ –±–ª–∏–∂–µ, –Ω–æ –≤—ã—à–µ –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –Ω–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –Ý–∞–Ω—å—à–µ —Ç—É–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è. –¢–æ–ª—å–∫–æ –º—É–∂–∏–∫-–∞–±–æ—Ä–∏–≥–µ–Ω –≤–µ—Ä—Ö–æ–º –Ω–∞ –ª–æ—à–∞–¥–∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª—Å—è —Å —ç—Ç–∏–º. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Å–Ω–µ–≥ —Å–æ—à—ë–ª.
–≠—Ç–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –≤–µ–ª–∞ –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É, –ø–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∏ –±—ã–ª –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–∞ —Å–∫–∞–ª–∞–º–∏, –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π –æ—Ç –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞ –¥–æ —Ç—Ä—ë—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ, –ø—Ä–æ–º—ã—Ç–æ–µ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∏ —Ç–∞–ª–æ–π –≤–æ–¥–æ–π.
–ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π, —è —Å–∫–∞–∑–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω—É-–ø–æ–≤–∞—Ä—É, —á—Ç–æ –±—É–¥—É —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –∫ —ç—Ç–æ–º—É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫—É. –û–Ω —Å—Ö–æ–¥–∏–ª —Å–æ –º–Ω–æ—é —Ç—É–¥–∞, –∑–∞—Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è, –±—ã–ª–æ, –≤ —Ü–µ–ª–µ—Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª—Å—è.
— –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–µ–µ, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –≠—Ç–∞ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞ –≥–æ—Ä—ã –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏–µ–π.
–Ø —É–∂–µ —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è –≤ —ç—Ç–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –∑–∞–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è —Ç—É–¥–∞ –¥–ª—è –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∏ –¥—Ä–æ–≤. –û—á–µ–Ω—å –Ω–µ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ —Ç–µ–±—è –ø–∞–¥–∞—é—Ç –≤–µ—Ç–∫–∏, –ø–æ—Å–µ—á—ë–Ω–Ω—ã–µ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∞–º–∏. –ê —Ç–∞–∫–∏—Ö –≤–µ—Ç–æ–∫ –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–æ!.. –ü–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–µ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∞ –≤ —Å—Ç–≤–æ–ª –Ω–µ –æ–±—Ä–µ–∑–∞–µ—Ç –µ–≥–æ, –∞ —Ä–∞—Å—â–µ–ø–ª—è–µ—Ç. –ï—Å–ª–∏ —É–∂ —Å—Ç–≤–æ–ª –ø–µ—Ä–µ–±–∏—Ç, —Ç–æ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –æ–±–ª–æ–º–∞ —Ç–æ—Ä—á–∏—Ç —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω–∞—è –∫–∏—Å—Ç–æ—á–∫–∞ —Ä–∞–∑–º–æ—á–∞–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –¥—Ä–µ–≤–µ—Å–∏–Ω—ã.
3 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞. –ë–ª–∏–∂–µ –∫ –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é —Ç—É–º–∞–Ω –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–≥—É—Å—Ç–µ–ª. –Ø —Å –¥–≤—É–º—è –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏ –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –∫ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–º—É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫—É. –ì–æ—Ä—É –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏. –ù–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π —Ç–æ —Ç—É—Ç, —Ç–æ —Ç–∞–º –ø–æ—Å–≤–∏—Å—Ç—ã–≤–∞–ª–∏ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏ –∏–ª–∏ –ø—É–ª–∏. –ë–ª–∏–∑–∫–∏—Ö –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ó–∞ –£–ê–ó–∏–∫–æ–º –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –Ω–∞–ª–µ–≤–æ –∏ –ø–æ—à—ë–ª –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –∑–∞–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –æ—Ç –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ —Å–∫–∞–ª–∞–º–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –¥–æ—à—ë–ª –¥–æ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞, —Ä–∞–∑—Ä—ã–≤—ã —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∑–∏–ª–∏—Å—å. –ê —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–∫—É–Ω–¥ —Å—Ç–∞–ª–æ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –ø–æ—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –≤–µ—Ç–∫–∏. –ë–ª–∏–∑–∫–∏–π –≤–∑—Ä—ã–≤ –ª–µ–≥–∫–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å –ø–æ –∑–≤—É–∫—É. –ì—Ä–æ—Ö–æ—Ç–∞ —É–∂–µ –Ω–µ —Å–ª—ã—à–Ω–æ. –°–ª—ã—à–µ–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç—Ä–µ—Å–∫. –í –ø–∞–Ω–∏–∫–µ —è –≤–º–µ—Å—Ç–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ª–µ—á—å –ø–æ–¥ —Å–∫–∞–ª—É, —Å –º–æ–ª–Ω–∏–µ–Ω–æ—Å–Ω–æ–π –±—ã—Å—Ç—Ä–æ—Ç–æ–π, –∫–∞–∫ –æ—Ç–µ—Ü –§—ë–¥–æ—Ä, –≤–∑–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –≥–æ—Ä—ã –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –¥–µ—Å—è—Ç—å. –¢–∞–º –±—ã–ª–∞ —Ä–æ–≤–Ω–∞—è —Å –≤—ã–µ–º–∫–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∞. –Ø —É–ø–∞–ª –ª–∏—Ü–æ–º –≤–Ω–∏–∑. –û–±—Å—Ç—Ä–µ–ª –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª—Å—è. –ß—É—Ç—å –ø–æ–¥–Ω—è–ª –≥–æ–ª–æ–≤—É, –∏ –≥–ª–∞–∑–∞ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª—Å—è —Å —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–æ–º. –û–Ω –±—ã–ª –æ–¥–µ—Ç —Ç–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, –≤ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂. –° —Ç–µ–º –∂–µ –ö–∞–ª–∞—à–Ω–∏–∫–æ–≤—ã–º, –Ω–æ –ø–æ–æ–±—à–∞—Ä–ø–∞–Ω–Ω–µ–π. –ù–æ –ª–∏—Ü–æ! –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ–µ, —é–Ω–æ–µ —Ä—É—Å—Å–∫–æ–µ –ª–∏—Ü–æ.
— –¢—ã —á—Ç–æ —Ç—É—Ç –¥–µ–ª–∞–µ—à—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è —Ç–∏—Ö–æ.
— –ê –≤—ã? — –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –Ω–∞ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω –∏ –ø–æ–¥—Ç–∞—â–∏–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ —Å–µ–±–µ.
— –Ø –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –ï—Å—Ç—å —Ö–æ—á–µ—à—å?
–¢–æ—Ç –∫–∏–≤–Ω—É–ª. –Ø –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∏–∑-–∑–∞ –ø–∞–∑—É—Ö–∏ –∏ –æ—Ç–¥–∞–ª –µ–º—É –≤—Å–µ —Å–≤–æ–∏ –∑–∞–ø–∞—Å—ë–Ω–Ω—ã–µ –ª–µ–ø—ë—à–∫–∏.
— –ó–¥–µ—Å—å —Ä—è–¥–æ–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, — –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª –µ–≥–æ —è.
— –ó–Ω–∞—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –°–ª—É—à–∞–π, —è –∑–∞–±–ª—É–¥–∏–ª—Å—è –µ—â—ë –≤—á–µ—Ä–∞. –°–∫–∞–∂–∏, –≥–¥–µ-—Ç–æ —Ç—É—Ç –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ.
— –î–∞ –≤–æ—Ç –æ–Ω–æ, — –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª —è –≤–Ω–∏–∑, — –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥ –Ω–∞–º–∏. –í–æ–Ω —Ç–∞–º, — —è –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª —Ä—É–∫–æ–π –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥, — –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ, –Ω–æ –µ—Å–ª–∏ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–∞–ø—Ä—è–º—É—é, –ø–æ–ø–∞–¥–µ—à—å –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ «—á–µ—Ö–æ–≤».
— –≠—Ç–æ —è –∑–Ω–∞—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —Å–æ–ª–¥–∞—Ç. — –¢—ã –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Å–¥–∞—à—å?
— –ß—Ç–æ —Ç—ã! — –≤–æ–∑–º—É—Ç–∏–ª—Å—è —è. — –ú–æ–∂–Ω–æ –º–Ω–µ –ø–æ–π—Ç–∏ —Å —Ç–æ–±–æ–π?
–°–æ–ª–¥–∞—Ç –ø–æ–º–æ—Ä—â–∏–ª—Å—è.
— –¢–æ–ª—å–∫–æ —è –Ω–µ –æ–¥–∏–Ω, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª —è. — –°–æ –º–Ω–æ–π –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞, –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –¢–æ–∂–µ –ø–ª–µ–Ω–Ω–∞—è? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Å–æ–ª–¥–∞—Ç.
— –î–∞. –¢—ã –º–æ–≥ –±—ã –ø–æ–¥–æ–∂–¥–∞—Ç—å? –Ø –º–∏–≥–æ–º!
— –î–∞–≤–∞–π, — –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç –æ–±–ª–µ–≥—á—ë–Ω–Ω–æ –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É–ª.
–Ø –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –≤–Ω–∏–∑, –∫ –≤—ë–¥—Ä–∞–º. –û–¥–Ω–æ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –ø—Ä–æ–±–∏–ª –æ—Å–∫–æ–ª–æ–∫. –í–æ–¥–∞ –∏–∑ –Ω–µ–≥–æ –≤—ã—Ç–µ–∫–ª–∞ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –ø–æ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ –≤ –±–æ–∫—É. –í—Ç–æ—Ä–æ–µ —Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–µ. –Ø –±–µ–≥–æ–º –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å, —Ö–æ—Ç—è —É–∂–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª –ø–æ–Ω–∏–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É –º–Ω–µ –Ω–µ —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è –Ω–∏ –≤—ã—Ç–∞—â–∏—Ç—å, –Ω–∏, —Ç–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, —É–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –Ω–∞ –ø–æ–±–µ–≥. –ò —Å–æ–ª–¥–∞—Ç, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –∂–µ, –º–µ–Ω—è –∂–¥–∞—Ç—å –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –¢–∞–∫ –æ–Ω–æ –∏ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É —è –Ω–µ –Ω–∞—à—ë–ª. –û–Ω–∞ —Å –ú–∞—à–µ–π –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã –∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–æ–π —É—à–ª–∞ –≤ –Ω–∏–∂–Ω–∏–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –ú–µ–Ω—è –Ω–µ —Å—Ä–∞–∑—É –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, —Ö–æ—Ç—è –µ—ë –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –µ—â—ë –º–Ω–æ–≥–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ —è —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ–ø–∞–ª –∫ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫—É. –í–∑–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É. –ü—É—Å—Ç–æ. –¢–µ–ª–æ –æ–±–∂–∏–≥–∞–ª–∏ –µ—â—ë –≥–æ—Ä—è—á–∏–µ –ª–µ–ø—ë—à–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —è —É–∫—Ä–∞–ª –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω–µ. –ó–∞ –º–Ω–æ–π –∫ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫—É –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –í–∞—Ö–∞.
— –î–∞–≤–∞–π –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –¢—ã –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª?
— –ù–µ—Ç.
— –ù—É, –ø–æ—à–ª–∏, — –æ–Ω –µ—â—ë –ø–æ—Å—Ç–æ—è–ª —É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞ –∏ –Ω–∞—á–∞–ª —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è –∑–∞ –º–Ω–æ–π.
–ü–æ—Ç–æ–º —è –¥–æ–ª–≥–æ —É–∫–æ—Ä—è–ª —Å–µ–±—è –∑–∞ –±–µ—Å—Ç–æ–ª–∫–æ–≤–æ—Å—Ç—å –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∫–æ–≤. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å —Å–µ–±—è, —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –Ω–∞—Å –∑–¥–µ—Å—å –ø—è—Ç–µ—Ä–æ. –ß—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å —Ñ—Ä–∞–Ω—Ü—É–∑ –§–ª–æ—Ç—å–µ –∏ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª –®–ø–∏–≥—É–Ω… –£–º–Ω–∞—è –º—ã—Å–ª—è, –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç –æ–ø–æ—Å–ª—è.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª. –ü–æ—á–µ–º—É «–∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ»? –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —ç–º–æ—Ü–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–∞. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –º–æ–≥–ª–∞ –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º —è–≤–Ω–æ –ª–∏—à–Ω–µ–µ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ –¥–æ–º–µ —É –°–µ–ª–∏–º–∞. –û–±–æ–∑–ª—ë–Ω–Ω–∞—è –Ω–∞ –ó—É–±–∞ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –µ—ë —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —á–∞—Å—Ç–æ –∏ —á–∏—Å—Ç–æ —É–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è, –æ–Ω–∞ –≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –∏ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª–∞ –µ–≥–æ –ø–æ –∏–º–µ–Ω–∏, –ú—É—Å–ª–∏–º–æ–º. –û–Ω —Å–≤–æ—ë –∏–º—è –æ—Ç –Ω–∞—Å —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª. –≠—Ç–∏–º –æ–Ω–∞ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∞—Å—å –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –∑–Ω–∞–µ—Ç –æ –Ω—ë–º –±–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º —Ç–æ—Ç –¥—É–º–∞–µ—Ç. –ì–ª—É–ø–æ —Ä–∞–±—É –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞—Ç—å –≤ —Ä–æ–ª–∏ –ø—Ä–æ–∫—É—Ä–æ—Ä–∞. –ê —Å–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, —ç—Ç–æ —á—Ä–µ–≤–∞—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏—è–º–∏, —Å–∞–º–æ–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–µ –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö — —Å–º–µ—Ä—Ç—å –ª–∏—à–Ω–µ–≥–æ —Å–≤–∏–¥–µ—Ç–µ–ª—è.
–Ý–µ—à–∏—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –ø–æ–±–µ–≥ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –±—ã –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∞. –ö —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —É –Ω–∞—Å —É–∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä. –ò –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑ –æ–Ω –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª—Å—è —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–ª–∞ –Ω–æ–≤—ã–µ –∏ –Ω–æ–≤—ã–µ –¥–æ–≤–æ–¥—ã –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –ø–æ–±–µ–≥–∞. –î–æ–≤–æ–¥—ã –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–∑—É–º–Ω—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–∑–≥–ª—è–¥. –û—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö: «–Ø –Ω—É–∂–Ω–∞ —Å–≤–æ–∏–º –¥–µ—Ç—è–º –∏ –≤–Ω—É–∫–∞–º. –£–±–µ–∂–∏–º — –Ω–∞—Å –Ω–µ –ø–æ—â–∞–¥—è—Ç! –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É, –ø–æ–∫–∞ –∂–∏–≤–∞, –±—É–¥—É —Ç–µ—Ä–ø–µ—Ç—å. –ù–∞—Å –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –≤—ã—Ç–∞—â–∞—Ç –æ—Ç—Å—é–¥–∞».
–Ø –Ω–µ —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è–ª –µ—ë –º–Ω–µ–Ω–∏–µ, –Ω–∞—Å—á—ë—Ç «–≤—ã—Ç–∞—â–∞—Ç» –∏ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª —Å–∏–¥–µ—Ç—å, —Å–ª–æ–∂–∞ —Ä—É–∫–∏. –¢—Ä–∏ –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–∞ –¥–æ–ª–ª–∞—Ä–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ –∑–∞ –Ω–∞—Å, —ç—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–µ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞ –≥–æ–¥–æ–≤–æ–π –ø–µ–Ω—Å–∏–∏ –¥–ª—è –≤—Å–µ—Ö –ø–µ–Ω—Å–∏–æ–Ω–µ—Ä–æ–≤ –°–∞–º–∞—Ä—Å–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—Å—Ç–∏. –¢–∞–∫–∏—Ö –¥–µ–Ω–µ–≥ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –Ω–∞–π–¥—ë—Ç! –ò –±–µ–∂–∞—Ç—å –±–µ–∑ –Ω–µ—ë —è —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ –º–æ–≥. –ï—Å–ª–∏ –≤ –æ—Ç–º–µ—Å—Ç–∫—É –∑–∞ –º–æ–π –ø–æ–±–µ–≥ –µ—ë —É–±—å—é—Ç, —Ç–æ –≥—Ä–æ—à —Ü–µ–Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–º—É –ø–æ–±–µ–≥—É. –Ø –Ω–µ —Ö–æ—á—É –∂–∏–∑–Ω–∏ –∑–∞ —á—É–∂–æ–π —Å—á—ë—Ç. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ —á–µ–º –±–µ–∂–∞—Ç—å, —è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É –Ω–µ —É–±—å—é—Ç. –¢–∞–∫–æ–π —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç — —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ. –í–æ—Ç —Ç–∞–∫–∞—è –±—ã–ª–∞ —Å–ª–æ–∂–Ω–∞—è —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è.
–í—à–∏ –æ–¥–æ–ª–µ–ª–∏ –Ω–∞—Å. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –≥—Ä–µ–ª–∏ –≤–æ–¥—É –≤ –≤—ë–¥—Ä–∞—Ö –∏ –º—ã–ª–∏—Å—å. –ù–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ —Å–ø–∞—Å–∞–ª–æ. –ù–∞–º –≤–æ–æ–±—â–µ –ø–æ–º—ã—Ç—å—Å—è –Ω–µ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ù–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ –Ω–∏ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –Ω–∏ –≤–æ–¥—ã.
10 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞. –ò–∑ —É—â–µ–ª—å—è —É—à—ë–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–π –æ—Ç—Ä—è–¥ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ú–Ω–æ–≥–∏–µ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∏ –æ–ø—É—Å—Ç–µ–ª–∏. –í—Å–µ —Å–æ –¥–Ω—è –Ω–∞ –¥–µ–Ω—å –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞ –Ω–∞ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏–µ. –ü—Ä–∏—á—ë–º, –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—è –Ω–µ –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª –∑–∞ –≥–æ—Ä–æ–π, –∞ –ø—Ä—è–º–æ –≤ —Ç—ã–ª —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–æ–π—Å–∫.
–ü–æ–∑–¥–Ω–æ –Ω–æ—á—å—é —Å –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–π –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∏ –∫–∞–ø–ª–∏ –≤–æ–¥—ã. –Ý–∞–∑—ä—è—Ä–µ–Ω–Ω—ã–π –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –æ–±—Ä—É–≥–∞–ª –≤—Å–µ—Ö, –ø–æ—Ç–æ–º –º–µ–Ω—è –ª–∏—á–Ω–æ. –ò, –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω–æ, –ø–æ—Å–ª–∞–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –ï–º—É –ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞—Ç—å —Å–æ –≤—Å–µ—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω. –ú—ã—Å–ª–∏–º–æ–µ –ª–∏ –¥–µ–ª–æ –ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –Ω–æ—á—å—é –ø–æ—Å—ã–ª–∞—Ç—å –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π?! –î–∞–π—Ç–µ –µ–º—É —Ö–æ—Ç—è –±—ã —Ñ–æ–Ω–∞—Ä–∏–∫! –ê –∫—Ç–æ –ø–æ–π–¥—ë—Ç —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞—é—â–∏–º? –ù–∏–∫—Ç–æ. –ù—É, –î–∂–æ—Ö–∞—Ä, —Ç–≤–æ–∏ –ª—é–¥–∏ — —Ç—ã –∏ —Ä–µ—à–∞–π! –¢–∞–∫ –º—ã –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∏–º –î–∂–æ—Ö–∞—Ä—É.
–§–æ–Ω–∞—Ä–∏–∫–∞ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –Ω–∞—à–ª–∏. –Ø –≤–∑—è–ª –¥–≤–∞ –≤–µ–¥—Ä–∞ –∏ –∂–¥–∞–ª, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —Å–æ–±–µ—Ä—ë—Ç—Å—è —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞—Ç—å. –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è —Å –º–µ—Å—Ç–∞. –ê–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç–µ—Ç –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –ø–∞–¥–∞–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ø–∞–¥–µ–Ω–∏–µ–º –≤–æ–æ—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–æ–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º —Å–∏–ª–∞–º. –£—â–µ–ª—å–µ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å. –í–∑—Ä—ã–≤—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏—Å—å —Å –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∏—á–Ω–æ—Å—Ç—å—é –≤ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Å–µ–∫—É–Ω–¥.
— –î–∂–æ—Ö–∞—Ä! — –ø–æ–∑–≤–∞–ª —è. — –Ø –∏–¥—É –æ–¥–∏–Ω?
— –ò–¥–∏, –º–∞—Ç—å —Ç–≤–æ—é…
–í—ã–π–¥—è –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –≤ –Ω–µ–ø—Ä–æ–≥–ª—è–¥–Ω—É—é —Ç—å–º—É, —è —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —É–ø–∞–ª –∏ —Å–∫–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏ —Å –≥–æ—Ä–∫–∏ —É –≤—Ö–æ–¥–∞. –ò–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –∏ —Å–º–µ—Ö, –∏ –ø—Ä–æ–∫–ª—è—Ç—å—è –≤ —Å–≤–æ–π –∞–¥—Ä–µ—Å. –®—ë–ª –ø–æ –Ω–∞–∏—Ç–∏—é. –ù–µ –≤–∏–¥–Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ, –¥–æ –∂—É—Ç–∏, –¥–æ –Ω–µ—Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—Ç–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤—ã—à–µ–ª –∫ –£–ê–ó–∏–∫—É, —Å—Ç–∞–ª–æ –ø–æ—Å–≤–µ—Ç–ª–µ–µ. –°–∫–≤–æ–∑—å –æ–±–ª–∞–∫–∞ —Ç—É—Å–∫–ª–æ –ø—Ä–æ—Å–≤–µ—á–∏–≤–∞–ª–∞ –ø–æ–ª–Ω–∞—è –õ—É–Ω–∞. –ü–æ—à—ë–ª –¥–∞–ª—å—à–µ –∫ –Ω–∏–∂–Ω–µ–º—É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫—É. –°–Ω–æ–≤–∞ —Å—Ç–∞–ª–æ —Ç–µ–º–Ω–µ–µ, —è —à—ë–ª –ø–æ–¥ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –¥–æ—à—ë–ª –¥–æ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∞, –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª —É—Å–∏–ª–∏–ª—Å—è –¥–æ —Ç–∞–∫–æ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏, —á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å—Å—è –æ–± –æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–∏–∏. –í–∑—Ä—ã–≤—ã —Ç—Ä–µ—â–∞–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥–æ –º–Ω–æ—é –∏ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ —Å–µ–≤–µ—Ä–Ω–æ–π –≥–æ—Ä—ã. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–µ–ª—ë–≥–∫–∞—è –ø–æ–Ω–µ—Å–ª–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –ø–æ–¥ –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –∞ –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö, –≤ –ø—É—Å—Ç–æ–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –Ø —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–º –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç. –ê –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –±—ã–ª –≤—ã—Å–æ–∫–æ! –ú–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å –≤—ã—à–µ –ø–æ —É—Ä–æ–≤–Ω—é. –ê –µ—Å–ª–∏ –ø–æ —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–∞–º, —Ç–æ –≤—Å–µ —à–µ—Å—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç. –ß–∞–π–Ω–∏–∫ —è –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –Ω–∞ –ø–æ–ª–ø—É—Ç–∏ –ø–æ—Å–ª–µ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –° –≤–µ–¥—Ä–æ–º –≤–ª–µ—Ç–µ–ª –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, —à–º—ã–≥–Ω—É–ª –Ω–∞–ª–µ–≤–æ –∏ –ø—Ä–∏–∂–∞–ª—Å—è –∫ —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ. –ó–¥–µ—Å—å, –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö—É, —Ç—Ä–µ—â–∞–ª–æ, –≥—Ä–æ—Ö–æ—Ç–∞–ª–æ –∏ —Å–≤–∏—Å—Ç–µ–ª–æ –µ—â—ë —Å–∏–ª—å–Ω–µ–µ. –°–Ω–∞—Ä—è–¥—ã –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∞ —É—Ä–æ–≤–Ω–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–ª–æ—Å–∫–æ–≥–æ—Ä—å—è. –ü—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ –∑–∞—Ç–∏—à—å–µ. –Ø –≤—ã–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞—Ä—É–∂—É, –Ω–æ —Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ—Å–∏–¥–µ—Ç—å –µ—â—ë –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ. –í–¥—Ä—É–≥ —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —Å–Ω–∏–∑—É –≥–æ–ª–æ—Å –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä! –í–∏–∫—Ç–æ—Ä! … ..!
— –Ø –∑–¥–µ—Å—å! — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª —è, –≤—ã—Å—É–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ–ø—è—Ç—å –≤—Å—ë –∑–∞–≥—Ä–æ—Ö–æ—Ç–∞–ª–æ. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –Ω–∞–∑–∞–¥, –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–≤ –º–Ω–µ, —á—Ç–æ–±—ã —è –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è. –Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω–∏–ª—Å—è –∫ —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –¢–∞–∫ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–µ–µ. –ì–ª–∞–∑–∞ —É–∂–µ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫–∞–ª–∏ –∫ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ. –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ –≥–ª—É–±—å –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –∏ –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Ç–∞–º –∫—Ç–æ-—Ç–æ –µ—Å—Ç—å. –°—Ç–∞–ª–æ –∂—É—Ç–∫–æ–≤–∞—Ç–æ, –Ω–æ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –∂—É—Ç–∫–æ, —á–µ–º –æ—Ç –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞. –ö–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–µ —Å–ø–æ–ª–æ—Ö–∏ –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤ —á—É—Ç—å –ø–æ–¥—Å–≤–µ—á–∏–≤–∞–ª–∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –¢–∞–º –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–∏–ª—É—ç—Ç—ã –ª—é–¥–µ–π. –Ø –ø—Ä–∏–∂–∞–ª—Å—è –∫ —Å—Ç–µ–Ω–µ –∏ —Å–∏–¥–µ–ª —Ç–∏—Ö–æ, –µ—Å–ª–∏ —ç—Ç–æ —Å–ª–æ–≤–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –º–∞—Å—Å–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –∞—Ä—Ç–æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞. –í—Å—ë –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å–≤–∏—Å—Ç–µ–ª–æ, —Ç—Ä–µ—â–∞–ª–æ –∏ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å. –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–∏–Ω—É—Ç —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–æ—Å—å, –¥–≤–µ –∏–ª–∏ –ø—è—Ç—å, —è —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥—É. –ù–æ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è. –°—Ä–∞–∑—É —Å—Ç–∞–ª–æ —Ç–∏—Ö–æ. –ò —è —Å–∏–¥–µ–ª —Ç–∏—Ö–æ. –ê –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ –≤—Å—ë –∑–∞—à–µ–≤–µ–ª–∏–ª–æ—Å—å. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å–∏–ª—É—ç—Ç–æ–≤ –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –∏–∑ –≥–ª—É–±–∏–Ω—ã –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –∫ –≤—ã—Ö–æ–¥—É. –î—Ä—É–≥–æ–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –ø–æ–¥—Å–µ–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ –ø—Ä–∏–∂–∞–ª –º–µ–Ω—è –∫ —Å—Ç–µ–Ω–µ. –ü–µ—Ä–≤—ã–π –≤—ã–≥–ª—è–Ω—É–ª –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, —Ç–∏—Ö–æ —Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª –≤–ª–µ–≤–æ –∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–∞ –ø–ª–æ—Å–∫–æ–≥–æ—Ä—å–µ. –ó–∞ –Ω–∏–º —Ç–∞–∫ –∂–µ –ª–æ–≤–∫–æ –∏ –±–µ—Å—à—É–º–Ω–æ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ –µ—â—ë –¥–≤–æ–µ. –¢–æ—Ç, —á—Ç–æ –ø–æ–¥–ø–∏—Ä–∞–ª –º–µ–Ω—è, –Ω—ã—Ä–Ω—É–ª –∫ –≤—ã—Ö–æ–¥—É, –ø—Ä–æ–ª–µ–∑ –Ω–∞—Ä—É–∂—É, –æ–±–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è, —Å–∫–∞–∑–∞–ª: «–°–∏–¥–µ—Ç—å –∑–¥–µ—Å—å —Ç–∏—Ö–æ!» –∏ —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è —Å–ª–µ–¥–æ–º –∑–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏. –û–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏. –ß–∏—Å—Ç–æ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ —Ä–µ–±—è—Ç–∞.
–ú–∏–Ω—É—Ç –ø—è—Ç—å —è —Å–∏–¥–µ–ª, –Ω–µ –¥–≤–∏–≥–∞—è—Å—å, –ø–æ–∫–∞ —Å–Ω–∏–∑—É –º–µ–Ω—è –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. –ü–æ –ø—É—Ç–∏ –≤–Ω–∏–∑ –Ω–∞ —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–∞—Ö —è –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–ª —á–∞–π–Ω–∏–∫. –ê, —Å–ø—É—Å—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å, –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ –æ—â—É—Ç–∏–ª —Å–∏–ª—É –ø–∏–Ω–∫–æ–≤ —ç—Ç–æ–≥–æ –≤–µ—Ä–∑–∏–ª—ã. –û–Ω –ø–∏–Ω–∫–∞–º–∏ –ø–æ–≥–Ω–∞–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –ü–∏–Ω–∫–∞–º–∏ –∂–µ –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª –µ—ë –Ω–∞–±—Ä–∞—Ç—å. –£–¥–∞—Ä—ã —Ç–∞–∫ –∏ —Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ –Ω–æ–≥–∞–º, –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ. –ú—ã –∏ –¥–æ—à–ª–∏ –±—ã –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ, –∏ –≤–æ–¥—ã –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –±—ã —è –±–æ–ª—å—à–µ, –µ—Å–ª–∏ –±—ã –Ω–µ –µ–≥–æ –Ω–µ–æ–±—É–∑–¥–∞–Ω–Ω–∞—è —è—Ä–æ—Å—Ç—å. –û–Ω –ø–∏–Ω–∞–ª –º–µ–Ω—è, —Ç—ã–∫–∞–ª –≤ —Å–ø–∏–Ω—É —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–º –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞, –±–∏–ª –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥–æ–º. –ù–æ –µ–¥–≤–∞ –º—ã –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É, –≤—Å—ë –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–æ—Å—å. –û–Ω —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –ø–æ—à—ë–ª —Å–∑–∞–¥–∏. –ê –º–µ–Ω—è –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ –ø—Ä–æ–∫–ª—è—Ç–∏—è —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –∑–∞ –Ω–∞–ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É –ø—É—Å—Ç—ã–µ –≤–µ–¥—Ä–æ –∏ —á–∞–π–Ω–∏–∫. –í —ç—Ç–∏ –¥–Ω–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–ª–∏ –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –≤ —Å–≤–æ—ë–º –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–º –æ–ø–ª–æ—Ç–µ — –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–º —É—â–µ–ª—å–µ — –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –∫ –Ω–∞–º —Ä–µ–∑–∫–æ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–æ—Å—å. –ú—ã –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ –æ–±—É–∑—É –¥–ª—è –≤—Å–µ—Ö, –∫—Ä–æ–º–µ, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —Å–≤–æ–∏—Ö –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω—ã—Ö —Ö–æ–∑—è–µ–≤. –ú—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –¥–ª—è –º–Ω–æ–≥–∏—Ö —Å–∫–æ—Ç–∏–Ω–æ–π, –¥–æ–≤–µ—Å–∫–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–æ—â–µ –≤—ã–±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å, —á–µ–º –≤–æ–∑–∏—Ç—å—Å—è —Å –Ω–∏–º. –î–ª—è –Ω–∞—Å –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—å –¥—Ä—É–≥–∏–µ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∞.
11 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, —Å—É–±–±–æ—Ç–∞. –í–æ–¥–∞. –î—Ä–æ–≤–∞. –í—à–∏. –ë–æ–º–±—ë–∂–∫–∞. –ê—Ä—Ç–æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª. –ü–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –∫ –æ—Ç—Å—Ç—É–ø–ª–µ–Ω–∏—é. –ï–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ –≤ –æ—Ç—Ä—è–¥–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –º—É–∂–∏—á–∏—à–∫–∞. –û–Ω –ø—Ä–∏–≤–æ–∑–∏—Ç —Ö–ª–µ–±, –º—É–∫—É, –º—ë–¥, –º–∞—Å–ª–æ –∏ –º—è—Å–æ. –ú–∞—Å–ª–æ — —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–ø–ª—ë–Ω–æ–µ. –í —Å–µ–ª—å—Å–∫–∏—Ö —Ä–∞–π–æ–Ω–∞—Ö –ß–µ—á–Ω–∏ –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞—é—Ç –æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –¥—Ä—É–≥–æ–≥–æ.
–î–æ–ª–≥–æ –∏—Å–∫–∞–ª–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∞, —á—Ç–æ–±—ã —Ç–æ—Ç –ø—Ä–æ–≤—ë–ª –æ—Ç—Ä—è–¥ –≤ —Ç—ã–ª —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª. –ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å, –Ω–æ —Å –Ω–∏–º–∏ –Ω–µ –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ —Ü–µ–Ω–µ.
–ö–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å, –≤–æ—Ç —Å–∫–æ—Ä–æ –≤—Å–µ–º –≤—ã–¥–∞–¥—É—Ç –Ω–æ–≤—ã–µ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏. –í —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ –Ω–∞–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ù–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–±—É–≤—å –≤—Å—ë –∂–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å, –º–æ–µ–≥–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –æ–¥–Ω–∏ –º–∞–ª–æ–º–µ—Ä–∫–∏. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —è —Ç–∞–∫ —Ä–∞–∑–±–∏–ª —Å–≤–æ–∏ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏, —á—Ç–æ –æ—Ç –Ω–∏—Ö –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å. –ù–æ—Å–∫–æ–≤ —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –Ø –æ–±–º–∞—Ç—ã–≤–∞–ª –Ω–æ–≥–∏ –ø–æ—Ä—Ç—è–Ω–∫–∞–º–∏, –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –Ω–∞–¥–µ–≤–∞–ª —Ü–µ–ª–ª–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤—ã–µ –º–µ—à–∫–∏ –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–±—É–≤–∞–ª –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏. –ù–æ –æ—â—É—â–µ–Ω–∏–µ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Å—Ç–æ–∏—à—å –±–æ—Å–∏–∫–æ–º –Ω–∞ —Å–Ω–µ–≥—É, –Ω–µ –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–∞–ª–æ.
–ù–µ –±—ã–ª–æ —É –º–µ–Ω—è –∏ —Ç—Ä—É—Å–æ–≤. –í–º–µ—Å—Ç–æ –Ω–∏—Ö –æ–±–º–∞—Ç—ã–≤–∞–ª—Å—è —Ç—Ä—è–ø–∫–æ–π, —Å–æ–æ—Ä—É–∂–∞—è –Ω–µ—á—Ç–æ, –≤—Ä–æ–¥–µ –ø–∞–º–ø–µ—Ä—Å–æ–≤. –í—à–∏–≤–æ—Å—Ç—å –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∞ –∫–∞—Ç–∞—Å—Ç—Ä–æ—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏—Ö —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–≤. –ù–∞ —Ç–µ–ª–µ –∫—Ä–æ–≤–æ—Ç–æ—á–∏–ª –ø–æ—è—Å —É–∫—É—Å–æ–≤ –ø–æ–¥ —Ä–µ–∑–∏–Ω–∫–æ–π —à—Ç–∞–Ω–æ–≤. –¢–∞–∫–∏–µ –∂–µ –∫—Ä–æ–≤–æ–ø–æ–¥—Ç—ë–∫–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–∞ –ª–æ–¥—ã–∂–∫–∞—Ö –Ω–æ–≥ –∏ –∑–∞–ø—è—Å—Ç—å—è—Ö —Ä—É–∫. –ù–æ –≤—à–∏ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏ –ø–æ –≤—Å–µ–º—É —Ç–µ–ª—É. –ù–∏ –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, –Ω–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ –∏ –º–∏–Ω—É—Ç—ã –ø–æ—Å—Ç–æ—è—Ç—å —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ. –ü–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ–µ –ø–æ—á—ë—Å—ã–≤–∞–Ω–∏–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –∂–∏–∑–Ω–∏.
15 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, —Å—Ä–µ–¥–∞. –£—Ç—Ä–æ –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–æ—Å—å –æ—Ç –ø—Ä–µ–¥—ã–¥—É—â–∏—Ö. –ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é —É –Ω–∞—à–µ–≥–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –∏–∑ –Ω–∏–∂–Ω–µ–≥–æ. –ù–∞–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª–∏ –≤—ã—Å–ø–∞—Ç—å—Å—è. –ù–∞ —ç—Ç–æ –æ—Ç–≤–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Ç—Ä–∏ —á–∞—Å–∞ —Å 14 –¥–æ 17. –ù–æ –Ω–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, –Ω–∏ –º–Ω–µ –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å. –Ø –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —Ç–∞—Å–∫–∞—Ç—å –≤–æ–¥—É.
–í –ø—è—Ç—å –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –≤—Å–µ –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –±—ã–ª–∏ –≤—ã–Ω–µ—Å–µ–Ω—ã –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É. –° –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–π –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—è—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞. –ò–º –¥–∞–ª–∏ –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞. –í–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º–∏ –æ–±—è–∑–∞–ª–∏ –ø–æ–ª–µ–∂–∞—Ç—å –∏ –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ó–∞ –≤–æ–¥–æ–π –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ—Å—ã–ª–∞–ª–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –û–∫–æ–ª–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ —á–∞—Å–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –≤–µ–ª–µ–ª –≤—Å–µ–º —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—É. –ï–º—É –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª–∏ –≤ —Ç–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ, —á—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ 9 —á–∞—Å–æ–≤, –Ω–æ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –Ω–∞—Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ —Å–≤–æ—ë–º. –í—Å–µ –≤–æ—à–ª–∏ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –∏ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –∫–æ–ª–ª–µ–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –º–æ–ª–∏—Ç—å—Å—è. –ó–∞–ø–µ–≤–∞–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä. –£ –Ω–µ–≥–æ —ç—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å –ª—É—á—à–µ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö: «–ë–∏—Å–º–∏–ª—å–ª—è—Ö –∏—Ä —Ä–æ—Ö–º–∞–Ω–∏ —Ä–æ—Ö–∏–º. –ê–ª—å—Ö–∞–º–¥—É–ª–ª–∏–ª–∞ —Ä–æ–±–±–∏–ª—å –∞–ª–∞–º–∏–Ω…» –ú–æ–ª–∏—Ç–≤—É —è —É–∂–µ –≤—ã—É—á–∏–ª –Ω–∞–∏–∑—É—Å—Ç—å, –≤–µ–¥—å —Å–ª—ã—à–∞–ª –µ—ë –ø–æ —Ç—Ä–∏ —Ä–∞–∑–∞ –≤ –¥–µ–Ω—å. –í–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ, –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–µ –¥–µ–ª–∞—é—Ç —ç—Ç–æ –ø—è—Ç—å —Ä–∞–∑ –≤ —Å—É—Ç–∫–∏, –Ω–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–µ—Ç—Å—è —Å–æ–≤–º–µ—â–∞—Ç—å –¥–≤–µ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã.
–ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ —É –ê–ª–ª–∞—Ö–∞ —É–¥–∞—á–∏ –≤ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—â–µ–º –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, —Ç–∞–º, —É –≤—Ö–æ–¥–∞ —Å—Ç–æ–ª–ø–∏–ª–æ—Å—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–µ–º—å–¥–µ—Å—è—Ç.
— –ù–µ —É–Ω—ã–≤–∞–π, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫–æ –º–Ω–µ. — –ü–æ–π–¥—ë—à—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ–π.
— –ê –°–≤–µ—Ç–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ò –°–≤–µ—Ç–∞ —Å –Ω–∞–º–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –ù–æ –æ–Ω–∞ –ø–æ–Ω–µ—Å—ë—Ç –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —Ä—é–∫–∑–∞–∫ —Å –∞–ø—Ç–µ—á–∫–æ–π, –∞ —Ç—ã — –∑–∞—Ä—è–¥—ã –¥–ª—è –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç–∞. –û—Ç –º–µ–Ω—è — –Ω–∏ –Ω–∞ —à–∞–≥.
–Ý—é–∫–∑–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω—ã–º. –ö—Ä–æ–º–µ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç, —Ç–∞–º –±—ã–ª–æ –Ω–∞–ø–∏—Ö–∞–Ω–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –µ—â—ë. –Ø –æ–¥–µ–ª –µ–≥–æ –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω—É. –ù–µ —Å–∫–∞–∂—É, —á—Ç–æ —Ä—é–∫–∑–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –æ—á–µ–Ω—å —Ç—è–∂—ë–ª—ã–º. –ó–∞—Ç–æ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ –ø–æ–¥ –∑–∞–≤—è–∑–∫—É. –ï–≥–æ —Ä—é–∫–∑–∞–∫ –±—ã–ª –æ–≥—Ä–æ–º–µ–Ω. –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä —Å–ø–ª–∞–≤–∏–ª–∏ –µ–º—É –º–∞—Å—Å—É —Å–≤–æ–∏—Ö –≤–µ—â–µ–π. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —É–∂–µ —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —è—Å–Ω–æ, —á—Ç–æ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∏—Ç –≥—Ä—É–ø–ø–µ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã. –°–∞–º–æ–≥–æ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–Ω –ø—Ä–æ—â–∞–ª—Å—è —Å –ú–∞—Ä—å—è–º.
–î–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —á–∞—Å–æ–≤ —Å–æ—Ä–æ–∫ –ø—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç 15 –º–∞—Ä—Ç–∞. –û—Ç—Ä—è–¥ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –∏ –ø—Ä–∏–º–∫–Ω—É–≤—à–∏–µ –∫ –Ω–µ–º—É –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ–∫–∏–¥–∞–ª–∏ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ. –ü–µ—Ä–≤—ã–º–∏ –ø–æ—à–ª–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫ –∏ –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –°–ª–µ–¥–æ–º — –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞, –Ω—É –∏ –º—ã, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ. –ü–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –º–∏–º–æ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–Ω–æ—é —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ —à–ª–∞ –∫—Ä—É—Ç–æ –≤ –≥–æ—Ä—É –∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –Ω–∞ –ø–ª–æ—Å–∫–∏–π —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –≥–æ—Ä—ã –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º. –û—Ç—Å—é–¥–∞, —Å –≤—ã—Å–æ—Ç—ã –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ —Å—Ç–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –æ–Ω —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª—Å—è. –ù–∞–≤–µ—Ä—Ö—É –±—ã–ª–æ —É–∂–µ —Å–≤–µ—Ç–ª–æ. –í –∑–≤—ë–∑–¥–Ω–æ–º –Ω–µ–±–µ –≤–∏—Å–µ–ª–∞ –ø–æ–ª–Ω–∞—è –õ—É–Ω–∞. –£ –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –∫ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º—É —É—á–∞—Å—Ç–∫—É —Å—Ç–æ—è–ª –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –î–∂–æ—Ö–∞—Ä —Å —Ä—É–∫–æ–π –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤—è–∑–∏. –û–Ω –ø–æ—Ö–ª–æ–ø—ã–≤–∞–ª –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –ø–æ –ø–ª–µ—á—É –∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª: «–ê–ª–ª–∞—Ö—É –ê–∫–±–∞—Ä». –û–Ω –∏ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Ö–ª–æ–ø–∞–ª, –∞ –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª—Å—è –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: «–ë–æ–≥ —Å —Ç–æ–±–æ–π, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä».
–¢—É—Ç –∂–µ, —Ä—è–¥–æ–º —Å –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–æ–º, –¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç–µ–ª–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Å–Ω–µ–≥—É —Å–≤–æ–∏ –∫–æ–≤—Ä–∏–∫–∏ –∏ –º–æ–ª–∏–ª–∏—Å—å —Ç—Ä–æ–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –≠—Ç–æ –æ–Ω–∏ –Ω–∞—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–ª–∏ –º–æ–ª–∏—Ç—å—Å—è –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è. –í—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏—à–ª–æ.
— –í—Å—ë –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –º–Ω–µ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä, —à–µ–¥—à–∏–π —Ä—è–¥–æ–º. — –¢—Ä–∏ –¥–Ω—è –º—É—á–µ–Ω–∏–π — –∏ –±—É–¥–µ–º –¥–æ–º–∞. –ù–∏ –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∏, –Ω–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤. –ò –≤–∞—à–∏ –¥–µ–ª–∞ –∑–∞–∫—Ä—É—Ç—è—Ç—Å—è.
–ü–ª–µ–Ω –±–µ–∑ –≤–æ–π–Ω—ã —Ç–æ–≥–¥–∞ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –º–Ω–µ –≤–µ—Ä—Ö–æ–º –±–ª–∞–∂–µ–Ω—Å—Ç–≤–∞. –ù–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –±–æ–ª—å—à–µ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–∞ –õ—É–Ω–∞. –ú—ã —à–ª–∏ –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —Ü–µ–ø—å—é. –ó–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å –µ—ë —Å —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞ –ª–µ–≥–∫–æ. –ê —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –ª–µ—Ç–∞–ª–∏. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –≤—ã—Å–æ–∫–æ –∏ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ –Ω–∞—à–∏ –¥—É—à–∏. –Ø –ø–æ–¥–µ–ª–∏–ª—Å—è –æ–ø–∞—Å–µ–Ω–∏—è–º–∏ —Å –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–æ–º.
— –ò–º–µ–µ—Ç —Å–º—ã—Å–ª –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –º–∞–ª—ã–º–∏ –≥—Ä—É–ø–ø–∞–º–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –µ–º—É. — –¢–∞–∫—É—é —Ü–µ–ø—å –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –∞—Ç–∞–∫—É—é—Ç, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã, —Ç–æ –∞—Ä—Ç–∏–ª–ª–µ—Ä–∏—è.
— –ï—Å–ª–∏ —á—Ç–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω, — –ø–∞–¥–∞–π –∏ –ª–µ–∂–∏. –ê –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º –∏–¥—Ç–∏, –ø–æ–∑–∞–±–æ—Ç—è—Ç—Å—è –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä—ã. –£ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –æ–ø—ã—Ç.
–ú—ã —à–ª–∏ –≤–¥–æ–ª—å –æ–±—Ä—ã–≤–∞, –ø–æ—Ä–æ—Å—à–µ–≥–æ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∏–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏. –®–ª–∏ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –Ω–∞–¥ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º. –ü—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫ –∏ –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞–ª–∞—Å—å —É–∂–µ –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫ —ë–ª–æ—á–∫–∞–º. –î–æ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ –∏ —ç—Ç–∏ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–µ –º–µ—Ç—Ä—ã –±—ã–ª–∏ —Å–∞–º—ã–º–∏ –æ–ø–∞—Å–Ω—ã–º–∏.
–î–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –æ–¥–∏–Ω –Ω–æ–ª—å-–Ω–æ–ª—å. –°–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —É—â–µ–ª—å—è –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç. –û–Ω –ª–µ—Ç–∏—Ç –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –Ω–∞—Å. –í—Å–µ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏, –∏ –≤ —Ç—É –∂–µ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É –∑–µ–º–ª—è –ø–æ–¥–ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª–∞ –æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞. –Ø —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —Å–∫–∏–Ω—É–ª —Å–æ —Å–ø–∏–Ω—ã –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–æ–ø–∞—Å–Ω—ã–π —Ä—é–∫–∑–∞–∫. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç –µ–¥–≤–∞ –Ω–µ –∑–∞–¥–µ–ª –≤–µ—Ä—Ö—É—à–∫–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤.
— –¢—ã —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞–µ—à—å?! — –∑–∞–æ—Ä–∞–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —è –æ—Ç–ø–∏—Ö–∏–≤–∞–ª –æ—Ç —Å–µ–±—è —Ä—é–∫–∑–∞–∫ —Å –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞–º–∏. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ — –º–æ—â–Ω–µ–π—à–∏–π —Ç–æ–ª—á–æ–∫ –∑–µ–º–ª–∏ –≤ –≥—Ä—É–¥—å. –í–∑—Ä—ã–≤! –ú–∞—Ö–∏–Ω–∞ –°—É-24 –ø—Ä–æ—Å–∫–≤–æ–∑–∏–ª–∞ –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏. –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –º–µ–Ω—è —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–¥–µ—Ç—å —Ä—é–∫–∑–∞–∫.
— –¢—ã –∑—Ä—è –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏—à—å—Å—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –Ý—é–∫–∑–∞–∫ –µ—â—ë –±—ã –∏ –∑–∞—â–∏—Ç–∏–ª —Ç–µ–±—è –æ—Ç –æ—Å–∫–æ–ª–∫–æ–≤.
— –ù–æ –≤–µ–¥—å —Ç–∞–º –∂–µ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—ã! — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è.
— –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç, — —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –û—Ç –æ—Å–∫–æ–ª–∫–æ–≤ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—ã –Ω–µ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è.
–¶–µ–ø—å –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å. –ú—ã –ø–æ—à–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ –æ–±—Ä—ã–≤—É, —á—Ç–æ–±—ã –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ –ø—ã–ª–∞—é—â–∏–π –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –¶–µ–ª—å—é —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤ –±—ã–ª –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –æ–Ω. –ò –≤—Ä–µ–º—è –∞—Ç–∞–∫–∏ –≤—ã–±—Ä–∞–Ω–æ –Ω–µ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ — –≤—Ä–µ–º—è –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã. –ê—Ç–∞–∫–∞ —Å –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –±—ã–ª–∞ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∞ –Ω–∞ «–æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ». –ü–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–µ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ — –ø—Ä—è–º–æ–µ.
–®–ª–∏ –ø–æ —Å–Ω–µ–≥—É. –ü–æ —Ü–µ–ª–∏–Ω–µ. –î–æ –º–µ–Ω—è –≤ —Ü–µ–ø–æ—á–∫–µ — —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å. –í—Å–µ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å –∏–¥—Ç–∏ —Å–ª–µ–¥ –≤ —Å–ª–µ–¥, –∏ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–∞—Å—å. –ì–ª—É–±–∏–Ω–∞ —Å–Ω–µ–≥–∞ –ø–æ—Ä–æ–π –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–∞–ª–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞. –ú–æ–∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ –≤—ã–π—Ç–∏ –Ω–∞ –∫–æ—Ä–∫—É —Å–Ω–µ–≥–∞ –∏ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –Ω–µ–π –Ω–µ —É–≤–µ–Ω—á–∞–ª–∏—Å—å —É—Å–ø–µ—Ö–æ–º. –ö–æ—Ä–∫–∞ –Ω–µ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–∞ –º–æ–µ–≥–æ –≤–µ—Å–∞. –û—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å —ç—Ç–∏ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –≥–æ–ª–æ–º—É —É—á–∞—Å—Ç–∫—É –≥–æ—Ä—ã, –æ–±–∏–ª—å–Ω–æ –ø–æ–¥—Å–≤–µ—á–µ–Ω–Ω–æ–º—É –õ—É–Ω–æ–π.
–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –¥–æ—à–ª–∏ –¥–æ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —ë–ª–æ—á–µ–∫, –∏ –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª–∞—Å—å –≥—Ä–∞–Ω–¥–∏–æ–∑–Ω–∞—è –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —É—â–µ–ª—å—è, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –Ω–∞–º –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è. –ë–µ—Å–∫–æ–Ω–µ—á–Ω—ã–µ –≥–æ—Ä—ã. –ò—Ö –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å. –≠—Ç–æ –±–µ–∑—É–º–Ω–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ, –Ω–æ –≤–µ–ª–∏—á–∏–µ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—ã –∏ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ, —á—Ç–æ –≤–æ–π–Ω–∞ –¥–ª—è –Ω–∞—Å –∫–æ–Ω—á–∞–µ—Ç—Å—è, –ø—Ä–µ–≤–∞–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏.
–ì–ª—É–±–∏–Ω—É —É—â–µ–ª—å—è —è –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª –≤ –ø–æ–ª–∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞. –ü–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É —Å–ø—É—Å–∫ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –±—ã –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –¥–≤–∞. –≠—Ç–æ –º–∏–Ω–∏–º—É–º. –ù–æ —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ–æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –ª–µ–≥–∫–æ. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–µ—Å—Ç—å –Ω–∞ –∑–∞–¥–Ω–∏—Ü—É –∏ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞—Ç—å –æ—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –¥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –ø–æ —É–∂–µ –ø—Ä–æ–±–∏—Ç–æ–º—É –≤ —Å–Ω–µ–≥–µ –ø—Ä–µ–¥—ã–¥—É—â–∏–º–∏ –∑–∞–¥–Ω–∏—Ü–∞–º–∏ –∂—ë–ª–æ–±—É. –í –æ—Å–æ–±–æ –æ–ø–∞—Å–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö —Å–ø—É—Å–∫–∏ —Å—Ç—Ä–∞—Ö–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å.
–ú–µ–Ω–µ–µ —á–µ–º —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –º—ã –±—ã–ª–∏ –≤–Ω–∏–∑—É. –í–µ—Ç—Ä–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –≥—Ä–µ–º–µ–ª–∞ –≥–æ—Ä–Ω–∞—è —Ä–µ—á–∫–∞, –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ —à–∏—Ä–∏–Ω–æ–π. –Ø –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ —Ü–µ–ø–æ—á–∫–∞ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ —Ä–∞—Å—Ç—è–Ω—É–ª–∞—Å—å –æ—Ç –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –¥–æ –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è. –ù–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ–≤–∞—è –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –∏ —É–∂–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∫ –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–µ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä—É—á–µ–π.
–ü–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä–∏–º–∏—Ç–∏–≤–Ω—ã–º –±—Ä–µ–≤–Ω–æ–º. –ü–æ –Ω–µ–º—É –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Å–µ–º—å –Ω–∞–¥ —Ä—É—á—å—ë–º. –í—Å–µ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏—Å—å —Å —ç—Ç–∏–º. –ù–æ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ —É–∂–µ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –ø–æ–∫—Ä—ã–ª–æ—Å—å —Å–Ω–µ–≥–æ–º. –ö–æ–≥–¥–∞ —è —à–∞–≥–Ω—É–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ, –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –º–æ—è —Ä–≤–∞–Ω–∞—è –ø–æ–¥–æ—à–≤–∞ — –∫–æ–∂–∞–Ω–∞—è, –∏ –Ω–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ—Ç–µ–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –Ω–µ–π –Ω–µ—Ç. –Ø –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–π —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –±—Ä–µ–≤–Ω–∞. –£–ø–∞–ª –≤ –≤–æ–¥—É, –∏ –º–µ–Ω—è –∑–∞—Ö–ª–µ—Å—Ç–Ω—É–ª–æ —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –Ø –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –≤—Å—Ç–∞–ª –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏. –í–æ–¥—ã — —á—É—Ç—å –≤—ã—à–µ –∫–æ–ª–µ–Ω. –Ø –≤—ã—à–µ–ª –∏–∑ –≤–æ–¥—ã –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–≥—Ä–∞–¥—É—Å–Ω–æ–º –º–æ—Ä–æ–∑–µ –º–æ–≥—É –∑–∞–º—ë—Ä–∑–Ω—É—Ç—å. –ú–Ω–µ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª. –Ø –≤—Å—Ç–∞–ª –≤ —Ü–µ–ø–æ—á–∫—É –∏ –ø–æ—à—ë–ª –¥–∞–ª—å—à–µ. –£–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–∞—Ä—É –º–∏–Ω—É—Ç –≤—Å—è –≤–µ—Ä—Ö–Ω—è—è –æ–¥–µ–∂–¥–∞ –Ω–∞ –º–Ω–µ –æ–∫–∞–º–µ–Ω–µ–ª–∞. –ò, –∫–∞–∫ –Ω–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ, —Å—Ç–∞–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–ª–µ–µ. –°—Ç–∞–ª–∞ –∑–∞–º–µ—Ä–∑–∞—Ç—å –≥–æ–ª–æ–≤–∞. –Ø —Å–Ω—è–ª —à–∞–ø–æ—á–∫—É, –æ—Ç–∂–∞–ª –µ—ë –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–¥–µ–ª. –¢–∞–∫ –±—ã–ª–æ —Ç–µ–ø–ª–µ–µ.
–í –ª–µ–¥—è–Ω–æ–º —Å–∫–∞—Ñ–∞–Ω–¥—Ä–µ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ. –í –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∞—Ö –≤—Å—ë —Ö–ª—é–ø–∞–µ—Ç. –ù–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–æ–≥—É —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç—å—Å—è, –Ω–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è. –ò –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –¥–µ–ª–∞–ª–æ —Å–≤–æ—ë –¥–µ–ª–æ — —è –±—ã–ª –∂–∏–≤. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è. –¢–æ–ª—å–∫–æ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ!
–ù–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ –ø—è—Ç–∏ –º–∏–Ω—É—Ç, –∫–∞–∫ —è —É–ø—ë—Ä—Å—è –≤ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ–≤—É—é –≥—Ä—É–ø–ø—É. –û–Ω–∏ –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞–ª–∏ —É –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —Å—Ç–æ–≥–∞ —Å–µ–Ω–∞, –æ–∂–∏–¥–∞—è –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞. –•—É—Å–µ–π–Ω –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –≤ –∫–∞–∫–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ —è –Ω–∞—Ö–æ–∂—É—Å—å, –∏ –ø–æ—Å–æ–≤–µ—Ç–æ–≤–∞–ª:
— –ù–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–π—Å—è. –•–æ–¥–∏ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å—Ç–æ–≥–∞. –ü—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è —Ç–µ–±–µ –æ–±—Å—ã—Ö–∞—Ç—å –Ω–∞ —Ö–æ–¥—É.
— –¢–∞–∫–æ–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –≠—Ç–æ –∑–∞–≤–∏—Å–∏—Ç –æ—Ç —Ç–µ–±—è, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –û—Ç –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è? — –µ—â—ë —Ä–∞–∑ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –û—Ç –¥—É—Ö–∞! — –æ–¥–Ω–æ–∑–Ω–∞—á–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –ú–æ–≥—É –¥–∞—Ç—å –ø–æ–≥—Ä–µ—Ç—å—Å—è, — —Å–º–µ—è–ª—Å—è –ø–æ–≤–∞—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–∞—â–∏–ª –Ω–∞ —Å–µ–±–µ –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ–π –º–∞—Ä–∫–∏ –∏ –Ω–µ–≤–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏–º—ã—Ö —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–≤.
«–û—Ç –¥—É—Ö–∞!» — –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–ª —è –ø—Ä–æ —Å–µ–±—è. –≠—Ç–æ –º–Ω–µ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ. –ù–æ —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ, –•—É—Å–µ–π–Ω. «–ù–µ –¥–æ–∂–¥—ë—Ç–µ—Å—å!» — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª —è —Å–µ–±–µ –∏ —Å—Ç–∞–ª —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –æ—Ç —Å—Ç–æ–≥–∞ –∫ —Å—Ç–æ–≥—É. –ù–∞—á–∞–ª–∞—Å—å —É—Ç–æ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è –±–æ—Ä—å–±–∞ —Å —Å–æ–±–æ–π. –Ø –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –ø—Ä–æ—Å—ã–ø–∞—Ç—å—Å—è –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–µ —Å–∏–ª—ã –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–º–∞. –ì–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å–µ–±–µ: «–í—Å–ø–æ–º–Ω–∏, –∫–∞–∫ —Ç—ã —Å–ø–∞–ª –ø–æ–¥ –¥–æ–∂–¥—ë–º! –¢—ã –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —á–∏—Ö–Ω—É–ª –ø–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ!» –ß—Ç–æ —Ç–≤–æ—Ä–∏–ª–æ—Å—å –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –º–µ–Ω—è, –∫–∞–∫ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ª—é–¥–∏, —á—Ç–æ –º–Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –°–≤–µ—Ç–∞, —É–≤–∏–¥–µ–≤ –≤–º–µ—Å—Ç–æ –º–µ–Ω—è –î–µ–¥–∞ –ú–æ—Ä–æ–∑–∞, —è –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é.
–ú—ã –ø–æ—à–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –ï—â—ë —á–∞—Å –ø—É—Ç–∏ –≤–¥–æ–ª—å —Ä—É—á—å—è — –∏ –º—ã –≤—ã—à–ª–∏ –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω—É, –Ω–∞ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª –æ—Ç—Ä—è–¥, –∞ —è –¥—É–º–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–± –æ–¥–Ω–æ–º: «–ü–æ—á–µ–º—É –≤–æ–Ω —Ç–µ –¥–≤–∞ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ–¥ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏, –∞ –º—ã — –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ? –í–µ–¥—å —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –ª–µ—Ç–∞—é—Ç! –í–æ–Ω –æ–Ω–∏, –ª–µ—Ç—è—Ç –ø–∞—Ä–æ–π –±–µ–∑ –Ω–∞–≤–∏–≥–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã—Ö –æ–≥–Ω–µ–π. –í–æ–Ω –µ—â—ë –ø–∞—Ä–∞!»
–ù–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≤ —Å—Ç—Ä–æ–π –Ω–µ —Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–∏–∞–ª—å–Ω–æ. –ò —ç—Ç–æ —Å–ø–∞—Å–∞–ª–æ. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –°–∞–º–æ–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–µ — —è –Ω–µ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∏ –ø–∞–ª—å—Ü–µ–≤ –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∞—Ö, –Ω–∏ –ø—è—Ç–æ–∫.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å –¥–∞–ª—å—à–µ, –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –ö–∞–∫ —Ç—ã, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä?
— –ù–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –µ–º—É.
–û–Ω –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏ —É—à—ë–ª –≤–ø–µ—Ä—ë–¥. –û–Ω –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —à—ë–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–º.
–î–≤–∞ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏—Ö –æ—Ç—Ä—è–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∏–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ «–°—Ç–∞—Ä–æ–π –≥–≤–∞—Ä–¥–∏–µ–π», –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å –¥–∞–ª—å—à–µ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫ –∫ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω—É. –£ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤ —Å –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–º –ø–µ—Ä–µ–¥ —ç—Ç–∏–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∞—Å—å –ø–µ—Ä–µ–ø–∞–ª–∫–∞. –ü—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫ –≤—Å—ë –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω–∞. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç –≤—Å–µ—Ö, –∫—Ä–æ–º–µ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞, –µ–º—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —É–±–µ–¥–∏—Ç—å. –ü—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫ —É—à—ë–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º–∏, –Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä—É —Å–≤–æ—é –ª–æ—à–∞–¥—å, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Ç—É—Ç –∂–µ –Ω–∞–≤—å—é—á–∏–ª–∏ –¥–≤–∞ –≥—Ä–æ–º–∞–¥–Ω—ã—Ö –º–µ—à–∫–∞ —Å –ø—Ä–æ–≤–∏–∑–∏–µ–π. –≠—Ç–∏ –¥–≤–∞ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫ —É–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –∏–¥—Ç–∏ –≤ –î–∞–≥–µ—Å—Ç–∞–Ω, –±—É–¥—É—Ç —Ä–∞–∑–±–∏—Ç—ã —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—É—Ç–∫–∏.
–ö–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –º—ã —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ —à–ª–∏ –ø–æ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–µ, –Ω–æ —É–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ —Å–ª–µ–≤–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–∑–ª–æ—Å—å —á—ë—Ä–Ω–æ–µ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ. –°–≤–µ—Ç –õ—É–Ω—ã –Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–∞–ª –µ–≥–æ –¥–Ω–∞, –Ω–æ, –ø—Ä–∏–≥–ª—è–¥–µ–≤—à–∏—Å—å, –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –¥–æ –¥–Ω–∞ —É—â–µ–ª—å—è –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–¢—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª–∞—Å—å —Ç—É–¥–∞. –£–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –æ—Ç—Ä—è–¥ —à—ë–ª –≤–¥–æ–ª—å –≥—Ä–µ–º—è—â–µ–π —Ä–µ—á–∫–∏. –£—â–µ–ª—å–µ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å —É–∑–∫–∏–º. –û—Ç —Å–∫–∞–ª—ã –¥–æ —Å–∫–∞–ª—ã –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ —Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –û—Ç–≤–µ—Å–Ω—ã–µ —Å–∫–∞–ª—ã –±—ã–ª–∏ —Ç–∞–∫ –≤—ã—Å–æ–∫–∏, —á—Ç–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö—É –≤–∏–¥–Ω–µ–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É–∑–∫–∞—è –ø–æ–ª–æ—Å–∫–∞ –Ω–µ–±–∞.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–∞–≤–µ—Å–Ω–æ–π –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–π –º–æ—Å—Ç –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–π –±–µ—Ä–µ–≥ —Ä–µ—á–∫–∏. –ï—â—ë —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞—Ç—å—Å—è –æ–±–∏—Ç–∞–µ–º—ã–µ –ø–µ—â–µ—Ä—ã, –∑–∞–Ω—è—Ç—ã–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏. –ú—ã –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∏ –ø—è—Ç—å —Ç–∞–∫–∏—Ö –ø–µ—â–µ—Ä, –∏ –Ω–∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö –Ω–µ –Ω–∞—à–ª–æ—Å—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –æ—Ç—Ä—è–¥ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –ø–æ–ª—è–Ω—É, –æ–∫—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω—É—é –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º–∏ —Å–∫–∞–ª–∞–º–∏ —Å —Ç—Ä—ë—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω. –ù–∞ –ø–æ–ª—è–Ω–µ —Ä–æ—Å–ª–∏ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –∏ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫. –ó–¥–µ—Å—å —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤, –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≥—Ä–µ–ª–∏—Å—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏. –®–∏—Ä–∏–Ω–∞ –ø–æ–ª—è–Ω—ã — –æ—Ç —Ä–µ–∫–∏ –¥–æ —Å–∫–∞–ª — –Ω–µ –ø—Ä–µ–≤—ã—à–∞–ª–∞ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í –¥–ª–∏–Ω—É — –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –¥–∞–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤–∞–ª, –∏ –º–µ–Ω—è —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ—Å–ª–∞–ª–∏ –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏.
–Ý—É–∫–∏ –Ω–µ —Å–ª—É—à–∞–ª–∏—Å—å, –Ω–æ–≥–∏ —Ç–æ–∂–µ. –° –±–æ–ª—å—à–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º —è –Ω–∞–±—Ä–∞–ª –æ—Ö–∞–ø–∫—É —Å—É—à–Ω—è–∫–∞. –í–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å, –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –∫ –æ–≥–Ω—é –º–Ω–µ –Ω–µ –ø—Ä–æ–±–∏—Ç—å—Å—è. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏. –Ø —Ö–æ–¥–∏–ª –∏ —Ö–æ–¥–∏–ª –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –∑–∞–º—ë—Ä–∑–Ω—É—Ç—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –º–µ–Ω—è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω –∏ –ø—Ä–æ—Ç–∞—â–∏–ª –∫ –æ–≥–Ω—é. –Ø —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –æ—Ç–æ–≥—Ä–µ—Ç—å –Ω–æ–≥–∏. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –ø—Ä–æ—Å—É—à–∏—Ç—å –ø–æ—Ä—Ç—è–Ω–∫–∏, –Ω–æ —Ç—â–µ—Ç–Ω–æ. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –•—É—Å–µ–π–Ω –æ—Ç–æ—à—ë–ª –æ—Ç –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞, –º–µ–Ω—è —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—Å–ª–∞–ª–∏ –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–∞ –ø–æ–ª—è–Ω–µ –ø—ã–ª–∞–ª–∏ –≤–æ—Å–µ–º—å –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤. –ò–∑ –Ω–∏—Ö –¥–≤–∞ — –Ω–∞—à–∏. –Ø —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –¥—Ä–æ–≤–∞ –∏ –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ù–µ—Ç –ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–æ–≤? –ö–æ—Å—Ç—Ä—ã –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤–∏–¥–Ω—ã —Å –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞ –Ω–æ—á—å—é. –ù–æ –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –≤—ã—Å–æ—Ç–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã, –Ω–∞–¥ –ø–æ–ª—è–Ω–æ–π —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∞, –∏ –∫–æ—Å—Ç—Ä—ã –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–≤–µ—Ä—Ö—É —Ä–∞—Å—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–º–∏ –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö –æ–¥–µ—è–ª–∞–º–∏. –°–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ — –æ–¥–µ—è–ª–∞ —É–±–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å.
16 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥. –ö —É—Ç—Ä—É –º–Ω–æ–≥–∏–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —É—Å–ø–µ–ª–∏ –≤–∑–¥—Ä–µ–º–Ω—É—Ç—å –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–π –ø–µ—â–µ—Ä–µ. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è —Å –∑–∞–Ω—è–≤—à–∏–º –µ—ë –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–º –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –µ–≥–æ –ª—é–¥–∏ –±—É–¥—É—Ç —Ç–∞–º –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞—Ç—å –ø–æ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–∏. –•—É—Å–µ–π–Ω –ª–µ–∂–∞–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ —Å–Ω–µ–≥—É —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ —É—Ç—Ä–æ–º —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –∫–æ—Å—Ç—ë—Ä —É–∂–µ –¥–∞–≤–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å–ª–∏ –∫ —Å–∫–∞–ª–µ, –∞ –æ–Ω –≤—Å—ë —Å–ø–∏—Ç –Ω–∞ —Ç–æ–º –∂–µ –º–µ—Å—Ç–µ. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Ä–∞–∑–±—É–¥–∏—Ç—å –µ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–ª, –Ω–æ –æ–Ω —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è.
–£—Ç—Ä–æ–º —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, –≤ –∫–∞–∫–æ–º –∂–∏–≤–æ–ø–∏—Å–Ω–µ–π—à–µ–º –º–µ—Å—Ç–µ –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è. –í—ã—Å–æ—á–µ–Ω–Ω–∞—è —Å–∫–∞–ª–∞ –ø–æ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Ä–µ—á–∫–∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –≥–∏–≥–∞–Ω—Ç—Å–∫–∏–º –≤–æ–¥–æ–ø–∞–¥–æ–º. –ó–∞–º—ë—Ä–∑—à–∏–µ –ø–æ—Ç–æ–∫–∏ –∏ —Å—Ç—Ä—É–∏ –æ–∫—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∏ –∏—Å–ø–æ–ª–∏–Ω–∞ –≤ –≥–æ–ª—É–±–æ–≤–∞—Ç–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω—ã–µ –æ—Ç—Ç–µ–Ω–∫–∏, –∞ –∏—Ö –∫—Ä—É–∂–µ–≤–∞ –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –Ω–µ–ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º–æ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω—ã–º. –°—É—Ä–æ–≤–∞—è –∫—Ä–∞—Å–æ—Ç–∞ –°–Ω–µ–∂–Ω–æ–π –∫–æ—Ä–æ–ª–µ–≤—ã –±—ã–ª–∞ —Ä–∞—Å—Ç–æ–ø–ª–µ–Ω–∞ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –Ω–µ —Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –º–æ—Ä–æ–∑, –ø—Ä–æ—Å–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–∫–≤–æ–∑—å –ª—ë–¥. –û–Ω–∏ –∫–∞–ø–∞–ª–∏, –∫–∞–∫ —Å–ª—ë–∑—ã –∏–∑-–ø–æ–¥ –±–µ–ª—ã—Ö —Ä–µ—Å–Ω–∏—Ü. –ö–∞–∫ –∂–∞–ª—å, —á—Ç–æ –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞—é—Ç –∏–º–µ—Ç—å —Å —Å–æ–±–æ–π –≤–∏–¥–µ–æ–∫–∞–º–µ—Ä—É!
–í—Å–µ–≥–æ –≤ –¥–≤—É—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É —É—â–µ–ª—å–µ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –≥—Ä–æ–º–∞–¥–Ω–æ–π –≥–æ—Ä–æ–π —Å –ø–æ–ª—É–∫—Ä—É–≥–ª–æ–π –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–æ–π. –û—Ç—Ç—É–¥–∞ –∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞–º–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –∏–∑ –ø—É—à–µ–∫ —É–¥–∞—Ä–∏–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ø–æ–ª—è–Ω—ã. –í—Å–µ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –ø–µ—â–µ—Ä–∞–º. –û—Ç—Ä—è–¥—É –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≥–¥–µ. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ —É —Å–∫–∞–ª. –¢–∞–∫ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–µ–µ.
–ü–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç –∏ –Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ –∑–∞–≤–∏—Å –Ω–∞–¥ –≤–æ–¥–æ–ø–∞–¥–Ω–æ–π —Å–∫–∞–ª–æ–π. –ö–∞–∫ —è –∑–∞–≤–∏–¥–æ–≤–∞–ª –ø–∏–ª–æ—Ç–∞–º, —ç—Ç–∏–º —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–º –ª—é–¥—è–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–µ–π—á–∞—Å –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç—è—Ç –Ω–∞ –±–∞–∑—É, –Ω–∞–ø–∏—à—É—Ç –ø–∏—Å—å–º–æ —Ä–æ–¥–Ω—ã–º, –ø–æ—à—É—Ç—è—Ç —Å –¥—Ä—É–∑—å—è–º–∏…
–ù–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ –Ω–µ –¥—É–º–∞–ª –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç—å –æ–≥–æ–Ω—å –ø–æ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç—É. –ë–æ—è–ª–∏—Å—å –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏—Ç—å —Å–µ–±—è. –í–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–µ –¥–Ω—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —É—â–µ–ª—å–µ –æ–ø—è—Ç—å –∞—Ç–∞–∫–æ–≤–∞–ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã, –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –æ—Ç–≤—ë–ª –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≤ –ø–µ—â–µ—Ä—É. –ö–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –≥—Ä–æ—Ç, –≤—ã–º—ã—Ç—ã–π –≤–æ–¥–æ–π –≤ —Å–∫–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø–æ—Ä–æ–¥–µ. –ü–æ–∑–∂–µ –ª—é–¥—å–º–∏ –±—ã–ª–∞ –≤–æ–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∞ –∏–∑ –∫–∞–º–Ω–µ–π. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–∞—Å—å –ø–µ—â–µ—Ä–∞. –í–Ω—É—Ç—Ä–∏ –±—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –ø–µ—â–µ—Ä–∞ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å—à–∏—Ä—è–ª–∞—Å—å –∏ –±–ª–∞–≥–æ—É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å. –í—ã—Å–æ—Ç–∞ —Å–≤–æ–¥–æ–≤ — –æ–∫–æ–ª–æ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ñ–∏–ª–∞—è –ø–ª–æ—â–∞–¥—å — –±–æ–ª—å—à–µ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç–Ω—ã—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ — –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–µ –æ–∑–µ—Ä–æ, –¥–∏–∞–º–µ—Ç—Ä–æ–º –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í—Å—é –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—É—é –ø–ª–æ—â–∞–¥—å –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –Ω–∞—Ä—ã. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –≤–æ—à–ª–∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä—å, —Ç–∞–º –±—ã–ª–æ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Å—Ç–∞ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ö—Ç–æ —Å–∏–¥–µ–ª, –∫—Ç–æ –ª–µ–∂–∞–ª. –ù–æ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –Ω–µ –º–Ω–æ–≥–∏–µ. –í –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º — —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã–µ.
–î–∂–æ—Ö–∞—Ä –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª –Ω–∞—Å –ø—Ä—è–º–æ —É –≤—Ö–æ–¥–∞, –Ω–∞ –∫–∞–º–Ω—è—Ö. –ó–∞—Ç–æ –±–ª–∏–∑–∫–æ –æ—Ç –ø–µ—á–∫–∏, –∫—Ä–∏–≤–∞—è –∂–µ—Å—Ç—è–Ω–∞—è —Ç—Ä—É–±–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –Ω–∞—Ä—É–∂—É. –ö–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ —Ç–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä–µ—á–∫–∏, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –æ—Ç –≤—Ö–æ–¥–∞ –≤ –ø–µ—â–µ—Ä—É –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞, –∫–∞–º–Ω–∏ –≤–Ω–µ—à–Ω–µ–π —Å—Ç–µ–Ω—ã –∑–∞–∫–∞—á–∞–ª–∏—Å—å, –Ω–æ –Ω–µ —É–ø–∞–ª–∏.
–û–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞ –º—ã –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ –ø–µ—â–µ—Ä–µ. –ü–æ—Ç–æ–º —Ç—É–¥–∞ –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º, –≤—ã—Ç–æ–ª–∫–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å –Ω–∞—Ä—É–∂—É –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –Ω–∞—à–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö.
–ö –≤–µ—á–µ—Ä—É –æ—Ç—Ä—è–¥ —Å—Ç–∞–ª —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –∏–¥—Ç–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –æ–ø–∞—Å–Ω–æ. –î—Ä—É–≥–∏–µ –æ—Ç—Ä—è–¥—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫ –æ—Ç—Å–∏–∂–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –∑–¥–µ—Å—å. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –¥–æ–ª–≥–æ –∏—Å–∫–∞–ª –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–Ω–∏–∫–∞. –ù–µ –Ω–∞—à–µ–ª. –£–∂ –±—ã–ª–æ, —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è –µ—â—ë –Ω–∞ –Ω–æ—á—å, –Ω–æ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –º–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∂–∏—Ç–µ–ª—å –∏ –≤–∑—è–ª—Å—è –ø—Ä–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –æ—Ç—Ä—è–¥ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª.
–ï–¥–≤–∞ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∏, –º—ã –≤—ã—à–ª–∏ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é –≤–¥–æ–ª—å —Ä—É—á—å—è –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä. –í —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ø–æ–ª—É–∫—Ä—É–≥–ª–æ–π –≥–æ—Ä—ã. –£ –µ—ë –ø–æ–¥–Ω–æ–∂–∏—è —Ä–∞—Å—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ–º–∏–∫–∏ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ –∞—É–ª–∞. –û—Ç—Ä—è–¥ –æ–±–æ—à—ë–ª –∏—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –≤ –≥–æ—Ä—É –ø–æ –Ω–µ–∫–æ–µ–º—É –ø–æ–¥–æ–±–∏—é –¥–æ—Ä–æ–≥–∏.
— –ù–∞–¥–æ –∏–¥—Ç–∏ —Ç–∏—Ö–æ, — –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–¥–∏–ª –º–µ–Ω—è –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –ï—Å–ª–∏ –Ω–∞—Å –∑–∞–º–µ—Ç—è—Ç –≤–æ–Ω —Å —Ç–æ–π –≥–æ—Ä—ã, — –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –≥–æ—Ä—É –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥–µ, –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–µ –æ—Ç –Ω–∞—Å, — —Ç–æ –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—é—Ç.
–Ø –±—ã–ª –ø–æ—Ä–∞–∂—ë–Ω! –î–∞ –∫–∞–∫ –∂–µ –Ω–∞—Å –º–æ–≥—É—Ç –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å? –ú—ã –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–µ–º—Å—è –ø–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –≥–æ–ª–æ–π –≥–æ—Ä–µ, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –±–µ–∑ —Å–Ω–µ–≥–∞, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –Ω–∞—Å –Ω–µ —Ç–∞–∫ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ. –ù–æ –µ—Å–ª–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ, —Ç–æ –∏ —Å–ª–µ–ø–æ–π —É–≤–∏–¥–∏—Ç.
–ü–æ–¥—ä—ë–º –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å —Ç—è–∂—ë–ª—ã–º. –í –∫—Ä—É—Ç—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö —è –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è —Å–∞–º, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª –°–≤–µ—Ç—É. –û–Ω–∞ —Ç—è–∂–µ–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–∏–ª–∞ —ç—Ç–æ—Ç –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥. –í –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞ –Ω–µ –º–Ω–æ–≥–∏–µ —Å–ø–æ—Å–æ–±–Ω—ã –Ω–∞ –ø–æ–¥–æ–±–Ω–æ–µ. –ü–æ–¥–Ω—è–≤—à–∏—Å—å –≤–≤–µ—Ä—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç, –º—ã –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∏ –æ–¥–∏–Ω–æ–∫—É—é —Ñ–µ—Ä–º—É, –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω—É—é –ª–µ—Ç –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞–∑–∞–¥. –≠—Ç–æ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —Ñ–æ—Ä—Ç —Å –±–∞—à–Ω—è–º–∏, –±–æ–π–Ω–∏—Ü–∞–º–∏ –∏ –¥–æ–±—Ä–æ—Ç–Ω—ã–º –¥–æ–º–æ–º. –ù–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∏–π –∑–∞–º–æ–∫ –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã. –ï–¥–≤–∞ –º—ã –µ–≥–æ –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∏, –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ –≤–¥–æ–ª—å —Å–∫–ª–æ–Ω–∞ –≤–µ–ª–∞ –∫ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª—É. –ù–∞–º –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ —Ç—É–¥–∞, –Ω–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–∞–º–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª —Å –≥–æ—Ä—ã –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤. –ü–æ –ø—Ä—è–º–æ–π –¥–æ —ç—Ç–∏—Ö –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç–æ–≤ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞. –ï–¥–≤–∞ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –ø–æ–ª–µ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç—á–∏–∫–∞, —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–∏—Å—å –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã. –í—Å–µ –∑–∞–ª–µ–≥–ª–∏, —Ö–æ—Ç—è —É–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –ø–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á—ë—Ç—É –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≥–¥–µ. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä —Ä–µ—à–∏–ª –∂–¥–∞—Ç—å. –û–Ω –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω–∞ –≤ —Ç–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π –∑–∞–º–æ–∫ –∑–∞ –º—è—Å–æ–º –∏–ª–∏ —Å–∞–ª–æ–º. –ß—Ç–æ –¥–∞–¥—É—Ç.
–î–æ—Ä–æ–≥–∞, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ—Ç—Ä—è–¥ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É, –±—ã–ª–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤–∏–¥–Ω–∞ –æ—Ç—Å—é–¥–∞. –¢–∞–º, –≥–¥–µ –º—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥, —Å–µ–π—á–∞—Å –±—ã–ª–∏ –µ—â—ë –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ –∏ –ª–æ—à–∞–¥—å. –ü–æ –Ω–∏–º –¥–≤–∞–∂–¥—ã –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª–∏ –∏–∑ –º–∏–Ω–æ–º—ë—Ç–∞. –ì—Ä—É–ø–ø–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –≤–Ω–∏–∑.
–•—É—Å–µ–π–Ω—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è —Å —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞–º–∏. –û—Ç—Ä—è–¥ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∫ –∑–∞–º–∫—É. –•–æ–∑—è–µ–≤–∞ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª–∏ –æ—Ç—Ä—è–¥—É –ø–µ—Ä–µ—Å–∏–¥–µ—Ç—å —É –Ω–∏—Ö —Å–∞—Ä–∞–µ. –ù–æ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏ —Å –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–π —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –≤–æ–π—Å–∫.
–ö–æ–º–∞–Ω–¥–∏—Ä–æ–≤ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –ø—Ä–∏–≥–ª–∞—Å–∏–ª –≤ –¥–æ–º. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä, –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –∏ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –≤–æ—à–ª–∏ –≤ —Ç–µ–ø–ª–æ. –•—É—Å–µ–π–Ω –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—á—ë–ª –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏. –Ø –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ —Å–∞—Ä–∞–π –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º. –û–Ω –±—ã–ª —É–∂–µ –±–∏—Ç–∫–æ–º –Ω–∞–±–∏—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏. –°–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫. –ú–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥—ã —Ä–∞—Å—Å–µ–ª–∏—Å—å –ø–æ –Ω–∞—Å–µ—Å—Ç–∞–º. –Ø —Å–ø–æ—Ç–∫–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥–æ–º –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ, –∫—É–ª–∞–∫–æ–º –≤ –º–æ—Ä–¥—É –∏ –ø–∏–Ω–∫–∞ –ø–æ–¥ –∑–∞–¥. –•—É—Å–µ–π–Ω –ø–æ—Ç—è–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ —Ä—É–∫–∞–≤ –∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø–æ–∑–∞–¥–∏ —Å–µ–±—è.
¬Ý
–ü—É—Ç—å –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω—É. –°–º–µ—Ä—Ç—å –•—É—Å–µ–π–Ω–∞
¬Ý
17 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞. –°–∞—Ä–∞–π –ø—Ä–æ–¥—É–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞—Å–∫–≤–æ–∑—å. –ù–æ —É –º–µ–Ω—è –∫ —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –≤—Å—è –æ–¥–µ–∂–¥–∞ –≤—ã—Å–æ—Ö–ª–∞. –ù–µ –±—ã–ª–æ –∏ –Ω–∞–º—ë–∫–∞ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç—É–¥—É. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —É–∫—Ä—ã–ª–∏—Å—å –æ–¥–µ—è–ª–∞–º–∏ –æ—Ç –≤–µ—Ç—Ä–∞. –£ –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –æ–¥–µ—è–ª –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ö—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —É–º—É–¥—Ä–∏–ª—Å—è —É—Å–Ω—É—Ç—å. –ò–∑ —É–≥–ª–æ–≤ –∫—É—Ä—è—Ç–Ω–∏–∫–∞ –¥–æ–Ω–æ—Å–∏–ª—Å—è —Ö—Ä–∞–ø. –Ø —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ –æ–∫–æ—à–∫–æ. –ö–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –∏–∑—É–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è. –ü–æ–¥ —á—ë—Ä–Ω—ã–º –∑–≤—ë–∑–¥–Ω—ã–º –Ω–µ–±–æ–º –ª–µ–∂–∞–ª –ì–ª–∞–≤–Ω—ã–π –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –í–æ–ª–Ω—É—é—â–µ–µ—Å—è –º–æ—Ä–µ —Å–Ω–µ–∂–Ω—ã—Ö –≤–µ—Ä—à–∏–Ω –Ω–µ –∫–æ–Ω—á–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞. –ù–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞—Ö –≥–æ—Ä —Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å, —Ç–æ —Ç–∞–º –≤—Å–ø—ã—Ö–∏–≤–∞–ª–∏ —Ç—É—Å–∫–ª—ã–µ –∑–≤—ë–∑–¥–æ—á–∫–∏ –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –≤ –Ω–µ–±–µ –Ω–∞–¥ –≥–æ—Ä–∞–º–∏ –ø–æ–±–ª—ë—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç—ã. –û—Ç—Å—é–¥–∞ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –º—ã –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —Å–≤–æ–π –ø—É—Ç—å. –û–Ω–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ –ø–æ–±–ª—ë—Å–∫–∏–≤–∞–ª–æ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–º–∏. –ò –≤—Å—ë –∂–µ, –∑–≤—ë–∑–¥—ã –Ω–∞–¥ –≥–æ—Ä–∞–º–∏ –±—ã–ª–∏ –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ —è—Ä—á–µ.
–ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –Ω–∞–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∫—Ç–æ-—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–∞–ª –æ–¥–µ—è–ª–æ. –ó–∞–¥—É–º–∞–≤—à–∏—Å—å, —è –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –∫ –º–æ–∏–º –Ω–æ–≥–∞–º –ø—Ä–∏–∂–∞–ª–∞—Å—å —Å–∫—Ä—é—á–µ–Ω–Ω–∞—è —Å–ø–∏–Ω–∞ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –û–Ω —Å–∏–¥–µ–ª —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫–æ–π –Ω–∏–∂–µ –∏ –≤–µ—Å—å –¥—Ä–æ–∂–∞–ª.
— –ß—Ç–æ —Å —Ç–æ–±–æ–π, –•—É—Å–µ–π–Ω, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
— –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, —è –∑–∞–±–æ–ª–µ–≤–∞—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –û—á–µ–Ω—å —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ.
–°–≤–µ—Ç–∞ –ø–æ—â—É–ø–∞–ª–∞ —É –Ω–µ–≥–æ –ª–æ–± –∏ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞:
— –í—ã—Å–æ–∫–∞—è —Ç–µ–º–ø–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞.
–ú—ã —Å –Ω–µ—é —Å–µ–ª–∏ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã, —É–∫—Ä—ã–≤—à–∏—Å—å –æ–¥–Ω–∏–º –æ–¥–µ—è–ª–æ–º, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç—å –∏ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –¢–æ—Ç –≤ –ø–æ–ª—É–¥—Ä—ë–º–µ –∫–∏–≤–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π, –∏ –≤—Å—ë —Ç–µ—Å–Ω–µ–µ –ø—Ä–∏–∂–∏–º–∞–ª—Å—è –∫ –Ω–∞–º. –ê –º—ã —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç—å –µ–≥–æ.
–î–∂–æ—Ö–∞—Ä –ø–æ–¥–Ω—è–ª –æ—Ç—Ä—è–¥ –∑–∞ —á–∞—Å –¥–æ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–∞.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä, — –±—É–¥—å –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ–π. –ï—Å–ª–∏ –∑–∞–≤—è–∂–µ—Ç—Å—è –±–æ–π, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–π –º–Ω–µ —Ä—é–∫–∑–∞–∫ –∏ –ø—Ä—è—á—å—Å—è.
— –ì–¥–µ –∂–µ –º–Ω–µ –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ —è.
— –ì–¥–µ —Å–º–æ–∂–µ—à—å…
–Ø –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –º—ã –ø–æ–π–¥–µ–º –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –ø–æ —Ç–æ–π —Å–∞–º–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –≥–¥–µ –±—ã–ª–∏ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª—è–Ω—ã.
–ù–µ –∏–∑–¥–∞–≤–∞—è –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –ª–∏—à–Ω–µ–≥–æ –∑–≤—É–∫–∞, –æ—Ç—Ä—è–¥ –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è –≤–¥–æ–ª—å –≥–æ—Ä—ã. –ù–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –õ—É–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–∞ –≥–æ—Ä–æ–π –∏ –Ω–µ –æ—Å–≤–µ—â–∞–ª–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –ì–æ—Ä–∞ –∂–µ –Ω–∞–ø—Ä–æ—Ç–∏–≤, –Ω–∞–æ–±–æ—Ä–æ—Ç –±—ã–ª–∞ —è—Ä–∫–æ –æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–∞ –µ—é.
–í—Å—ë –æ–±–æ—à–ª–æ—Å—å. –ú—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∫ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª—É —Å –≤–æ—Å—Ö–æ–¥–æ–º —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –Ø —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤–ø–µ—Ä—ë–¥ –∏ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ –∂–µ —Ç–∞–∫–æ–µ —è –≤–∏–∂—É. –û–≥—Ä–æ–º–Ω–∞—è –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∞—è —Å–∫–∞–ª–∞, —Ä–∏—Å—É–Ω–æ–∫ –≥–æ—Ä. –Ø —É–∂–µ –≤–∏–¥–µ–ª –≤—Å—ë —ç—Ç–æ. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –≤–∏–¥–µ–ª! –ù–æ –≥–¥–µ? –ö–æ–≥–¥–∞? –Ø –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ –±—ã–ª. –ò –≤—Å—ë –∂–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª. –õ–µ—Ä–º–æ–Ω—Ç–æ–≤. –≠—Ç–æ—Ç –µ–≥–æ —Ä–∏—Å—É–Ω–æ–∫ –±—ã–ª –≤ —É—á–µ–±–Ω–∏–∫–µ –ª–∏—Ç–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä—ã. –¢–æ—á–Ω–æ. –≠—Ç–æ —Ç–æ—Ç —Å–∞–º—ã–π –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª.
–û–Ω –±—ã–ª –≤–µ—Å—å –≤ —Å–Ω–µ–≥—É. –í –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–º —Å–Ω–µ–≥—É. –ú—ã –ø—Ä–æ–≤–∞–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ –≥—Ä—É–¥—å, –Ω–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–¥—Ç–∏. –û–¥–Ω–∞ –∏–∑ –ª–æ—à–∞–¥–µ–π —Å–ª–æ–º–∞–ª–∞ –Ω–æ–≥—É. –ì—Ä—É–∑ —Å –µ—ë —Å–ø–∏–Ω—ã —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª–∏ –º–µ–∂–¥—É –≤—Å–µ–º–∏, –∫—Ç–æ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –º–∏–º–æ. –ú–Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø–∞–∫–µ—Ç–æ–≤ —Å –º–∞–∫–∞—Ä–æ–Ω–∞–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —è —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º –∑–∞–ø–∏—Ö–Ω—É–ª –≤ —Ä—é–∫–∑–∞–∫. –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –æ—Å–º–µ–ª–∏–ª—Å—è –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏—Ç—å –ª–æ—à–∞–¥—å. –Ø –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª –µ—ë –≥–ª–∞–∑–∞. –ü–æ–∫–∞ –µ—â—ë –Ω–µ –æ–±—Ä–µ—á—ë–Ω–Ω—ã–µ, –∞ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –Ω–µ–¥–æ—É–º—ë–Ω–Ω—ã–µ.
–°–ø—É—Å–∫ —Å –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –ø–æ —Ç–∞–∫–æ–º—É –∂–µ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–º—É —Å–Ω–µ–≥—É. –ò —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –æ—Ç—Ä—è–¥ –±—ã–ª –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª—è–Ω. –ù–æ –≤–∏–¥–∏–º–æ, —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏ –Ω–µ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –æ–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –¥–µ–∂—É—Ä–Ω—ã–π –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª. –ü–æ—Å–ª–µ –ø—è—Ç–∏-—à–µ—Å—Ç–∏ –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤ –≤—Å—ë –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–æ—Å—å.
–ß–∞—Å–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –∏–∑–Ω—É—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ —Å–ø—É—Å–∫–∞ —Å–Ω–µ–≥ —Å—Ç–∞–ª –∫–æ–Ω—á–∞—Ç—å—Å—è –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è —Å–æ–≤—Å–µ–º. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ —É—â–µ–ª—å–µ —Ä–µ–∫–∏, —Å–Ω–µ–≥—É —Ç–∞–º –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –¢–∞–∫, –º–µ–∂–¥—É –∫–∞–º–Ω—è–º–∏ –µ—â—ë –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è –ª–µ–¥–æ–∫, –Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ —Ç–µ–ø–ª–µ–µ. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –æ—Ç—Ä—è–¥ —à—ë–ª –≤ –æ–±–ª–∞–∫–∞—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –Ω–∞–≥–Ω–∞–ª–æ –≤ —É—â–µ–ª—å–µ, –Ω–æ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –ø—Ä–æ–ø–∞–ª–æ.
–Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –Ω–µ–Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—é—Ç –ø—É—Ç—å. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, —ç—Ç–æ —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö, –Ω–µ–≤–µ—Å—Ç—å –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –≤–∑—è–≤—à–∏–π—Å—è, –ø–æ–∏–ª –≤—Å–µ—Ö –∏–∑ —Å–≤–æ–µ–π –∫—Ä—É–∂–∫–∏ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤–æ–π –≤–æ–¥–æ–π. –Ø –≤—ã–ø–∏–ª –¥–≤–µ –∫—Ä—É–∂–∫–∏.
–ü–æ–∫–∞ –º—ã —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å —Å –ø–æ–∫–ª–∞–∂–µ–π –ª–æ—à–∞–¥–∏, —è –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤ —Ö–≤–æ—Å—Ç–µ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞. –ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –≤–∞–ª—É–Ω–æ–≤ —Å—Ç–æ—è–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä —Å–æ —Å–Ω–∞–π–ø–µ—Ä—Å–∫–æ–π –≤–∏–Ω—Ç–æ–≤–∫–æ–π.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –ø–æ—á–µ–º—É —Ç—ã –∑–¥–µ—Å—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω —Å—É—Ä–æ–≤–æ. — –ì–¥–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞?
— –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –ú—ã —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∂–∞–ª–∏ –ª–æ—à–∞–¥—å, –º–Ω–µ –≤–µ–ª–µ–ª–∏ –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å, –∏ —è –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–ª—Å—è –µ—â—ë —Ç–∞–º, –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö—É.
— –ò–¥–∏ –∏ –ø–æ–º–æ–≥–∞–π –µ–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä. — –ï—Å–ª–∏ –≤—ã –Ω–µ —Å–º–æ–∂–µ—Ç–µ –∏–¥—Ç–∏, —è –≤–∞—Å —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—é.
–Ø —Å—Ç–∞–ª –¥–æ–≥–æ–Ω—è—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –ê –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–æ–≥–Ω–∞–ª, —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω—É—é –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—É. –°–≤–µ—Ç—É –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ —Ç–æ–ª–∫–∞–ª —Å–∑–∞–¥–∏ –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –ø–∞—Ä–Ω–∏—à–∫–∞-–±–æ–µ–≤–∏–∫. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –µ–≥–æ –∑–≤–∞–ª–∏ –°–∞–ª–º–∞–Ω–æ–º. –°–≤–µ—Ç–∞ –±—ã–ª–∞ —Ç–∞–∫ –∏–∑–º—É—á–µ–Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∞ –∏–¥—Ç–∏. –Ø –∑–∞–±—Ä–∞–ª —É –Ω–µ—ë —Ä—é–∫–∑–∞–∫ –∏ –ø–æ—à—ë–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å —Ç—è–Ω—É—Ç—å –µ—ë –∑–∞ —Å–æ–±–æ–π –∏ —É–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è.
— –°–≤–µ—Ç–∞, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —è, — —Å–∫–æ—Ä–æ —É–∂–µ –ø—Ä–∏–≤–∞–ª. –ù–∞–¥–æ –∏–¥—Ç–∏.
— –Ø –Ω–µ –º–æ–≥—É, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –ú–µ–Ω—è –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—é—Ç. –Ø —Å–ª—ã—à–∞–ª–∞ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ —Å –ò–ª—å–º–∞–Ω–æ–º. –û–Ω —Ç—Ä–µ–±—É–µ—Ç, —á—Ç–æ–±—ã –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –º–µ–Ω—è —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –∏–ª–∏ –±—Ä–æ—Å–∏–ª. –°–ø–∞—Å–∏–±–æ –°–∞–ª–º–∞–Ω—É — –æ–Ω —Å–ø–∞—Å –º–µ–Ω—è.
— –û–Ω–∞ —É–ø–∞–ª–∞ –∏ –Ω–µ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –°–∞–ª–º–∞–Ω. — –ï—ë –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–æ–≥–ª–∏ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å, –∫–∞–∫ —Ç—É –ª–æ—à–∞–¥—å –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–µ. –í—Å–µ –Ω–∞ –≤–∑–≤–æ–¥–µ — —à—É—Ç–æ–∫ –Ω–µ –ø–æ–π–º—É—Ç.
— –õ–æ—à–∞–¥—å –Ω–µ —Ç—Ä–æ–Ω—É–ª–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –Ø –Ω–µ —à—É—á—É, — —Ç–∏—Ö–æ —à–µ–ø—Ç–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –Ø –Ω–µ –º–æ–≥—É –∏–¥—Ç–∏. –Ø —É–º–∏—Ä–∞—é.
— –í–æ—Ç –ø–æ–∫–∞ —É–º–∏—Ä–∞–µ—à—å, — –±–æ–¥—Ä–æ –ø–æ–¥–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª –µ—ë –°–∞–ª–º–∞–Ω, — –º—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å —Ç–æ–±–æ–π –ø—Ä–æ–π–¥—ë–º?!
–ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–Ω –ø–æ–¥—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–ª –°–≤–µ—Ç—É –≤ —Å–ø–∏–Ω—É, –∞ —è —Ç–∞—â–∏–ª –∑–∞ —Ä—É–∫—É. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ –æ–±–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞—Å. –ú–∏–º–æ –ø—Ä–æ—à—ë–ª –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π. –û–Ω —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º –≥—Ä–æ–º–∞–¥–Ω—ã–º —Ä—é–∫–∑–∞–∫–æ–º –±—ã–ª –µ—â—ë –≤ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–π —Ñ–∏–∑–∏—á–µ—Å–∫–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–µ. –ó–∞ –Ω–∏–º —Å–ª–µ–¥–æ–º —à–ª–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä.
— –¢—ã —Å–¥–æ—Ö–Ω–µ—à—å, —Å—É—á–∫–∞, — –±—Ä–æ—Å–∏–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –±—Ä–æ—Å—å –µ—ë, —Å–∞–º –µ–¥–≤–∞ –∂–∏–≤–æ–π, — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä.
— –ù–µ –º–æ–≥—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –£ –º–µ–Ω—è –ø—Ä–∏–∫–∞–∑ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞. «–¢–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –æ—Ç–≤—è–∑–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç —ç—Ç–æ–π –≥–Ω–∏–ª–∏», — –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è. –í –∞–¥—Ä–µ—Å –°–∞–ª–º–∞–Ω–∞ —ç—Ç–∏ —Å–≤–æ–ª–æ—á–∏ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –∫–∞–∫—É—é-—Ç–æ —Å–∞–ª—å–Ω—É—é —à—É—Ç–∫—É –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏ –∏ –∑–∞—Ä–∂–∞–ª–∏. –¢–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É–Ω—ã–ª–æ —É–ª—ã–±–Ω—É–ª—Å—è.
— –ö–∞–∫ –∂–µ –º–æ–∂–Ω–æ –±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—É? — —Ç–∏—Ö–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –û–Ω–∞ –º–Ω–µ –≤ –º–∞—Ç–µ—Ä–∏ –≥–æ–¥–∏—Ç—Å—è.
–ò –º—ã –ø–æ—à–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —è –æ–±–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞–∑–∞–¥ –∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª, –Ω–µ –æ–±–æ–≥–Ω–∞–ª–∏ –ª–∏ –Ω–∞—Å —É–∂–µ –≤—Å–µ. –ù–µ—Ç. –ú—ã –≤—Å—ë –∂–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞.
–ü–æ—Å–ª–µ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–≥–æ –ø—Ä–∏–≤–∞–ª–∞ –ø–æ—à–ª–∏ —Ä–æ–≤–Ω–µ–µ, –Ω–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ –ø–æ–ª—É—á–∞—Å–∞, –°–∞–ª–º–∞–Ω—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤–∑–≤–∞–ª–∏—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É —Å–µ–±–µ –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É. –ú—ã —Å–Ω–æ–≤–∞ —à–ª–∏ –≤ –≥—Ä—É–ø–ø–µ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞. –£—â–µ–ª—å–µ —Å—É–∑–∏–ª–æ—Å—å. –ü–æ –±—Ä–µ–≤–Ω—É –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–π—Ç–∏ –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Ä–µ—á–∫–∏. –í —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ —Å–∫–∞–ª—ã –æ–±–∂–∏–º–∞–ª–∏ –µ—ë. –ë—Ä–µ–≤–Ω–æ –ª–µ–∂–∞–ª–æ –Ω–∞ –∫–∞–º–Ω—è—Ö –≤ –≤–æ—Å—å–º–∏-–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –Ω–∞–¥ —Ä–µ–≤—É—â–∏–º –ø–æ—Ç–æ–∫–æ–º. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞ —Å–∫–∞–ª–∞–º–∏ –±—ã–ª –≤–æ–¥–æ–ø–∞–¥, —Ç–æ–∂–µ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤ –¥–µ—Å—è—Ç—å –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π. –°–∞–ª–º–∞–Ω –ø–µ—Ä–µ—à—ë–ª –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∏ –≤–µ–ª–µ–ª –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∏–¥—Ç–∏. –û–Ω–∞ –Ω–µ —Ä–µ—à–∞–ª–∞—Å—å. –î–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –∑–∞—Å—Ç–æ–ø–æ—Ä–∏–ª–æ—Å—å. –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –ø–æ–¥—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–ª –µ—ë.
— –°–≤–µ—Ç–∞, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–ª—É—á–∏—Ç—Å—è, — —É–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª –æ–Ω –µ—ë. — –ù–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–∏ –≤–Ω–∏–∑. –°–º–æ—Ç—Ä–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ –∏ –°–∞–ª–º–∞–Ω–∞. –í—Å—ë –±—É–¥–µ—Ç –≤ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ.
–¢–∞–∫, –¥–µ—Ä–∂–∞ –∑–∞ —Ä—É–∫—É, –æ–Ω –≤—ã—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ –∏ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –Ω–µ—é. –î–ª—è —Ç–æ–≥–æ —á—Ç–æ–±—ã —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç—å —Ä–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Å–∏–µ, –æ–Ω –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª –µ—ë —Ä—É–∫—É. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —à–∞–≥–Ω—É–ª–∞ –¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞, –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª–∞—Å—å –∏ —Ä—É—Ö–Ω—É–ª–∞ –≤–Ω–∏–∑. –ö–∞–∫–∏–º-—Ç–æ —á—É–¥–æ–º –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –∑–∞—Ü–µ–ø–∏–ª –µ—ë –∑–∞ —Ä—É–∫–∞–≤ –∏ —Å–∞–º —Å–≤–∞–ª–∏–ª—Å—è, –Ω–æ –ø–æ –¥—Ä—É–≥—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –±—Ä–µ–≤–Ω–∞. –ü–æ—Ç–æ–º —Å–º–æ–≥ –ª–µ—á—å –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ –∂–∏–≤–æ—Ç–æ–º –∏ –ø–æ–¥—Ç–∞—â–∏–ª –°–≤–µ—Ç—É, –≤–∏—Å–µ–≤—à—É—é —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞ —Ä—É–∫–µ –Ω–∞–¥ —Å—Ç—Ä–µ–º–Ω–∏–Ω–æ–π, –∫ —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ —Å–∫–∞–ª—ã –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ. –£–∂–µ —Ç–∞–º –µ—ë –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª–∏ –°–∞–ª–º–∞–Ω, –•—É—Å–µ–π–Ω –∏ —è. –ö–∞–∫ —è –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ, –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –ø–µ—Ä–µ—à–∞–≥–Ω—É–ª —á–µ—Ä–µ–∑ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞. –≠—Ç–æ—Ç —Å–ª—É—á–∞–π –≤—Å—Ç—Ä—è—Ö–Ω—É–ª –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –û–Ω–∞ –ø–æ—à–ª–∞ —Ä–æ–≤–Ω–µ–µ. –ß–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –º—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ø–æ–ª—è–Ω–µ. –ö—É–¥–∞ –∏–¥—Ç–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ, –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª.
–°—ã—Ä–æ—Å—Ç—å. –°–∫–ª–æ–Ω. –î—Ä–æ–≤–∞. –ë—É–¥—å –æ–Ω–∏ –ø—Ä–æ–∫–ª—è—Ç—ã, —ç—Ç–∏ –¥—Ä–æ–≤–∞! –ü–µ—Ä–≤–∞—è –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è –æ—Ö–∞–ø–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —è –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å, –±—ã–ª–∞ –∑–∞–±—Ä–∞–∫–æ–≤–∞–Ω–∞. –ò–∑ —Ç–∞–∫–∏—Ö –¥—Ä–æ–≤ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –Ω–µ –∑–∞–ø–∞–ª–∏—à—å. –≠—Ç–æ —è –∏ —Å–∞–º –∑–Ω–∞–ª, –Ω–æ –≥–¥–µ –∏—Ö –≤–∑—è—Ç—å, —Å—É—Ö–∏—Ö? –ü–æ—à—ë–ª –∏—Å–∫–∞—Ç—å.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏, —á—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å! — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –º–Ω–µ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –í–æ—Ç –≤–∏–¥–∏—à—å, –∫–∞–∫–∏–µ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –ú—É—Å–ª–∏–º? –ò —Ç—ã —Ç–∞–∫–∏–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–π.
–Ø –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –≥–¥–µ –ú—É—Å–ª–∏–º –º–æ–≥ –Ω–∞–±—Ä–∞—Ç—å —Ç–∞–∫–∏—Ö –¥—Ä–æ–≤? –°–∞–º –æ–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è –∏ –º–æ–ª—á–∞–ª. –°–¥–µ–ª–∞–ª –≤–∏–¥, —á—Ç–æ –∏—â—É –¥—Ä–æ–≤–∞, –∞ —Å–∞–º –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –ú—É—Å–ª–∏–º–æ–º. –¢–æ—Ç –Ω–∞–ø—Ä—è–º—É—é –ø–æ—à—ë–ª –∫ –∫—É—Å—Ç—É –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞, –ø–æ–ª–µ–∑ –∫ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—é –∫—É—Å—Ç–∞ –∏ –≤—ã–ª–æ–º–∞–ª –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω—É—é —Å—É—Ö—É—é –ø–∞–ª–∫—É. –Ø —Å–ª—ã—à–∞–ª —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π —Å—É—Ö–æ–π —Ç—Ä–µ—Å–∫. –ñ–∏–≤–∞—è –¥—Ä–µ–≤–µ—Å–∏–Ω–∞ —Ç–∞–∫ –Ω–µ –ª–æ–º–∞–µ—Ç—Å—è.
–Ø –ø–æ–∏—Å–∫–∞–ª –∫—É—Å—Ç –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞, –Ω–∞—à—ë–ª. –ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω–∞ —Ç–æ—Ä—á–∞—â–∏—Ö –∏–∑ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏—è —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–≤ –±—ã–ª–∏ —Å—É—Ö–∏–º–∏. –Ø –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ª–æ–º–∞—Ç—å –∏ –Ω–µ—Å—Ç–∏ –≤—Å—ë. –ù–æ—Å–∏–ª –ø–æ –¥–≤–µ-—Ç—Ä–∏ –ø–∞–ª–∫–∏. –≠—Ç–æ –¥–∞–≤–∞–ª–æ –º–Ω–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å—Å—è.
–ú—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –Ω–∞–¥ –¥–Ω–æ–º —É—â–µ–ª—å—è. –Ý–µ—á–∫–∞ –∑–¥–µ—Å—å —Ä–∞–∑–ª–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —à–∏—Ä–æ–∫–æ. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å –∫–∞–º–Ω—è –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω—å –ø–µ—Ä–µ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –Ω–µ –∑–∞–º–æ—á–∏–≤ –Ω–æ–≥.
–ö–æ—Å—Ç—ë—Ä –≥—Ä—É–ø–ø—ã –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ —Ä–∞–∑–≥–æ—Ä–∞–ª—Å—è. –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –Ω–µ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞–π—Ç–∏ —Å—É—Ö–∏—Ö –¥—Ä–æ–≤ –∏ –µ–≥–æ –∑–∞ —ç—Ç–æ –∂—É—Ç–∫–æ —á–º–æ—Ä–∏–ª–∏. –ö–∞–∂–¥–æ–π –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å—ë–Ω–Ω–æ–π —Å—ã—Ä–æ–π –ø–∞–ª–∫–æ–π –æ–Ω –ø–æ–ª—É—á–∞–ª –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –æ—Ç –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ –∏–ª–∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞. –°–∞–º –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –≤ —ç–∫–∑–µ–∫—É—Ü–∏—è—Ö –Ω–µ —É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, –Ω–æ –∏ –Ω–µ –º–µ—à–∞–ª –∏–º. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–∏–¥–µ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∫–µ –∏ –¥–µ–ª–∞–ª –≤–∏–¥, —á—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—á–∞–µ—Ç.
–û—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –í –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –º–æ–º–µ–Ω—Ç —è –Ω–∞–≥–Ω—É–ª—Å—è, –∏ –∏–∑ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–≥–æ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞ –∫—É—Ä—Ç–∫–∏ —É–ø–∞–ª–∞ –∏ –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –±–∞–Ω–æ—á–∫–∞ —à–ø—Ä–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø–∞—à—Ç–µ—Ç–∞. –Ø –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –µ—ë –¥–ª—è —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ–Ω–∏—è. –ó–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –µ—ë –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—à—ë–ª —Å –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏, –¥–æ–ª–æ–∂–∏–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä—É. –ú–Ω–µ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∏. –≠—Ç–æ —è –ø–æ–Ω—è–ª —Å—Ä–∞–∑—É, –Ω–æ —Å–µ–π—á–∞—Å, –Ω–æ—á—å—é –∏—Å–∫–∞—Ç—å –±–∞–Ω–∫—É –Ω–µ –∏–º–µ–ª–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ —Å–º—ã—Å–ª–∞. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã –≤ –æ—Ç—Ä—è–¥–µ –∫–æ–Ω—á–∞–ª–∏—Å—å. –î–∞–∂–µ —Ç–∞–∫–∞—è –º–∏–∫—Ä–æ—Å–∫–æ–ø–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –±–∞–Ω–æ—á–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ —Å—á–µ—Ç—É.
–ù–æ—á—å —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞—Ç—å –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ. –î–∞ –∏ –∫—É–¥–∞ –∏–¥—Ç–∏, –µ—Å–ª–∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç? –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ, –≤—Å–µ —Ç–∞–∫ –≤—ã–º–æ—Ç–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞ –≤—Ä–µ–º—è –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞, —á—Ç–æ —É–∂–µ —Å–ø–∞–ª–∏. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ø–æ—Å—Ç—ã –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –ª–∞–≥–µ—Ä—è. –ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å —Å–ø–∞—Ç—å, –ø—Ä–∏–∂–∞–≤—à–∏—Å—å —Å–ø–∏–Ω–∞–º–∏ –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É. –¢–∞–∫ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ç–µ–ø–ª–µ–µ, –æ–¥–Ω–∞–∫–æ, –Ω–µ –º–æ–≥—É —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —è –∑–∞—Å—ã–ø–∞–ª. –ö–æ–≥–¥–∞ —É—Ç—Ä–æ–º –æ—Ç—Ä—è–¥ –±—ã–ª –ø–æ–¥–Ω—è—Ç –ø–æ —Ç—Ä–µ–≤–æ–≥–µ, —è –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–∑ –∑–∞ –∫—É—Å—Ç –∏ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è.
–¢—Ä–µ–≤–æ–≥–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –ª–æ–∂–Ω–æ–π. –° –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –∏ –º—ã, –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª–∏: «–ù–æ—á—Ö–∏!» –ò —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤—Å–µ —Ä–∞—Å—Å–ª–∞–±–∏–ª–∏—Å—å. –≠—Ç–æ —à–ª–∏ –ø—è—Ç—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è.
–ú–µ–Ω—è —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ—Å–ª–∞–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É — –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏. –ó–∞ –≤–æ–¥–æ–π –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–¥—Ç–∏ –∫ —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫—É. –≠—Ç–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∏–∂–µ –ø–æ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—é. –î–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞ —Å–æ –º–Ω–æ–π —Ö–æ–¥–∏–ª –ú—É—Å–ª–∏–º. –ö–∞–∫ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ. –ü–æ—Ç–æ–º —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å –æ–¥–Ω–æ–≥–æ. –ú–µ—Å—Ç–æ —É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±–µ–∑–ª—é–¥–Ω—ã–º –∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å —É–±–µ–∂–∞—Ç—å. –ù–æ –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –ø–æ–≤–æ–¥—É –º–Ω–æ—é —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –≤—Å—ë —Ä–µ—à–µ–Ω–æ: –±–µ–∂–∞—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ù–æ, –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ –±—ã —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å —á—É–¥–æ, –∏ –º—ã —Å–µ–π—á–∞—Å –≤–º–µ—Å—Ç–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –±—ã —É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞, –Ω–∞–º –±—ã –Ω–µ —É–±–µ–∂–∞—Ç—å. –ì–¥–µ-—Ç–æ –≤ –ª–µ—Å—É –∑–∞—Ç–∞–∏–ª—Å—è —á–∞—Å–æ–≤–æ–π. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∞ –±—ã –¥–æ–ª–≥–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å. –ê –±–µ–∂–∞—Ç—å –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ –∏ –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ø–æ–±–µ–≥–∞ — –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –í –≥–æ—Ä—ã –±–µ–∂–∞—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è — –Ω–µ –æ—Å–∏–ª–∏—Ç—å. –ö–æ—Ä–æ—á–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, –Ω–µ –±—ã–ª–æ –¥–∞–∂–µ —Ç–µ–æ—Ä–µ—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–π –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ–±–µ–≥–∞.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π —Ä–∞–∑ –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, —Ç–æ –Ω–µ —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º –∫—É–ª–∞–∫–∞–º–∏ –∏ –ø–∏–Ω–∫–∞–º–∏ –≥–æ–Ω—è—Ç –º–Ω–µ –Ω–∞–≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –Ø —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è –¥—Ä—É–≥–æ–º—É: –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –±–µ–∂–∞—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –µ–≥–æ –ø–æ—Å–ª–∞–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –û–Ω —Å–º–æ–≥ —É–¥–∞–ª–∏—Ç—å—Å—è –æ—Ç —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Å—Ç–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª –∑–∞–º–µ—á–µ–Ω –ø–æ—Å—Ç–æ–≤—ã–º. –¢–æ—Ç –∏ —Å–æ–æ–±—â–∏–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º –≥—Ä—É–ø–ø–µ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —É—Å–ø–µ–ª –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞—Ç—å –µ—â—ë –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∏ –±—ã–ª —Å—Ö–≤–∞—á–µ–Ω. –≠—Ç–æ—Ç –ø–æ–±–µ–≥ –Ω–∞–ø—Ä—è–≥ –∏ –Ω–∞—à–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ. –ù–∞–º –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å, –±—ã–ª–æ, –Ω–∞–¥–µ—Ç—å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏, –Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –º—ã –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∏ –±—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å, –∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –Ω–µ –∫–æ–Ω—á–∞–ª–∞—Å—å.
–ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
— –ì–æ–≤–æ—Ä—è—Ç, —Ç—ã –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª —à–ø—Ä–æ—Ç—ã? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω –Ω–∞—Å–º–µ—à–ª–∏–≤–æ. — –ê –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —Å–æ–∂—Ä–∞–ª?
— –ú–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–π—Ç–∏ –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –í–æ—Ç –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —ç—Ç–∏–º –º—ã —Å–µ–π—á–∞—Å —Å —Ç–æ–±–æ–π –∏ –∑–∞–π–º–µ–º—Å—è, — –ò–ª—å–º–∞–Ω –±–ª—É–¥–ª–∏–≤–æ –∑–∞—Ä–∂–∞–ª.
–ú—ã –ø–æ—à–ª–∏ –∫ —Ç–æ–º—É –º–µ—Å—Ç—É. –û—Ç —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∏ –ø—è—Ç—å –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤–Ω–∏–∑ —Å–∫–ª–æ–Ω –±—ã–ª –≥–æ–ª—ã–π. –ò—Å–∫–∞—Ç—å —Ç–∞–º –Ω–µ—á–µ–≥–æ — –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ–∫–∏–Ω—É—Ç—å –≤–∑–≥–ª—è–¥–æ–º. –ó–∞—Ç–æ –Ω–∏–∂–µ, —Ç–∞–º, –≥–¥–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞ —Ä–∞—Å—Ç–∏ —Ç—Ä–∞–≤–∞, —Å–∫–æ–ø–∏–ª–æ—Å—å –æ—á–µ–Ω—å –º–Ω–æ–≥–æ –º—É—Å–æ—Ä–∞. –í–æ—Ç —Ç–∞–º —è –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –∏—Å–∫–∞—Ç—å –±–∞–Ω–æ—á–∫—É, –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—è —ç—Ç–æ—Ç –±—É—Ä–µ–ª–æ–º –≤–ø–µ—Ä–µ–º–µ–∂–∫—É —Å –ª–∏—Å—Ç—å—è–º–∏. –Ø –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –ø–æ—á–µ–º—É —Å–æ –º–Ω–æ—é –ø–æ—à—ë–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω? –ò —Å –∫–∞–∫–æ–π —Å—Ç–∞—Ç–∏ —Å—é–¥–∞ –∂–µ —Ö–æ–¥–∏–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä –º–∏–Ω—É—Ç –ø—è—Ç—å –Ω–∞–∑–∞–¥? –ö—Ä–∞–µ–º –≥–ª–∞–∑–∞ —è –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤–¥–æ–ª—å —Å–∫–ª–æ–Ω–∞. –í–æ–Ω –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä, —É –Ω–∞—à–µ–≥–æ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. –ù–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —á—Ç–æ –≤—Å–µ —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –Ø –≤—ã–ø—Ä—è–º–∏–ª—Å—è, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Ä–∞—Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è—è —Å–ø–∏–Ω—É –æ—Ç —É—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—Ç–∏. –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª —Å–ø–∏–Ω–æ–π –∫–æ –º–Ω–µ. –ü—Ä–∏—á—ë–º, –æ–Ω —Å—Ç–æ—è–ª –¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ. –ü–æ–ø—Ä–æ–±—É–π—Ç–µ –ø–æ—Å—Ç–æ—è—Ç—å –Ω–∞ –∫—Ä—É—Ç–æ–º —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –ª–∏—Ü–æ–º –∫ –≥–æ—Ä–µ, –∏ –≤—ã –ø–æ–π–º—ë—Ç–µ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ. –Ø –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å –∫—É—á—É –≤–∞–ª–µ–∂–Ω–∏–∫–∞ –∏ –≤–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É –§-1. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏—è. –ò–ª—å–º–∞–Ω—É —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –ø–æ–∏–≥—Ä–∞—Ç—å. –ù–∏—á–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ, –∫—Ä–æ–º–µ –º–æ—Ä–¥–æ–±–æ—è, —ç—Ç–æ –Ω–µ —Å—É–ª–∏–ª–æ.
— –ù–∞—à—ë–ª? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –ò–ª—å–º–∞–Ω.
— –ù–µ—Ç, — —è –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.
— –î–∞–≤–∞–π –∏—â–∏, –∫–∞–∫ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç! — –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –ò–ª–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —Å–∫–∞–∂–∏, —á—Ç–æ —Å–æ–∂—Ä–∞–ª –ø–∞—à—Ç–µ—Ç. –ü–æ–ª—É—á–∏—à—å –ø–æ –±–∞—à–∫–µ –∫–∞–∫ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç, –∑–∞—Ç–æ –±—É–¥–µ—à—å –∑–Ω–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –∂—Ä–∞—Ç—å –æ–±—â–∞–∫.
–Ø –æ—Ç–æ—à—ë–ª –æ—Ç –º–µ—Å—Ç–∞, –≥–¥–µ –ª–µ–∂–∞–ª–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞, –≤–ª–µ–≤–æ –Ω–∞ —Ç—Ä–∏ –º–µ—Ç—Ä–∞ –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å—Ç–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å –≤–∞–ª–µ–∂–Ω–∏–∫.
— –¢—ã —á–µ–≥–æ —Ç—É–¥–∞ —É—à—ë–ª? — –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–ª–∏–≤–æ –∑–∞–∫—Ä–∏—á–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
— –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — –æ–Ω–∞ –≤—Å—ë –∂–µ —Å—é–¥–∞ –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å.
— –ö–∞–∫ –æ–Ω–∞ —Ç–∞–º –º–æ–≥–ª–∞ –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è?! — –∞–∫—Ç–∏–≤–Ω–æ –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –¢—ã –∑–¥–µ—Å—å –µ—ë –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª? — –æ–Ω —É–∫–∞–∑–∞–ª –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ —Å—Ç–æ—è–ª —Å–∞–º.
— –î–∞, —Ç–∞–º, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª —è.
— –ù—É, —Ç–∞–∫ –∏ –∏—â–∏ –≤–æ–Ω —Ç–∞–º! — –æ–Ω —É–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ —Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –ª–µ–∂–∏—Ç –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞.
–í—Å—ë –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ. –≠—Ç–æ –ø–æ–¥—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–æ, –Ω–æ —á–µ–≥–æ –∂–¥—ë—Ç –æ—Ç –º–µ–Ω—è –ò–ª—å–º–∞–Ω? –ß—Ç–æ —è –≤—ã–¥–µ—Ä–Ω—É —á–µ–∫—É –∏ —à–≤—ã—Ä–Ω—É –≤ –Ω–µ–≥–æ? –ù–µ—Ç, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ! –ò —Ç—É—Ç —è –ø–æ–Ω—è–ª! –ï—Å–ª–∏ —è –≤–æ–∑—å–º—É –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É –≤ —Ä—É–∫–∏, –æ–Ω –º–æ–∂–µ—Ç –≤ –º–µ–Ω—è –ø–∞–ª—å–Ω—É—Ç—å –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –Ω–∞–π—Ç–∏ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É —è —É–∂–µ –Ω–µ –º–æ–≥. –ú–µ–Ω—è –º–æ–≥–ª–∏ –æ–±–≤–∏–Ω–∏—Ç—å –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —è –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ –µ—ë –Ω–∞—Ö–æ–¥–∫–µ, —á—Ç–æ–±—ã –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å –ø–æ—Ç–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–π–¥—É –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏.
— –ò–ª—å–º–∞–Ω! — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è —Ç–∞–∫ –≥—Ä–æ–º–∫–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –∏ —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. — –ó–¥–µ—Å—å –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞!
— –¢—ã —á–µ–≥–æ –æ—Ä—ë—à—å?! — –≤—Å—Ç—Ä–µ–ø–µ–Ω—É–ª—Å—è –æ–Ω. — –ü–æ–∫–∞–∂–∏!
–Ø —É–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –∏ –ø–æ–ø—è—Ç–∏–ª—Å—è.
— –ù–µ—Å–∏ —Å—é–¥–∞! — –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
— –Ø –±–æ—é—Å—å, — —Å—ã–≥—Ä–∞–ª —è.
— –ù–µ—Å–∏, —Ç–µ–±–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏!
— –Ø –Ω–µ –≤–∏–∂—É —á–µ–∫—É, — —Å–æ–≤—Ä–∞–ª —è. — –í–¥—Ä—É–≥ –æ–Ω–∞ –≤–∑–æ—Ä–≤—ë—Ç—Å—è!
–Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω –≤ –∑–∞–º–µ—à–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–µ.
— –°–≤–æ–ª–æ—á—å! –¢–∞—â–∏ –µ—ë —Å—é–¥–∞, —Ç–µ–±–µ —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ.
–Ø —Å—Ç–æ—è–ª –∏ –Ω–µ –¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è. –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø–æ—à—ë–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –Ø –æ—Ç–æ–¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É. –ù–µ –∑–Ω–∞—é, —á–µ–º –±—ã –≤—Å—ë –∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å, –Ω–µ –≤–º–µ—à–∞–π—Å—è –≤ —ç—Ç–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ê–¥–∞–º. –û–Ω —É–∂–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –Ω–∞–º –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ù–µ –±–æ–π—Å—è, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, — —Ç—ã –≤—Å—ë –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª. –ê–Ω–∑–æ—Ä! — –æ–Ω –æ–±–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É. — –ó–∞–±–∏—Ä–∞–π —Å–≤–æ—é –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É.
–ò–ª—å–º–∞–Ω –æ—Å–∫–ª–∞–±–∏–ª—Å—è, –∑–∞–º–∞—Ö–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –∏ –∑–ª–æ–±–Ω–æ –ø—Ä–æ—à–∏–ø–µ–ª:
— –Ø –ø–æ–∫–∞–∂—É —Ç–µ–±–µ, –∫–∞–∫ –Ω–µ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è—Ç—å –º–æ–∏ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—ã.
–ò–ª—å–º–∞–Ω —Å–∞–º –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–ª –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É. –£—Ö–æ–¥—è –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É, –æ–Ω –≤–æ—Ä—á–∞–ª:
— –£–º–Ω—ã–π –∫–∞–∫–æ–π! –ß–µ–∫—É –æ–Ω –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª! –í —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —Ä–∞–∑ —è –ø–æ–∫–∞–∂—É —Ç–µ–±–µ —á–µ–∫—É!
–û–Ω –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è, –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∏–∑ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–∞ —à–ø—Ä–æ—Ç–Ω—ã–π –ø–∞—à—Ç–µ—Ç –∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ.
— –ó–∞–±–µ—Ä–∏ —Å–≤–æ—é –ø—Ä–æ–ø–∞–∂—É –∏ —Å–æ–∂—Ä–∏.
–Ø –≤–∑—è–ª –±–∞–Ω–æ—á–∫—É –∏ —Å—Ç–∞–ª –∑–∞—Å–æ–≤—ã–≤–∞—Ç—å –µ—ë –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω.
— –Ø —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —Å–æ–∂—Ä–∏! — –∑–∞–æ—Ä–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
–û–Ω –≤—ã—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª —É –º–µ–Ω—è –±–∞–Ω–∫—É, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –≤—Å–∫—Ä—ã–ª —à—Ç—ã–∫-–Ω–æ–∂–æ–º –∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ.
— –ñ—Ä–∏!
— –°–≤–µ—Ç–µ –º–æ–∂–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å?
— –ñ—Ä–∏!!! — –Ω–µ–∏—Å—Ç–æ–≤–æ –∑–∞–æ—Ä–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
–Ø –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –∑–∞–ª–µ–∑ –≤ –±–∞–Ω–∫—É –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª –≤ —Ä–æ—Ç –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É. –ò–ª—å–º–∞–Ω —Ç–∞–∫ –¥–≤–∏–Ω—É–ª –º–Ω–µ –≤ –ª–æ–± –∫—É–ª–∞–∫–æ–º, —á—Ç–æ —è —É–ø–∞–ª –∏ –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É.
— –ü–∞–ª–æ—á–∫–æ–π –Ω–∞–¥–æ –∂—Ä–∞—Ç—å, –∞ –Ω–µ –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º! — —É –Ω–µ–≥–æ –∏–∑–æ —Ä—Ç–∞ –±—Ä—ã–∑–Ω—É–ª–∞ —Å–ª—é–Ω–∞.
–•–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –ê–¥–∞–º –∏ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
— –í—Å—ë, –ò–ª—å–º–∞–Ω, —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
–Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –º–Ω–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å. –°–Ω–æ–≤–∞ –∏—Å–∫–∞—Ç—å –±–∞–Ω–∫—É, –∏–ª–∏ —É–∂–µ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ?
— –ò–¥–∏ –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–¥–∞–º.
–Ø —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≤—Å—ë –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –∏ –ø–æ—à—ë–ª –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É, –Ω–æ –Ω–∏–∑–æ–º, —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è —Å –ò–ª—å–º–∞–Ω–æ–º.
–ú–∏–Ω—É—Ç—É —Å–ø—É—Å—Ç—è –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –º–∏–º–æ. –Ø –≤–µ—Å—å —Å–∂–∞–ª—Å—è, –Ω–æ –æ–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Å–º–µ—è–ª—Å—è –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ú–æ–ª–æ–¥–µ—Ü! –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–π—Å—è –∑–∞ –æ—Ä—É–∂–∏–µ!
–ò–¥–∏–æ—Ç.
–ï—â—ë —É—Ç—Ä–æ–º –•—É—Å–µ–π–Ω —Å –¥–≤—É–º—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ —É—à—ë–ª –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —É—â–µ–ª—å—é. –ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —É —Ç–µ—Ö –ª—é–¥–µ–π, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –∫ –Ω–∞–º —É—Ç—Ä–æ–º, –µ—Å—Ç—å –∫–∞—Ä—Ç–∞ —ç—Ç–∏—Ö –º–µ—Å—Ç. –ù–æ —á—Ç–æ —Å –Ω–µ—é –¥–µ–ª–∞—Ç—å, –æ–Ω–∏ –Ω–µ –∑–Ω–∞—é—Ç.
–ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –¥–æ–ª–≥–æ –∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∏ –∫–∞—Ä—Ç—É. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ–∑–≤–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è. –ö–∞—Ä—Ç–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –∫—Ä—É–ø–Ω–æ–º–∞—Å—à—Ç–∞–±–Ω–æ–π. –î–≤—É—Ö—Å–æ—Ç–º–µ—Ç—Ä–æ–≤–∫–∞. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª –æ–±—Ä—ã–≤–æ–∫ –∫–∞—Ä—Ç—ã. –Ø —Å—Ç–∞–ª –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è—Ç—å, –≥–¥–µ —Å–µ–≤–µ—Ä, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –µ—ë —Å–æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –û–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —á–∞—Å. –Ý–∞—Å—á–µ—Ä—Ç–∏–ª –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–≤–µ—Ç–∞ –∏ —Ä–∞–∑–ª–æ–∂–∏–ª –∫–∞—Ä—Ç—É. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –∫–∞–∫ –Ω–∞ —à–∞–º–∞–Ω–∞. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ —è –¥–µ–ª–∞—é.
— –í—Å—ë –æ—á–µ–Ω—å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ, — –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–ª —è. — –ù—É–∂–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –∑–∞ —á–∞—Å —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç –ø–æ –Ω–µ–±—É 15 –≥—Ä–∞–¥—É—Å–æ–≤. –ò –≤—Ç–æ—Ä–æ–µ — —Ä–æ–≤–Ω–æ –≤ —á–∞—Å –¥–Ω—è –æ–Ω–æ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ —é–≥–µ. –ê –¥–∞–ª—å—à–µ…
–î–∞–ª—å—à–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏–ª–æ. –í—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª. –ò –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥—ã –≤–æ–∑–º—É—â–∞–ª–∏—Å—å –º–æ–∏–º–∏ –ø–æ–∏—Å–∫–∞–º–∏ —Å–µ–≤–µ—Ä–∞. –Æ–≥–∞ — –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —Ç–∞–º –ú–µ–∫–∫–∞. –ù–æ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –Ω–∞ –Ω–∏—Ö, –∏ –≤—Å–µ –∑–∞–º–æ–ª—á–∞–ª–∏. –ñ–¥–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —è —Å–∫–∞–∂—É –¥–∞–ª—å—à–µ. –ê –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å—Å—è –±—ã–ª–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ. –ù–µ –±—ã–ª–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞ –æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤. –ì–æ—Ä–∞ –∏ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç —Ä–µ–∫–∏ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–µ –º–æ–≥–ª–∏ –±—ã—Ç—å –≤–æ –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π –∫–∞—Ä—Ç–µ. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ –Ω–∞ –Ω–µ–π –±—ã–ª–æ —Ç—Ä–∏ —É—â–µ–ª—å—è —Å —Ç—Ä–µ–º—è —Ä–µ–∫–∞–º–∏. –ó–∞–¥–∞—á–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ–≤—ã–ø–æ–ª–Ω–∏–º–æ–π.
— –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∑–Ω–∞–µ—Ç, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏? — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è —è –∫ –≤–ª–∞–¥–µ–ª—å—Ü–∞–º –∫–∞—Ä—Ç—ã.
— –ù–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–µ –Ω–∞–º —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è –∑–¥–µ—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏ —Ç–∫–Ω—É–ª –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –≤ –Ω–∏–∑ –∫–∞—Ä—Ç—ã.
–Ø –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –≤—Å–µ –ø–æ–≤–æ—Ä–æ—Ç—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –º—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –∏ —Å–æ–ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∏—Ö —Å –∫–∞—Ä—Ç–æ–π. –ü–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–æ –≤ –ø—è—Ç–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –æ—Ç –Ω–∞—Å, –∑–∞ –≥–æ—Ä–æ–π –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è —Å–µ–ª–æ. –ö–∞–∫ —Ä–∞–∑ –ø–æ –Ω–µ–º—É –∫—Ä–∞–π –∫–∞—Ä—Ç—ã –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä–≤–∞–Ω.
— –û—Ç–∫—É–¥–∞ —Ç—É—Ç —Å–µ–ª–æ?! — –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∏ –º–Ω–µ.
–î–∞ —è –∏ —Å–∞–º –Ω–µ –±—ã–ª —É–≤–µ—Ä–µ–Ω –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª—Å—è –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ. –°—Ç–∞–ª–∏ –∂–¥–∞—Ç—å –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∏ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –¢–æ—Ç –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –∏ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–µ–ª–æ –≤ –ø—è—Ç–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –∑–∞ –≥–æ—Ä–æ–π. –ù–æ –¥–æ–π—Ç–∏ —Ç—É–¥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –≥–æ—Ä—É. –ù–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∞. –ü—É—Ç–∏ –≤–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –Ω–µ—Ç. –ö–∞—Ä—Ç–∞ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª–∞ —ç—Ç–æ.
–î–æ—Ä–æ–≥–∞ –∫ —Å–µ–ª—É –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä—è–º–æ —É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞ –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –ø–æ–ª–æ–≥–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ –≥–æ—Ä–µ. –ù–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –≠—Ç–æ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –ø–æ—à–ª–∏ –≤–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞. –£–∂–µ –≤–∏–¥–Ω–µ–ª—Å—è —Ç–æ—Ç –∫—Ä—É—Ç–æ–π —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –≥–æ—Ä—ã, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –Ω–∞–º –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –≤–∑–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –µ—ë –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É. –ü—è—Ç—å —á–∞—Å–æ–≤, –¥–æ —Å—É–º–µ—Ä–µ–∫, –æ—Ç—Ä—è–¥ –¥–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –¥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ —É—á–∞—Å—Ç–∫–∞ –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —É–ø—ë—Ä—Å—è –≤ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤–µ—Ä—Ç–∏–∫–∞–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ–¥—ä—ë–º. –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è –≤–≤–µ—Ä—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ç—è–∂—ë–ª—ã–º–∏, —ç—Ç–∏ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –° –∫–∞–º–Ω—è –Ω–∞ –∫–∞–º–µ–Ω—å, —Å –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏ –Ω–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É –≤–∑–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è —è –∏ –≤—ã—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª –°–≤–µ—Ç—É. –ì–ª–∞–∑–∞ –Ω–∞–ª–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –∫—Ä–æ–≤—å—é. –í –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —è –≤–∏–¥–µ–ª –ø—É—Å—Ç–æ—Ç—É –∏ –±–µ–∑—Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏–µ. –û–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –∏ –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å, –Ω–æ —è –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –°–∏–ª—ã –º–æ–≥—É—Ç –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –µ—ë. –°–Ω–æ–≤–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–∞–º–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –°–∞–ª–º–∞–Ω –∏ —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –Ø —É–∂–µ –±—ã–ª —Ç–∞–∫ –≤—ã–º–æ—Ç–∞–Ω, —á—Ç–æ –µ–¥–≤–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞–ª –Ω–æ–≥–∏.
–î–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ—Ç –ø–æ–¥—ä—ë–º. –ó–∞–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–∏—è –µ–≥–æ –æ—Ç—á—ë—Ç–ª–∏–≤–æ –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é. –ü–æ–º–Ω—é —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–Ω–µ–≥, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —É–ø–∞–ª. –Ø –ø—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω–∏–ª—Å—è –∫ –Ω–µ–º—É —â–µ–∫–æ–π –∏ –∑–∞–ø–∏—Ö–∏–≤–∞–ª –≤ —Ä–æ—Ç, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –Ω–µ—Å—Ç–µ—Ä–ø–∏–º–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –ø–∏—Ç—å. –Ý—è–¥–æ–º –ª–µ–∂–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∏ –¥–µ–ª–∞–ª–∞ —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ. –°–∞–ª–º–∞–Ω, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ-—Ç–æ –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –º—ã –µ–¥–∏–º —Å–Ω–µ–≥, –Ω–æ –ø—Ä–∏—Å–µ–ª, –ø–æ—Ç–æ–º –ª—ë–≥ –∏ —Ç–æ–∂–µ —Å—Ç–∞–ª –µ—Å—Ç—å —Å–Ω–µ–≥. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –±–ª–∞–∂–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ–º. –°–Ω–µ–≥ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ —Ö–æ–ª–æ–¥–∏–ª —Ç–µ–ª–æ. –î–∞–∂–µ –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Å—Ç–∞–ª —á—É—Ç—å –∑–∞–º–µ—Ä–∑–∞—Ç—å, –≤—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –¢–∞–∫ –±—ã –∏ –ª–µ–∂–∞—Ç—å.
–ö–∞–∂–¥—ã–π –∏—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –ø–æ–¥–Ω—è–≤—à–∏—Ö—Å—è –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É, –¥–µ–ª–∞–ª —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ. –ü–æ–≤–∞—Ä –•—É—Å–µ–π–Ω –≤–æ–ª–æ–∫ –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–∞—Ö –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–µ–π—à–∏–π –ø—É–ª–µ–º—ë—Ç. –ü–æ–¥–Ω—è–≤—à–∏—Å—å, –æ–Ω –±—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ, —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—Å—è –¥–æ —Ç—Ä—É—Å–æ–≤ –∏ —Å—Ç–∞–ª –∫–∞—Ç–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ —Å–Ω–µ–≥—É. –í —Å–≤–µ—Ç–µ –õ—É–Ω—ã –±—ã–ª –≤–∏–¥–µ–Ω –ø–∞—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∫–ª—É–±–∞–º–∏ —à—ë–ª –æ—Ç –µ–≥–æ —Ä–∞–∑–≥–æ—Ä—è—á—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ç–µ–ª–∞. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É –≤–∑–æ—à—ë–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä. –ï–º—É –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∏, –≤–µ–¥—å –ø—Ä–∞–≤–∞—è –µ–≥–æ —Ä—É–∫–∞ –≤–∏—Å–µ–ª–∞ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤—è–∑–∏. –í –æ—Ç–ª–∏—á–∏–µ –æ—Ç –º–Ω–æ–≥–∏—Ö, –æ–Ω –±—ã–ª –≤ –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ–π —Ñ–æ—Ä–º–µ. –î–∞–∂–µ –Ω–µ –≤—Å–ø–æ—Ç–µ–ª. –ú—ã –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å –¥–∞–ª—å—à–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç.
–•—É—Å–µ–π–Ω –ø—Ä–æ–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —à–ª–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –∑–∞ –Ω–∏–º. –í–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –≥–æ–ª–æ–π –∏ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –∑–∞—Å–Ω–µ–∂–µ–Ω–Ω–æ–π. –®–ª–∏ —Å–ª–µ–¥ –≤ —Å–ª–µ–¥. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ, –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ –∏ —è, –ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ —Å–Ω–µ–∂–Ω–æ–π –∫–æ—Ä–∫–µ. –ú–Ω–µ —ç—Ç–æ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –ª—É—á—à–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö. –ö–∞–∫ –ø–æ—Ç–æ–º –≤—ã—è—Å–Ω–∏—Ç—Å—è, –∏–∑ –¥–µ–≤—è–Ω–æ—Å—Ç–∞ –∫–∏–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –±—ã–ª–∏ –≤–æ –º–Ω–µ –¥–æ –ø–ª–µ–Ω–∞, –∫ —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç. –ë—Ä—é–∫–∏ —Å–æ—Ä–æ–∫ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–∞ –Ω–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ø–æ—è—Å–µ. –Ø –ø–æ–¥–≤—è–∑—ã–≤–∞–ª –±—Ä–µ—Ç–µ–ª—å–∫–∏ –¥–ª—è —Ä–µ–º–Ω—è –≤–µ—Ä—ë–≤–æ—á–∫–∞–º–∏.
–°–ø—É—Å–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –ø–æ–ª–æ–≥–∏–º. –í –¥–æ–ª–∏–Ω–µ —Ä–µ–∫–∏ –≤–∏–¥–Ω–µ–ª–∏—Å—å –æ–≥–æ–Ω—å–∫–∏ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —Å–µ–ª–∞. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –æ—Ç—Ä—è–¥ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∞ –∫ –µ–≥–æ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ. –ú—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —É –∫—Ä–∞–π–Ω–∏—Ö –¥–æ–º–æ–≤.
–í —Ü–µ–Ω—Ç—Ä —Å–µ–ª–∞ —É—à–ª–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ — –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏. –ë—ã–ª–æ –æ–∫–æ–ª–æ –ø–æ–ª—É–Ω–æ—á–∏ –∏ –ø–∞—Å–º—É—Ä–Ω–æ. –•–æ–ª–æ–¥–Ω–æ. –ü—Ä–æ–Ω–∏–∑—ã–≤–∞—é—â–∏–π –≤–µ—Ç–µ—Ä. –•–æ—á–µ—Ç—Å—è —Å–ø–∞—Ç—å. –ù–æ –≤ —Ç–∞–∫—É—é –ø–æ–≥–æ–¥—É –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ –Ω–µ –ø–æ—Å–ø–∏—à—å. –Ø —Ö–æ–¥–∏–ª –æ—Ç —Ä—é–∫–∑–∞–∫–∞ –¥–æ –∑–∞–±–æ—Ä–∞, —á—Ç–æ–±—ã —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç—å—Å—è.
–ü—Ä–æ—à—ë–ª —á–∞—Å. –Ý–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∏ –≤—Å—ë –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏ —Å–ø–∞–ª—å–Ω—ã–µ –º–µ—à–∫–∏ –∏ –≤–ª–µ–∑–∞–ª–∏ –≤ –Ω–∏—Ö –ø–æ –¥–≤–æ–µ. –ó–∞–º–µ—Ä–∑–∞—é—â–∞—è –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –≤ –Ω–∞–≥–ª—É—é –≤–ª–µ–∑–ª–∞ –∫ –∫–æ–º—É-—Ç–æ –≤ —Å–ø–∞–ª—å–Ω—ã–π –º–µ—à–æ–∫. –ë–æ–µ–≤–∏–∫ –±—ã–ª —à–æ–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω, –Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª. –ù–∞ –º–µ–Ω—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è.
–°–∞–ª–º–∞–Ω —Å–Ω—è–ª –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏, –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∏–∑ —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ä—é–∫–∑–∞–∫–∞ –ª–∏—à–Ω–∏–µ –≤–µ—â–∏ –∏ –≤–ª–µ–∑ —Ç—É–¥–∞ —Å –Ω–æ–≥–∞–º–∏. –ü–æ—Ç–æ–º —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ù–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–π—Ç–µ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è, —Å–¥–µ–ª–∞–µ–º, –∫–∞–∫ —É—á–∏–ª–∏.
–Ø —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–º –≥–ª—è–¥–µ–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ. –û–Ω —Å–Ω—è–ª –∫—É—Ä—Ç–∫—É –∏ —É–∫—Ä—ã–ª—Å—è –µ—é, –∫–∞–∫ –æ–¥–µ—è–ª–æ–º. –ù–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ –º–∏–Ω—É—Ç—ã, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Å–ª–∞–¥–∫–æ –∑–∞—Ö—Ä–∞–ø–µ–ª, —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Å—å –∫–∞–ª–∞—á–∏–∫–æ–º.
–Ø —Ö–æ–¥–∏–ª. –¢—Ä–∏ —Ä–∞–∑–∞ –∑–∞—Å—ã–ø–∞–ª –Ω–∞ —Ö–æ–¥—É. –ü–∞–¥–∞–ª, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç. –í—Å—Ç–∞–≤–∞–ª –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Ö–æ–¥–∏–ª. –í–µ—Ç–µ—Ä —Å—Ç–∏—Ö, –Ω–æ –Ω–∞—á–∞–ª –º–æ—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –º–µ–ª–∫–∏–π –¥–æ–∂–¥–∏–∫. –ü—Ä–æ—à–ª–æ —É–∂–µ —Ç—Ä–∏ —á–∞—Å–∞ —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞ —É—à–ª–∞ –≤ —Å–µ–ª–æ. –ö–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –ï—Å—Ç—å —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –Ý–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞, –Ω–µ–±–æ—Å—å, —Å–∏–¥–∏—Ç –≤ –∫–∞–∫–æ–º-–Ω–∏–±—É–¥—å –¥–æ–º–µ –∏ –∂—Ä—ë—Ç –ø–µ–ª—å–º–µ–Ω–∏.
— –õ—é–±–∏—à—å –ø–µ–ª—å–º–µ–Ω–∏? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
— –ö–∞–∫ –∏ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–∏–±–∏—Ä—è–∫, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
— –ê —á—Ç–æ —Ç—É—Ç –≤ —Å–µ–ª–µ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥—ã–≤–∞—Ç—å? — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ —è.
— –í–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, –Ω–∞–¥–æ –∑–∞–ø–∞—Å—Ç–∏—Å—å –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∞–º–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –ê –≤–æ-–≤—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –º–æ–∂–µ—Ç, –∫—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—á–µ–≤–∞—Ç—å –ø—É—Å—Ç–∏—Ç…
–Ø –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ –Ω–µ –º–æ–≥, —á—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –ø–æ—Å–ø–∞—Ç—å –≤ —Ç–µ–ø–ª–µ. –°–¥–µ–ª–∞–ª —É—Å–∏–ª–∏–µ, –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∏ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞—Å–Ω—É–ª. –û—á–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Ä—ã–∂–∏–π —Ö–ª–æ–ø–∞–ª –º–µ–Ω—è –ø–æ —â–µ–∫–∞–º.
— –ú–æ–∂–µ—Ç, –¥–∞—Ç—å —Ç–µ–±–µ –ª–µ–ø—ë—à–∫—É? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω. — –£ –º–µ–Ω—è –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å.
–ï—Å—Ç—å –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–ø–∞—Ç—å –∏ —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç—å—Å—è. –Ý—ã–∂–∏–π –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–ª –ª–∞–¥–æ–Ω—å –∫ –º–æ–µ–º—É –ª–±—É.
— –£ —Ç–µ–±—è —Ç–µ–º–ø–µ—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –°–µ–π—á–∞—Å…
–Ý—ã–∂–∏–π –ø–æ–ª–µ–∑ –≤ —Å–≤–æ–π —Ä—é–∫–∑–∞–∫ –∏ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –∞—Å–ø–∏—Ä–∏–Ω.
— –ù–∞, –≤—ã–ø–µ–π —Å—Ä–∞–∑—É –¥–≤–µ —Ç–∞–±–ª–µ—Ç–∫–∏.
–ê—Å–ø–∏—Ä–∏–Ω –ø–æ–º–æ–≥. –Ø –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª —Ç—Ä—è—Å—Ç–∏—Å—å –æ—Ç —Ö–æ–ª–æ–¥–∞, –Ω–æ —Å–ø–∞—Ç—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–æ.
–í–¥—Ä—É–≥, –ø–æ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é –∫ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä—É —Å–µ–ª–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –Ω–µ—á—Ç–æ, –≤—Ä–æ–¥–µ –∂—ë–ª—Ç–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω–æ-–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ —Ñ–µ–π–µ—Ä–≤–µ—Ä–∫–∞. –ò —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏—Å—å –≥—Ä–æ–º–∫–∏–µ —Ö–ª–æ–ø–∫–∏, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–µ –Ω–∞ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã. –í–µ—Å—å –æ—Ç—Ä—è–¥ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤—Å—Ç–∞–ª –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏. –í —Ä—É–∫–∞—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –æ—Ä—É–∂–∏–µ.
–ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–µ—Å—è—Ç—å –ø—Ä–∏–±–µ–∂–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. –í—Å–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –ò–∑ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–æ–≤ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞ –Ω–∞–ø–æ—Ä–æ–ª–∞—Å—å –Ω–∞ —Å–∏–≥–Ω–∞–ª—å–Ω—É—é –º–∏–Ω—É —É –∑–¥–∞–Ω–∏—è –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–∏ —Å–µ–ª–∞, –≥–¥–µ —Ä–∞–∑–º–µ—â–∞–ª–∞—Å—å –∫–æ–º–µ–Ω–¥–∞—Ç—É—Ä–∞. –ù–æ —á–∞—Å–æ–≤—ã–µ –ø–æ—Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –º–∏–Ω—É –∑–∞–¥–µ–ª–∞ —Å–æ–±–∞–∫–∞. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –ø–æ —Å–µ–ª—É –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –µ–∑–¥–∏—Ç—å –º–∞—à–∏–Ω—ã, –∏ –±—ã–ª–æ —Å–ª—ã—à–Ω–æ, –∫–∞–∫ —à—É–º–Ω–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ –±—Ä–æ–Ω–µ—Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∞.
–î–∂–æ—Ö–∞—Ä –≤–µ–ª–µ–ª –æ—Ç—Ä—è–¥—É —É–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –≤ –Ω–µ–≥–ª—É–±–æ–∫–æ–º –∫–∞—Ä—å–µ—Ä–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª —Ä—è–¥–æ–º. –ï–¥–≤–∞ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ, –∫ –º–µ—Å—Ç—É, –≥–¥–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –±—ã–ª –æ—Ç—Ä—è–¥, –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª –ë–¢–Ý. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ –ø–æ–∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ, –ø–æ—à–∞—Ä–∏–ª–∞ –ø—Ä–æ–∂–µ–∫—Ç–æ—Ä–æ–º –∏ —Ä–≤–∞–Ω—É–ª–∞ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏. –û—Ç—Ä—è–¥ –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª—Å—è –∫ –±–æ—é. –Ý—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ–π –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –ö–∞–∫ —Å–µ–±—è —á—É–≤—Å—Ç–≤—É–µ—à—å, –Ω–æ–≤–æ—Ä–æ–∂–¥—ë–Ω–Ω—ã–π, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –ù–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –ê –ø–æ—á–µ–º—É –Ω–æ–≤–æ—Ä–æ–∂–¥—ë–Ω–Ω—ã–π?
— –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –º—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –ø–æ –º–∏–Ω–Ω–æ–º—É –ø–æ–ª—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –í—Å—è –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –≥–æ—Ä—ã –∏ –ø–æ–ª–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–µ–π –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω—ã. –ú–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏–ª –º–Ω–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏.
— –ß—Ç–æ –∂–µ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –±—É–¥–µ—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è. — –ù–∞—Å –∏—â—É—Ç?
— –°–µ–π—á–∞—Å –≤—Å—ë —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—Å—è, –∏ –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—á—É–µ–º, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –Ø –Ω–∞—à—ë–ª –º–µ—Å—Ç–æ. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ, –Ω–∞—Å –ø—Ä–æ–≤–æ–¥—è—Ç. –ê —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã —É—Ç—Ä–æ–º –æ—Ç—Å—é–¥–∞ —É–π–¥—É—Ç.
–ß—ë—Ä—Ç –≤–æ–∑—å–º–∏! –Ý—è–¥–æ–º –Ω–∞—à–∏ —Ä–µ–±—è—Ç–∞ –∏ –Ω–µ—Ç –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Å–æ–æ–±—â–∏—Ç—å –∏–º –æ –Ω–∞—Å. –ë–¢–Ý –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Å–µ–ª–æ. –û—Ç—Ä—è–¥ –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ –∫–∞—Ä—å–µ—Ä—É –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –º–æ—Å—Ç–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–µ—á–∫—É. –ú–æ—Å—Ç —Å—Ç–∞—Ü–∏–æ–Ω–∞—Ä–Ω—ã–π, –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–π. –ú—ã –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –ø–æ –±–µ—Ä–µ–≥—É –ø–æ–¥ –Ω–∏–º. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏. –ß—É—Ç—å —Å–≤–µ—Ç–∞–ª–æ. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –¥–∞–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞—Ç—å. –Ø –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é, –≥–¥–µ —Å–ø–∞–ª –∏ –∫–∞–∫ —É—Å–Ω—É–ª.
–ü—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç –ø–∏–Ω–∫–∞ –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞.
— –•–æ—Ä–æ—à –Ω–æ—á–µ–≤–∞—Ç—å, — –±—Ä–∞–≤–æ –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω. — –í—Å—Ç–∞–≤–∞–π –ø—Ä–∏—à—ë–ª!
–ù–µ–ø–æ–¥–∞–ª—ë–∫—É —Å–∫–∞–ª–∏–ª—Å—è –ò–ª—å–º–∞–Ω.
— –ù–µ —Ö–æ—á–µ—à—å —Å–±–µ–∂–∞—Ç—å, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä? — –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∫—É—Å—Ç–æ–≤. — –í–æ–Ω –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π. –û–Ω —Ö–æ—Ç–µ–ª.
–ü–æ–¥ –∫—É—Å—Ç–∞–º–∏ –ª–µ–∂–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Å–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–º–∏ –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π —Ä—É–∫–∞–º–∏ –∏ –∫–ª—è–ø–æ–º –≤–æ —Ä—Ç—É. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –æ–Ω —Ç–∞–∫ —Å–ø–∞–ª. –≠—Ç–∏ —Å–≤–æ–ª–æ—á–∏ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ –Ω–µ–º—É –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–∏–Ω–∞—Ç—å.
— –í—Å—Ç–∞–≤–∞–π, –µ–≤—Ä–µ–π—Å–∫–∞—è —Ä–æ–∂–∞! — –∫—Ä–∏—á–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –°–µ–π—á–∞—Å —Ç—ã –Ω–∞–º —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∂–µ—à—å, –∫—É–¥–∞ –≤—á–µ—Ä–∞ –ª—ã–∂–∏ –Ω–∞–≤–æ—Å—Ç—Ä–∏–ª!
–ü–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞. –û—Å–∞–¥–∏–ª —Å–≤–æ–∏—Ö –ø–æ–¥—á–∏–Ω—ë–Ω–Ω—ã—Ö –∏ —Ç–µ –æ—Ç–æ—à–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∫–ª—è–ø –∏ —Å–Ω—è–ª —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏. –ù–æ –ø–æ—Ç–æ–º —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–¥–µ–ª, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, —É–∂–µ –∑–∞—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–≤ –∏—Ö —Å–ø–µ—Ä–µ–¥–∏.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–ª–æ—Ö–æ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª–∞. –û–Ω–∞ —á–∞—Å—Ç–æ –¥—ã—à–∞–ª–∞ –∏ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–∞—Å—å –∑–∞ —Å–µ—Ä–¥—Ü–µ. –ï—â—ë –¥–æ –ø–ª–µ–Ω–∞ –°–≤–µ—Ç–∞ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∞ —Ä–∏–±–æ–∫—Å–∏–Ω –¥–ª—è —É–∫—Ä–µ–ø–ª–µ–Ω–∏—è —Å–µ—Ä–¥–µ—á–Ω–æ–π –º—ã—à—Ü—ã. –¢—è–∂—ë–ª—ã–π –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –∏ –º—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–±–∏–≤–∞–ª –µ—ë. –£—Ç—Ä–æ–º –∫ –Ω–µ–π –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –∏ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª, —á—Ç–æ –µ–π –Ω—É–∂–Ω–æ, –∫—Ä–æ–º–µ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–æ–≤. –û–Ω–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ —ç—Ç–æ –ª–µ–∫–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ. –í–æ—Ç —É–∂–µ —á–∞—Å, –∫–∞–∫ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä —Å –ª—é–¥—å–º–∏ —É—à—ë–ª –≤ —Å–µ–ª–æ –∑–∞ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∞–º–∏. –í—Å–µ —Å –≤–æ–∂–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ–º –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ –µ–≥–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∞. –ú–µ–Ω—è –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –≥–æ–Ω—è–ª –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –∏ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏. –ö–æ—Å—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–µ —Ä–∞–∑–∂–∏–≥–∞–ª–∏, –∞ –≤–æ–¥–∞ –±—ã–ª–∞ –≤ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–∞—Ö –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä–µ—á–∫–∏. –ü–æ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É —Å—á—ë—Ç—É –∏ –≤–∞—Ä–∏—Ç—å-—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –ü—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å.
–í–º–µ—Å—Ç–æ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –•—É—Å–µ–π–Ω. –û–Ω –ø–æ–¥–Ω—è–ª –≤–µ—Å—å –æ—Ç—Ä—è–¥. –ü—Ä–æ—Ö–æ–¥—è –º–∏–º–æ –Ω–∞—Å, —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –°–≤–µ—Ç–∞, —Å—Ä–æ—á–Ω–æ —É—Ö–æ–¥–∏–º. –ù–µ –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∞–π—Ç–µ.
–ö–∞–∫ –∂–µ –Ω–∞–º —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –æ—Ç—Å—Ç–∞—Ç—å. –ù–æ –º—ã –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏, –≤ –∫–∞–∫—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å. –í—Å–µ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –ø–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–º—É –ø–æ–ª—é –∫ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–º—É –∑–¥–∞–Ω–∏—é –Ω–∞ –æ–ø—É—à–∫–µ –ª–µ—Å–∞. –ò —Ç—É—Ç –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —è –æ—á–µ–Ω—å –ø–ª–æ—Ö –∏ —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—é—Å—å. –î–∞ –µ—â—ë –∑–∞ –º–µ–Ω—è —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. –ü–æ–≤–∏—Å–ª–∞ –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–µ, –∏ —è –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–µ –º–æ–≥ —Å–¥–≤–∏–Ω—É—Ç—å—Å—è —Å –º–µ—Å—Ç–∞. –ü—Ä–æ–±–µ–≥–∞–≤—à–∏–µ –º–∏–º–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –∫—Ä–∏—á–∞–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Å, –Ω–æ –Ω–∏ –æ–¥–∏–Ω –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–º–æ—á—å. –ü–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –±—ã–ª–æ —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω—ã–º.
— –°–≤–µ—Ç–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — —è –Ω–µ –º–æ–≥—É —Ç–µ–±–µ –ø–æ–º–æ—á—å. –ò–¥–∏ —Å–∞–º–∞, –∏–ª–∏ –º—ã –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ —Å–¥–≤–∏–Ω–µ–º—Å—è —Å –º–µ—Å—Ç–∞.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –º–æ–ª—á–∞–ª–∞ –∏ –µ—â—ë –∫—Ä–µ–ø—á–µ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∞—Å—å —É—Ü–µ–ø–∏—Ç—å—Å—è –∑–∞ –º–µ–Ω—è.
— –°–≤–µ—Ç–∞, —è –Ω–µ –º–æ–≥—É —Ç–µ–±—è —Ç–∞—â–∏—Ç—å!
— –ú–æ–∂–µ—à—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞ –∂—É—Ç–∫–∏–º –≥—Ä—É–¥–Ω—ã–º –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º, –∏ —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ —Å–∏–ª—ã. –°–æ–±—Ä–∞–ª. –ü–æ—Ç–∞—â–∏–ª –∏ —Å–µ–±—è, –∏ –µ—ë. –ù–∞ –ø–æ–ª–µ —É–∂–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –¥–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ –ª–µ—Å–∞, —Ä—è–¥–æ–º —Ç—É—Ç –∂–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ò–ª—å–º–∞–Ω, –∏ —è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –ø–æ –º–æ—Ä–¥–µ. –û–Ω —É–¥–∞—Ä–∏–ª –∏ –°–≤–µ—Ç—É, –Ω–æ –æ–Ω–∞ –±—ã –∏ —Ç–∞–∫ —É–ø–∞–ª–∞. –ö–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥—Å–∫–æ—á–∏–ª –°–∞–ª–º–∞–Ω –∏ –ø–æ–≤—ë–ª –≤ –≥–ª—É–±—å –ª–µ—Å–∞. –°–≤–µ—Ç—É –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –≤–µ—Å—Ç–∏, –Ω–æ –æ–Ω–∞ –ø–∞–¥–∞–ª–∞. –¢–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å—É–Ω—É–ª –µ—ë —Å–µ–±–µ –ø–æ–¥ –º—ã—à–∫—É –∏ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª.
–ü–æ—Ç–æ–º —É –º–µ–Ω—è –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ –ª–∞–∫—É–Ω–∞ –≤ –ø–∞–º—è—Ç–∏ –∏ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –µ—ë –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–µ–Ω–∏–µ. –Ø —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ —Ö–æ–ª–º–∏–∫–µ. –ú–µ–Ω—è —Ç–æ—à–Ω–∏–ª–æ. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, –ª–µ—Å, –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–π –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–π –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ —Ç–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–æ—Å—å, —Ç–æ –≤–Ω–æ–≤—å —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å –∑–∞ –æ–±–ª–∞–∫–∞–º–∏. –í—Å–µ–º —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å—É—Ö–∏–µ –ø–∞–π–∫–∏. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç–æ—á–Ω–æ —Ç–∞–∫–∏–µ –∂–µ –≤—ã–¥–∞–¥—É—Ç –∏ –Ω–∞–º.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ –º–Ω–µ, — –Ω–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –æ–Ω, — –¥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –æ–∫–æ–Ω—á–∞–Ω–∏—è –ø–æ—Ö–æ–¥–∞ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ. –ù–µ –µ—à—å—Ç–µ –≤—Å—ë —Å—Ä–∞–∑—É!
–ù–æ –Ω–∞—à–∏—Ö –ø–∞–π–∫–æ–≤ –≤—Å—ë –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ó–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –µ—Å—Ç—å, –∏ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–º –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–æ–º. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –≤—ã–∑–¥–æ—Ä–∞–≤–ª–∏–≤–∞—é.
–ü–∞–π–∫–∏ –≤—Å—ë –∂–µ –≤—ã–¥–∞–ª–∏, –Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å –∫ –Ω–∞–º, –æ–Ω–∏ –ø–æ–±—ã–≤–∞–ª–∏ –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞, –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞ –∏ –ú—É—Å–ª–∏–º–∞. –í –ø–∞–π–∫–∞—Ö –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç—Ä–µ—Ç—å —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã—Ç—å. –ù–æ –¥–ª—è –Ω–∞—Å –∏ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å—é. –ü–∞–π–∫–∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –∏–∑ —Å–ª–∞–¥–∫–æ–≥–æ. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –∫—É–ø–∏—Ç—å –≤ —Å–µ–ª–µ –±–æ–ª—å—à–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –Ø –ø–æ–µ–ª —Ö–∞–ª–≤—ã –∏ –µ—â—ë –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω–æ–π —Å–ª–∞–¥–æ—Å—Ç–∏. –ò –º–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –ø–ª–æ—Ö–æ. –í —Ç—É–∞–ª–µ—Ç —Ö–æ–¥–∏–ª, –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–≤–∞—è: –æ—Ç —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Ö–æ–ª–º–∏–∫–∞ –¥–æ —É–∫—Ä–æ–º–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–∞ –∑–∞ —Å–∫–∞–ª–æ–π. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∏–∑–Ω—É—Ä—è—é—â–∏–π –ø–æ–Ω–æ—Å. –ú–Ω–µ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –≤—Å—ë —Ö—É–∂–µ –∏ —Ö—É–∂–µ.
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π —Ä–∞–∑ –≤—Å—Ç–∞–ª, —á—Ç–æ–±—ã –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ —Å–∫–∞–ª—É, —Ç–æ –≤–¥—Ä—É–≥ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ —É–∂–µ –ª–µ–∂—É, –ø–æ—á—Ç–∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–æ–≥–∞–º–∏. –ù–∞–¥–æ –º–Ω–æ–π —Ö–ª–æ–ø–æ—á–µ—Ç –°–∞–ª–º–∞–Ω, —Å—É—ë—Ç –º–Ω–µ –≤ —Ä–æ—Ç –∫—É—Å–æ—á–µ–∫ –ª–∏–º–æ–Ω–∞. –≠—Ç–æ –ø–æ–º–æ–≥–ª–æ. –ù–∞—à–ª–∏ –ª–µ–≤–æ–º–∏—Ü–µ—Ç–∏–Ω. –ó–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø–∏—Ç—å –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–π —á–∞–π. –ù–æ —ç—Ç–æ —Å –∏—Ö —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è –æ–Ω –±—ã–ª –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–º. –î–æ–º–∞ –≤ –°–∞–º–∞—Ä–µ —è –ø–∏–ª –∏—Å–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–∞–≤–∞—Ä–∫—É. –î—Ä—É–≥–æ–≥–æ —á–∞—è –≤ —Å–µ–º—å–µ –Ω–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–≤–∞–ª–∏. –ü–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –∑–∞–≤–∞—Ä–∫–∏ –∏ —Å—Ç–∞–ª –µ—ë –∂–µ–≤–∞—Ç—å. –ü—Ä–∏—Å—Ç—É–ø—ã –ø–æ–Ω–æ—Å–∞ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—å —Ä–µ–∂–µ.
–°—Ç–µ–º–Ω–µ–ª–æ. –û—Ç—Ä—è–¥ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–∞–º —Å–æ –°–≤–µ—Ç–æ–π, –∫—Ä–∏—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –æ–≥–ª—è–¥–µ–ª –∏ –ø—Ä–∏–≤—è–∑–∞–ª –Ω–∞–º –Ω–∞ —Ä—É–∫–∏ –±–µ–ª—ã–µ –ª–µ–Ω—Ç–æ—á–∫–∏. –í–∏–¥–∏–º–æ, —á—Ç–æ–±—ã –≤ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ –Ω–∞—Å –Ω–∏ —Å –∫–µ–º –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–ø—É—Ç–∞—Ç—å. –ú–æ–π —Ä—é–∫–∑–∞–∫ —É–∂–µ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –Ω—ë—Å. –°–≤–µ—Ç–∏–Ω —Ç–æ–∂–µ. –í –ø–æ–ª–Ω–æ–π —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ –º—ã –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ –±–æ–ª—å—à–æ–º—É –¥–æ–º—É. –ü–æ–¥ –∫—Ä—ã—Ç—ã–º –¥–≤–æ—Ä–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫ —Å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã–º –∫—É–∑–æ–≤–æ–º. –ù–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≤ –∫—É–∑–æ–≤ –∑–∞–±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º–∏. –ü–æ—Ç–æ–º —Ç—É–¥–∞ –∂–µ –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª—Å—è –≤–µ—Å—å –æ—Ç—Ä—è–¥. –°—Ç–æ—è–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å –ø–ª–æ—Ç–Ω–æ. –ú–Ω–µ –≤ –≥—Ä—É–¥—å —É–ø–∏—Ä–∞–ª—Å—è —Å—Ç–≤–æ–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞ –∏ –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç—Ä–æ–Ω—É–ª–∏—Å—å, –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø—ã —Ç–æ—à–Ω–æ—Ç—ã –∏ –ø–æ–Ω–æ—Å–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–¥–æ–ª–µ–ª–∏ –º–µ–Ω—è.
–ï—Ö–∞–ª–∏ —Ä—É—Å–ª–æ–º –≥–æ—Ä–Ω–æ–π —Ä–µ—á–∫–∏. –ü—Ä—è–º–æ –ø–æ –≤–∞–ª—É–Ω–∞–º. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ —Ç—Ä—è—Å–∫–∞, –∞–¥—Å–∫–∞—è –º–∞—à–∏–Ω–∞. –ü–æ –ª–∏—Ü—É –±–∏–ª–∏ –≤–µ—Ç–∫–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤. –ó–∞ —á–∞—Å –∏–ª–∏ –±–æ–ª–µ–µ, –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –î–∞–ª—å—à–µ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∞. –í—ã–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏—Å—å. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ —É—à–ª–∞. –®—ë–ª –¥–æ–∂–¥—å. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —è –æ–ø—è—Ç—å –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –ø–æ –º–æ—Ä–¥–µ –∑–∞ —Å—ã—Ä—ã–µ –¥—Ä–æ–≤–∞, –Ω–æ —É–∂–µ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—á–∞–ª —ç—Ç–æ–≥–æ. –¢–∞–∫ –º–Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø–ª–æ—Ö–æ. –Ø —Å—Ç–æ—è–ª, –ø–æ—à–∞—Ç—ã–≤–∞—è—Å—å, –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –æ—Ç –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. –•–æ–ª–æ–¥–Ω–æ. –¢–æ—à–Ω–∏—Ç. –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –ø–æ–ª–µ–∑ –≤ —Ä—é–∫–∑–∞–∫, –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –ª–µ–≤–æ–º–∏—Ü–µ—Ç–∏–Ω –∏ –¥–∞–ª –º–Ω–µ. –Ø –≤—ã–ø–∏–ª. –°—Ç–æ—à–Ω–∏–ª–æ. –ö—Ç–æ-—Ç–æ –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –Ω–∞–ª–æ–º–∞—Ç—å –º–µ—Ç—Ä–æ–≤—ã—Ö –ø–∞–ª–æ–∫. –Ø –ª–æ–º–∞–ª –∏ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–ª. –õ–æ–º–∞–ª –∏ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–ª. –ò –±–æ—Ä–æ–ª—Å—è. –Ø –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —Å —á–µ–º –±–æ—Ä–æ–ª—Å—è.
–≠—Ç–∏ –ø–∞–ª–∫–∏, —à—Ç—É–∫ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç, –±—ã–ª–∏ —É–ª–æ–∂–µ–Ω—ã –æ–¥–Ω–∞ –∫ –¥—Ä—É–≥–æ–π, –∏ –Ω–∞ –Ω–∏—Ö —É–ª—ë–≥—Å—è —Å–ø–∞—Ç—å —Ç–æ—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫, —á—Ç–æ –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –∏—Ö –Ω–∞–ª–æ–º–∞—Ç—å.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä, — —Ç—ã —Å–æ–≤—Å–µ–º –ø–ª–æ—Ö–æ–π. –ú–æ–∂–Ω–æ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Ç–µ–±—è –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏—Ç—å, –Ω–æ —É –º–µ–Ω—è –µ—Å—Ç—å —Å–ø–∏—Ä—Ç. –í—ã–ø—å–µ—à—å?
–Ø —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –Ω–∞–¥–æ! — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –¢—ã –æ—Ç—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è, –¥–∞ –µ—â—ë –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–ª. –•–æ—Ç—è –±—ã –ø—Ä–æ—á–∏—Å—Ç–∏—à—å –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–º. –î–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ —Å—Ç–æ—à–Ω–∏—Ç.
–≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑—É–º–Ω–æ. –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –ø—É–∑—ã—Ä—ë–∫, –Ω–∞–ª–∏–ª —Å–ø–∏—Ä—Ç –≤ –∫—Ä—ã—à–∫—É –æ—Ç —Ç–µ—Ä–º–æ—Å–∞ –∏ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª –≤–æ–¥—ã, —á—Ç–æ–±—ã —Ä–∞–∑–±–∞–≤–∏—Ç—å –∏ –∑–∞–ø–∏—Ç—å. –Ý–∞–∑–±–∞–≤–ª—è—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª. –£–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –Ω–æ –¥–∞–∂–µ –≤–∫—É—Å–∞ —Å–ø–∏—Ä—Ç–∞ —è –Ω–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª. –ò –∑–∞–ø–∏–≤–∞—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª. –°–ø–∏—Ä—Ç —Ä–∞–∑–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –ø–æ —Ç–µ–ª—É —Ç–µ–ø–ª–æ–º –∏ —Å—Ç–µ—Ä–∏–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é. –ü–æ—á—Ç–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∏—Å—å –∏ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –æ—â—É—â–µ–Ω–∏—è –≤ –∂–∏–≤–æ—Ç–µ. –ü–æ–Ω–æ—Å–Ω—ã–µ —Å—Ö–≤–∞—Ç–∫–∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å. –ü—Ä–æ—à–ª–∞ —Ç–æ—à–Ω–æ—Ç–∞. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –∑–∞ –º–Ω–æ–π —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–º –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—é—Ç. –ü–∏—Ç—å—ë —Å–ø–∏—Ä—Ç–∞ –¥–ª—è –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–∏–Ω–∞ — –¥–∏–∫–æ–≤–∏–Ω–∫–∞, –∫–∞–∫ –¥–ª—è –Ω–∞—Å — –≥–ª–æ—Ç–∞—Ç–µ–ª—å —à–ø–∞–≥.
–ü–æ—Ç–æ–º –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ–µ –ø—Ä–æ–∂–∂–µ–Ω–∏–µ –≤ –∂–µ–ª—É–¥–∫–µ –∏ —à—É–º –≤ —É—à–∞—Ö. –ù–∏–∫–æ–º—É –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—è, —è —Å–ª–æ–º–∞–ª —à–µ—Å—Ç—å –ø–∞–ª–æ–∫, –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª –∏—Ö, –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–∏–≤ –ª–µ–∂–∞–Ω–∫—É, –ø—Ä—è–º–æ –≤ –ª—É–∂—É — –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –º–µ—Å—Ç –Ω–µ –±—ã–ª–æ — –∏ –ª—ë–≥. –í –ª—É–∂–µ –∏ —É—Å–Ω—É–ª.
–°–≤–µ—Ç–∞–ª–æ. –Ø –∑–¥–æ—Ä–æ–≤ –∏ –±–æ–¥—Ä. –î–æ–∂–¥—å –∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è. –Ø –±—ã–ª –º–æ–∫—Ä—ã–π —Å –≥–æ–ª–æ–≤—ã –¥–æ –Ω–æ–≥, –Ω–æ —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–¥–µ–∂–¥—É —Å–º–æ–≥—É –≤—ã—Å—É—à–∏—Ç—å –Ω–∞ —Å–µ–±–µ. –û—Ç—Ä—è–¥ –ø–æ—à—ë–ª –¥–∞–ª—å—à–µ. –•–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –µ—Å—Ç—å. –í —Ä—é–∫–∑–∞–∫–µ –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π –ª–µ–∂–∞–ª –º–æ–π –ø–∞—ë–∫, –Ω–æ –ø–æ–∫–∞ —è –æ–ø–∞—Å–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∏–∫–∞—Å–∞—Ç—å—Å—è –∫ –Ω–µ–º—É. –í–æ—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏—è –æ –≤—á–µ—Ä–∞—à–Ω–µ–º –¥–Ω–µ –±—ã–ª–∏ –µ—â—ë –æ—á–µ–Ω—å —Å–≤–µ–∂–∏. –Ý—É—Å–ª–æ –ø–µ—Ä–µ—Å–æ—Ö—à–µ–≥–æ —Ä—É—á—å—è –≤—ã–≤–µ–ª–æ –æ—Ç—Ä—è–¥ –≤ –æ–≤—Ä–∞–≥ –∏ –Ω–æ–≤–æ–µ —É—â–µ–ª—å–µ. –û–Ω–æ –ø–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞—Å—à–∏—Ä—è–ª–æ—Å—å, –∞ —Ä—É—á–µ—ë–∫ –≤ —Å–∞–º–æ–π –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–π –µ–≥–æ —á–∞—Å—Ç–∏, —Ç–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è, —Ç–æ –∏—Å—á–µ–∑–∞–ª. –ú—ã –ø—Ä–æ–¥–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å —á–µ—Ä–µ–∑ –≥—É—Å—Ç—ã–µ –∑–∞—Ä–æ—Å–ª–∏ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–π —Ç—Ä–∞–≤—ã –≤–ø–µ—Ä–µ–º–µ–∂–∫—É —Å –∫–æ–Ω–æ–ø–ª—ë–π. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º —Å—Ç–∞–ª–∏ —á–∞—Å—Ç–æ –ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å –∏–º–µ–Ω–∞ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ –∏ –ú—É—Å–ª–∏–º–∞. –ú—É—Å–ª–∏–º —Å–º–µ—è–ª—Å—è. –ò–ª—å–º–∞–Ω –æ–≥—Ä—ã–∑–∞–ª—Å—è.
–ü–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å —Å–æ–ª–Ω—ã—à–∫–æ. –í—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª—è–Ω—É –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏ –æ–±–≥–æ—Ä–µ–ª—ã–µ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–∞ –ú–∏-8. –ò–∑ –æ–±—Ä—É–±–∫–∞ –∫–∞–±–∏–Ω—ã —Ç–æ—Ä—á–∞–ª –º–µ—Ö–∞–Ω–∏–∑–º –ø–µ—Ä–µ–∫–æ—Å–∞ –≤–∏–Ω—Ç–∞ –∏ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–µ –æ–±–ª–æ–º–∫–∏ –ª–æ–ø–∞—Å—Ç–µ–π. –ù–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—è, –Ω–∏ —Ö–≤–æ—Å—Ç–æ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏. –Ý—è–¥–æ–º —Å –ø–Ω–µ–≤–º–∞—Ç–∏–∫–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –Ω–µ —Å–≥–æ—Ä–µ–ª, –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –æ–±–≥–æ—Ä–µ–≤—à–∏–µ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ —à–ª–µ–º–æ—Ñ–æ–Ω–∞. –ò—Å—Ç–ª–µ–≤—à–∏–π –ø–æ–¥—à–ª–µ–º–Ω–∏–∫ –≤–∏—Å–µ–ª –Ω–∞ –≤–µ—Ç–∫–µ –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞. –ß—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ, –ø–æ–Ω—è—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ.
–ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –º—ã –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –≥–æ—Ä–∫—É, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –±–æ–ª—å—à–æ–µ —Å–µ–ª–æ –∏–∑ —á–µ—Ç—ã—Ä—ë—Ö —É–ª–∏—Ü –≤–¥–æ–ª—å —Ä–µ—á–∫–∏. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –æ—Ç–≤—ë–ª –æ—Ç—Ä—è–¥ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –¥–≤–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞–∑–∞–¥, –∞ –•—É—Å–µ–π–Ω –ø–æ—à—ë–ª –≤ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É.
–ß–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —á–∞—Å–∞ –ø–æ –¥–≤–∞-—Ç—Ä–∏ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞ –æ—Ç—Ä—è–¥ –≤–æ—à—ë–ª –≤ —Å–µ–ª–æ. –í —ç—Ç–æ–º —Å–µ–ª–µ —Ä–æ–¥–∏–ª—Å—è –∏ –≤—ã—Ä–æ—Å –≤—Å–µ–º–∏—Ä–Ω–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–π —Ç–∞–Ω—Ü–æ—Ä –ú–∞—Ö–º—É–¥ –≠—Å–∞–º–±–∞–µ–≤. –û—Ä—É–∂–∏–µ –≤ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—É—é –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–∏–ª–∏. –ü–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –Ω–∞ —Ç–µ–ª–µ–∂–∫–µ, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç–æ–π —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –æ–¥–µ–∂–¥–æ–π. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ –∑–∞ —Ä–µ—á–∫–æ–π –≤–æ—Ç —É–∂–µ –Ω–µ–¥–µ–ª—é —Å–∏–¥–µ–ª –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª.
–î–æ —Å–ª—ë–∑ –æ–±–∏–¥–Ω–æ —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π —á–µ—Ä–µ–∑ –≤—Å—ë —Å–µ–ª–æ –ø–æ–¥ –Ω–µ—É—Å—ã–ø–Ω—ã–º –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–µ–º —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞. –î–≤–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞, —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–≤—à–∏–µ –Ω–∞—Å —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º, –≤–Ω–µ—à–Ω–µ –Ω–µ –≤–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω—ã. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–≤ —É –Ω–∏—Ö –Ω–µ—Ç. –° –≥—Ä–µ–º—è—â–µ–π –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π —Ç–µ–ª–µ–∂–∫–æ–π, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –¥–≤–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤—ã—Ö –∞–ª—é–º–∏–Ω–∏–µ–≤—ã—Ö –±–∏–¥–æ–Ω–∞, –º—ã —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –ù–µ–∫–æ–≥–¥–∞ –≤ —Å–µ–ª–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –≤–æ–¥–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–¥. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤–æ–¥–∞ –µ—â—ë –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–º –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–º –±–∞–∫–µ. –ù–∞ –±–µ—Ä–µ–≥ –±—ã–ª–∞ –≤—ã–≤–µ–¥–µ–Ω–∞ —Ç—Ä—É–±–∞ –¥–ª—è —Å–ª–∏–≤–∞, –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã –∏ –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –±–∏–¥–æ–Ω—ã. –í—ã—Ç–æ–ª–∫–∞—Ç—å –ø–æ—Ç–æ–º —Ç–µ–ª–µ–∂–∫—É –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –±—ã–ª–æ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∞–º –∏ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏.
–ö –≤–µ—á–µ—Ä—É –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–∞—à—ë–ª –¥–ª—è —Å–≤–æ–µ–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–π –¥–æ–º. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –æ–Ω–∏ –∑–∞–±—Ä–∞–ª–∏ —Å —Å–æ–±–æ–π. –¢–æ–ª—å–∫–æ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤–æ—à—ë–ª –≤ –¥–æ–º. –û—á–µ–Ω—å –±–æ–≥–∞—Ç—ã–π –¥–æ–º. –ë—ã–ª–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —ç–≤–∞–∫—É–∞—Ü–∏–∏ —Ö–æ–∑—è–µ–≤–∞ –ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å —Å–∞–º–æ–µ —Ü–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤–∑—è—Ç—å —Å —Å–æ–±–æ–π, –Ω–æ, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –∂–∏–ª–∏—â–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ—Ç—Ä–æ–Ω—É—Ç—ã–º.
–ó–∞–ª, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –∏ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª—Å—è –æ—Ç—Ä—è–¥, –±—ã–ª —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–º 20 –Ω–∞ 20 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ü–æ—á—Ç–∏ –ø–æ –≤—Å–µ–º—É –ø–µ—Ä–∏–º–µ—Ç—Ä—É — –¥–æ–±—Ä–æ—Ç–Ω—ã–µ –∫–æ–∂–∞–Ω—ã–µ –¥–∏–≤–∞–Ω—ã –∏ –∫—Ä–µ—Å–ª–∞. –ù–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∞—Ö –∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª—É — –±–æ–≥–∞—Ç—ã–µ –∫–æ–≤—Ä—ã. –í –¥–∞–ª—å–Ω–µ–º –æ—Ç –≤—Ö–æ–¥–∞ —É–≥–ª—É –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—ã — –Ω–∞—à–µ —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –º–µ—Å—Ç–æ. –ü–µ—Ä–µ–¥ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ –≤–æ–π—Ç–∏ –≤ –¥–æ–º, –º–µ–Ω—è –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –≤—ã–º—ã—Ç—å—Å—è –∏ —Å–º–µ–Ω–∏—Ç—å –æ–¥–µ–∂–¥—É. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–µ –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–æ, –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω–æ, –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ü–æ—Å–ª–µ —Ç—â–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∫–∏ —à–≤–æ–≤ –Ω–∞ —Ä—É–±–∞—à–∫–µ –∏ –±—Ä—é–∫–∞—Ö, —Å–ª–µ–¥–æ–≤ –≤—à–µ–π —è –Ω–µ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª. –¢–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, —á—Ç–æ –Ω–µ —Å–ø–∞–ª–∏ –ø–æ—Å–ª–µ –∏–∑–Ω—É—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–æ—Ö–æ–¥–∞, —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ø–æ –¥–æ–º–∞–º —Å–µ–ª–∞ –≤ –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö –æ–¥–µ–∂–¥—ã, –æ–±—É–≤–∏, –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–æ–≤ –∏ –≤—Å–µ–≥–æ, —á—Ç–æ –ø–æ–ø–∞–¥—ë—Ç—Å—è –Ω–∞ –≥–ª–∞–∑–∞. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏–ª –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—É—é –∏–ª–∏ —Ü–µ–Ω–Ω—É—é –Ω–∞—Ö–æ–¥–∫—É –∏ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥—ã —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Ü–µ–Ω–∏—Ç—å —É–¥–∞—á—É.
–ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å —Å–æ–±–ª—é–¥–∞—Ç—å —Å–∫—Ä—ã—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å. –í–æ –¥–≤–æ—Ä–µ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ —á–∞—Å—Ç–æ. –ü–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞–ª–∏—Å—å, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –ø–æ–¥ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ–º –Ω–∞–¥–≤–æ—Ä–Ω—ã—Ö –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–∫, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –∏—Ö –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ —Å –≥–æ—Ä—ã.
–ù–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –¥–µ–Ω—å –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –≤ —Å–µ–ª–µ –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö –∏ –≤–µ–ª–µ–ª —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –ú—ã –≤—ã—à–ª–∏ —Å–æ –¥–≤–æ—Ä–∞, –ø—Ä–∏—Ö–≤–∞—Ç–∏–≤ —Å —Å–æ–±–æ–π —Ç–µ–ª–µ–∂–∫—É, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–±—ã—á–Ω–æ –≤–æ–∑–∏–ª–∏ –≤–æ–¥—É.
— –ü–æ–π–¥—ë–º –ø–æ –¥–æ–º–∞–º –∑–∞ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–∞–º–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –•–æ–∑—è–µ–≤–∞ –Ω–µ –±—É–¥—É—Ç –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤? — –Ω–∞–∏–≥—Ä–∞–Ω–æ –Ω–∞–∏–≤–Ω–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –•–æ–∑—è–µ–≤ –Ω–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –¢–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ –≤–µ—Å—å–º–∞ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ –Ω–∞ –º–∞—Ä–æ–¥—ë—Ä—Å—Ç–≤–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –≠—Ç–æ –Ω–µ –º–∞—Ä–æ–¥—ë—Ä—Å—Ç–≤–æ, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –ù–µ—Ç –Ω–∏—á–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—É–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–∏–Ω –≤–æ–∑—å–º—ë—Ç –º–∞–ª—É—é —á–∞—Å—Ç—å —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –µ–º—É –±—ã –∏ —Ç–∞–∫ –æ—Ç–¥–∞–ª–∏.
— –í—Ä–æ–¥–µ, –∫–∞–∫ –∑–∞–∫—è—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –í—Ä–æ–¥–µ —Ç–æ–≥–æ.
— –ü–æ—Ö–æ–∂–µ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤ —Å–µ–ª–µ –≤–æ–æ–±—â–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç, — –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —è.
— –î–∞, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å –±–æ–≥–∞—Ç–æ–µ —Å–µ–ª–æ. –í–æ–Ω, –≤–∏–¥–∏—à—å, –¥–æ–º? –≠—Ç–æ –¥–æ–º –ú–∞—Ö–º—É–¥–∞ –≠—Å–∞–º–±–∞–µ–≤–∞.
— –≠—Ç–æ —Ç–æ—Ç, —á—Ç–æ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç—ã–π —Ç–∞–Ω—Ü–æ—Ä? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –î–∞. –ò –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª—å –ß–µ—á–Ω–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –¢—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–æ—Ä—É?
— –û—Ç–∫—É–¥–∞!? –Ø —É–∂–µ —Å—Ç–∞–ª –∑–∞–±—ã–≤–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –µ—Å—Ç—å —Ç–∞–∫–∞—è —à—Ç—É–∫–∞, –∫–∞–∫ —Ç–µ–ª–µ–≤–∏–∑–æ—Ä.
— –Ø —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö, — –Ω–æ –º–Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∏. –û–Ω –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–ª —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤ —Å–ª–æ–∂–∏—Ç—å –æ—Ä—É–∂–∏–µ, —Å–≤–æ–ª–æ—á—å!
— –ú–æ–∂–µ—Ç, –æ–Ω –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è –º–∏—Ä–æ–º? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ß–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ –º–æ–∂–µ—Ç –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç —Ç–∞–Ω—Ü–æ—Ä –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥—É? — –≤–æ–∑–º—É—â–∞–ª—Å—è –∫–∞–∑–∞—Ö. — –û–Ω –∂–µ –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∏—Ç —É—Ç—é–≥ –æ—Ç –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞. –û–Ω –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –æ—Ä—É–∂–∏—è.
— –ê –ø–æ–º–Ω–∏—à—å, –≤ –ø—Ä–æ—à–ª—É—é –≤–æ–π–Ω—É –±—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π –ø—Ä–∞–≤–æ–∑–∞—â–∏—Ç–Ω–∏–∫ –°–µ—Ä–≥–µ–π –ö–æ–≤–∞–ª—ë–≤? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –∫–∞–∑–∞—Ö–∞.
— –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–æ–º–Ω—é! — —Å —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º –≤ –≥–æ–ª–æ—Å–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –ö–ª–∞—Å—Å–Ω—ã–π –º—É–∂–∏–∫. –û–Ω –≤—Å—ë –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª.
— –ü–æ–º–Ω–∏—à—å, –∫–∞–∫ –æ–Ω –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –∫ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞–º –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å –≤–æ–π–Ω—É? — –µ—â—ë —Ä–∞–∑ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –î–∞! –û–Ω –º–æ–ª–æ–¥–µ—Ü!
— –¢–∞–∫ –≤–æ—Ç, —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–ª–æ–¥–µ—Ü –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ, —á—Ç–æ –∏ –≠—Å–∞–º–±–∞–µ–≤ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞–º, — —è –∂–¥–∞–ª —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏ –∫–∞–∑–∞—Ö–∞, –Ω–æ —Ç–æ—Ç –Ω–µ–¥–æ—É–º—ë–Ω–Ω–æ –º–æ–ª—á–∞–ª.
— –Ý–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–µ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä—ã –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç –µ–≥–æ –ø—Ä–µ–¥–∞—Ç–µ–ª–µ–º, — –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª —è.
–ú—ã –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –º–∏–º–æ –¥–æ–º–∞ –≠—Å–∞–º–±–∞–µ–≤–∞.
— –ê –º–æ–∂–Ω–æ –∑–∞–π—Ç–∏ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ú–æ–∂–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –°–µ–π—á–∞—Å —Ç–∞–º –ª—é–¥–∏ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã.
— –¢–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ! — —è –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞—Ç—å—Å—è —Å —ç—Ç–∏–º–∏ –∏–∑–≤–µ—Ä–≥–∞–º–∏, –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–µ –∂–∞–ª–µ—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º—É –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ–±—â–∞—Ç—å—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å –Ω–∏–º–∏.
— –í –¥–æ–º–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –ü–æ—à–ª–∏, —Ç—ã –∂–µ –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–Ω–∏–≥!
–ú—ã –≤–æ—à–ª–∏ –≤ –¥–æ–º. –¢–æ—Ç –∂–µ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π –∑–∞–ª, –Ω–æ –±–µ–∑ –º–µ–±–µ–ª–∏. –ù–∞ –ø–æ–ª—É — –∫–æ–≤—Ä—ã. –í–¥–æ–ª—å —Å—Ç–µ–Ω — —Å–ø–ª–æ—à–Ω—ã–µ —Å—Ç–µ–ª–ª–∞–∂–∏ —Å –∫–Ω–∏–≥–∞–º–∏. –û—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –ø–æ–ª–∏—Å—Ç–∞—Ç—å –∏—Ö, —Ö–æ—Ç—è –±—ã –ø–æ—á–∏—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ –∫–æ—Ä–µ—à–∫–∞—Ö. –ù–æ –Ω–∞ –ª–∏—Ü–µ –∫–∞–∑–∞—Ö–∞ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª —Ç–∞–∫–æ–µ –±–µ–∑—Ä–∞–∑–ª–∏—á–∏–µ, —á—Ç–æ –ø–æ–Ω—è–ª: –Ω–∞–¥–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å.
–ú–µ–∂–¥—É –∑–∞–ª–æ–º –∏ –∫—É—Ö–Ω–µ–π –≤–º–µ—Å—Ç–æ —Å—Ç–µ–Ω—ã –±—ã–ª–∞ –ø–µ—á–∫–∞. –ï—ë –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ø–∏—Ç—å —Å –æ–±–µ–∏—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω. –í –∑–∞–ª–µ –ø–µ—á–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –æ—Ç–¥–µ–ª–∞–Ω–∞ –ø–æ–¥ –∫–∞–º–∏–Ω. –í –Ω—ë–º –≤–º–µ—Å—Ç–æ –¥—Ä–æ–≤ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –Ω–∞–ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É —Å–≥–æ—Ä–µ–≤—à–∏–µ –∫–Ω–∏–≥–∏. –ú–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å –±–æ–ª—å–Ω–æ. –û–¥–Ω–∞ –∏–∑ –Ω–∏—Ö, —Å –ø–æ–ª—É–æ–±–≥–æ—Ä–µ–≤—à–µ–π –æ–±–ª–æ–∂–∫–æ–π, –±—ã–ª–∞ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ —Å–∞–º—ã—Ö –º–æ–∏—Ö –ª—é–±–∏–º—ã—Ö — –±—Ä–∞—Ç—å—è –°—Ç—Ä—É–≥–∞—Ü–∫–∏–µ, «–ó–∞ –º–∏–ª–ª–∏–∞—Ä–¥ –ª–µ—Ç –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ —Å–≤–µ—Ç–∞».
— –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ –∏—Å–ª–∞–º —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–µ—Ç —É–Ω–∏—á—Ç–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –∫–Ω–∏–≥? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –∫–∞–∑–∞—Ö–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —É–∂–µ –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –¥–æ–º–∞.
— –ò—Å—Ç–∏–Ω–Ω—ã–π –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–∏–Ω –¥–æ–ª–∂–µ–Ω —á–∏—Ç–∞—Ç—å –ö–æ—Ä–∞–Ω, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –≠—Ç–æ–≥–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã –¥–æ—Å—Ç–æ–π–Ω–æ –∂–∏—Ç—å.
–Ø –±—ã –ø–æ—Å–ø–æ—Ä–∏–ª —Å –Ω–∏–º –Ω–∞ —ç—Ç—É —Ç–µ–º—É. –° –Ω–∏–º –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å. –ù–æ –µ–≥–æ —Ç–æ–Ω –≤—ã—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–Ω–∏—è –æ –∫–Ω–∏–≥–∞—Ö –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª –º–Ω–µ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞—Ç—å.
— –ö—Ä–æ–º–µ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–æ–≤, –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –Ω–∞–π—Ç–∏ —Ç–µ–±–µ –æ–¥–µ–∂–¥—É –∏ –æ–±—É–≤—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –°–ø–∞—Å–∏–±–æ, — –ø–æ–±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª —è.
— –ù–µ –º–Ω–µ —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –°–∫–∞–∂–µ—à—å —ç—Ç–æ –•—É—Å–µ–π–Ω—É, –µ—Å–ª–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∞–π–¥—ë–º —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å.
— –ú–æ–∏ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏ —É–∂–µ –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –Ω–µ –≥–æ–¥—è—Ç—Å—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –≠—Ç–æ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏? — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –î–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ.
–¢—Ä—É–¥–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞—Ç—å –æ–±—É–≤—å—é —Ç–æ, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ –æ–±—É—Ç–æ –Ω–∞ –º–æ–∏ –Ω–æ–≥–∏. –ë–æ—Ç–∏–Ω–æ–∫ –≤–∏–¥–Ω–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –í—Å–µ —ç—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–æ –∫–∞–ø—É—Å—Ç—É: —Ç–µ–ª–æ, –ø–æ—Ä—Ç—è–Ω–∫–∞, —Ü–µ–ª–ª–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤—ã–π –º–µ—à–æ–∫, –≥–∞–∑–µ—Ç–∞, –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∞, –µ—â—ë –æ–¥–Ω–∞ –ø–æ—Ä—Ç—è–Ω–∫–∞ –∏ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø–æ–¥–≤—è–∑–∫–∏.
— –ö–∞–∫ —Ç–µ–±–µ –≤ —ç—Ç–∏—Ö –≤–∞–ª–µ–Ω–∫–∞—Ö –Ω–µ –∂–∞—Ä–∫–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –î—Ä—É–≥–∏—Ö –Ω–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –ê –∂–∞—Ä–∫–æ –∏–ª–∏ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ, —è —É–∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—é. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, —è –æ—Ç–º–æ—Ä–æ–∑–∏–ª –Ω–æ–≥–∏.
— –ú–µ–∂–¥—É –ø–∞–ª—å—Ü–µ–≤, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Ç—Ä—è–ø–∫–∞ –∑–∞–∂–∞—Ç–∞? — —Å–∫–æ—Ä–µ–µ —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, —á–µ–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω—ë—Å –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –¢–æ—á–Ω–æ, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª —è.
— –ü–ª–æ—Ö–æ –¥–µ–ª–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –ù–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ, —Å–µ–π—á–∞—Å –º—ã —Ç–µ–±—è –æ–±—É–µ–º. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, —ç—Ç–æ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞.
–°–ø–∞—Å–∏–±–æ —Ç–µ–±–µ, –•—É—Å–µ–π–Ω. –î–∞–∂–µ –±—É–¥—É—á–∏ –≤ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–µ, —Ç—ã –ø–æ–º–æ–≥–∞–µ—à—å –º–Ω–µ.
–ú–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –¥–æ–º–æ–≤. –ù–∞—à–ª–∏ –º—É–∫—É, –ø—à–µ–Ω–æ, —Å–∞—Ö–∞—Ä, –≥—Ä–µ—á–∫—É. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü-—Ç–æ –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª–∏ –º–æ—é –∏–∑–Ω–æ—à–µ–Ω–Ω—É—é –∫—É—Ä—Ç–∫—É –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥—É—é, –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–æ–≤—É—é, –±–æ–ª—å—à—É—é –∏ —Ç—ë–ø–ª—É—é. –ê –≤–æ—Ç –æ–±—É–≤—å –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∞—Å—å –∏—Å–∫–ª—é—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–∞–ª—ã—Ö —Ä–∞–∑–º–µ—Ä–æ–≤.
— –î–æ –Ω–∞—Å –∑–¥–µ—Å—å —É–∂–µ –ø–æ–±—ã–≤–∞–ª–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ –≤–æ–π—Å–∫–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –ü–æ—Å–ª–µ –Ω–∏—Ö –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è.
–Ø –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞—Ç—å. –ù–æ —Å–ª–µ–¥–æ–≤ –º–∞—Ä–æ–¥—ë—Ä—Å—Ç–≤–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –¥–æ–º–µ. –ù–∞ –º–µ—Å—Ç–µ –±—ã–ª–∞ —Ä–∞–¥–∏–æ –∏ –≤–∏–¥–µ–æ–∞–ø–ø–∞—Ä–∞—Ç—É—Ä–∞, –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–µ –≤–∞–∑—ã –∏ —Å—Ç–∞—Ä–∏–Ω–Ω–∞—è –ø–æ—Å—É–¥–∞. –í –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –¥–æ–º–æ–≤ –Ω–∞ –∫–æ–≤—Ä–µ –≤–∏—Å–µ–ª–∏ –¥–≤–∞ –∫—Ä–∏–≤—ã—Ö —è—Ç–∞–≥–∞–Ω–∞ –∏ —Å–∞–±–ª—è.
— –ë–æ—é—Å—å, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –Ω–∞–º –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ—Ç—å –∑–¥–µ—Å—å –¥–æ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∫–∞–∑–∞—Ö.
— –ò–∑-–∑–∞ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ò–∑-–∑–∞ –≤—ã–±–æ—Ä–æ–≤, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –∫–∞–∑–∞—Ö. — –¢—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç –Ω–µ –≤ –∫—É—Ä—Å–µ, —á—Ç–æ –º—ã –∑–¥–µ—Å—å —Å–∏–¥–∏–º? –û–Ω–∏ –≤—Å—ë –∑–Ω–∞—é—Ç! –ù–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –ø—É—Å–∫–∞—é—Ç –¥–∞–ª—å—à–µ. –í–æ—Ç –ø—Ä–æ–π–¥—É—Ç –≤—ã–±–æ—Ä—ã –≤ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ — –∏ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞. –í–æ—Ç —É–≤–∏–¥–∏—à—å.
— –ê —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è, –∫–∞–∫–æ–π –¥–µ–Ω—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è —Å—Ä–µ–¥–∞. –î–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –≤—Ç–æ—Ä–æ–µ –º–∞—Ä—Ç–∞.
23 –º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞, —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –•—É—Å–µ–π–Ω. –û–Ω –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ–π —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–µ —è–ª–æ–≤—ã–µ —Å–∞–ø–æ–≥–∏.
— –ú–µ—Ä—è–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
–í —Å–∞–ø–æ–≥–∞—Ö –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–æ–≤–µ–Ω—å–∫–∏–µ –ø–æ—Ä—Ç—è–Ω–∫–∏. –Ø –ø—Ä–∏–≤—ã—á–Ω—ã–º–∏ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏—è–º–∏ –Ω–∞–º–∞—Ç—ã–≤–∞–ª –∏—Ö –Ω–∞ —Å—Ç—É–ø–Ω—é.
— –ú–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏ —É–ø–∞–∫–æ–≤—ã–≤–∞–µ—à—å—Å—è, — –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –ê—Ä–º–∏—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –ì–¥–µ —Å–ª—É–∂–∏–ª?
— –°–≤—è–∑—å –í–í–°, — —Ç—É—Ç –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –≤—Ä–∞—Ç—å, —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—è –ª–µ–≥–µ–Ω–¥—É.
— –ê —è –≤ –ê—Ñ–≥–∞–Ω–µ –≤—Å—é —Å–ª—É–∂–±—É –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∞—Ö, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –î–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ —É–º–µ—é –º–æ—Ç–∞—Ç—å –ø–æ—Ä—Ç—è–Ω–∫–∏.
— –≠—Ç–æ –Ω–µ —Å–∞–º—ã–π –ø–ª–æ—Ö–æ–π –∏–∑ —Ç–≤–æ–∏—Ö –Ω–µ–¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–æ–≤, — –ø–æ—à—É—Ç–∏–ª —è.
–•—É—Å–µ–π–Ω –∏—Å–∫—Ä–µ–Ω–Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª—Å—è. –û–Ω –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª –∏ —Ü–µ–Ω–∏–ª —à—É—Ç–∫–∏.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏, –Ω–µ —Å–∫–∞–∂–∏ —Ç–∞–∫ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—É! — —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —Å–º–µ—è—Å—å, –•—É—Å–µ–π–Ω. — –û–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–∞—Ä–µ–∂–µ—Ç!
–°–∞–ø–æ–≥–∏ –±—ã–ª–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤ –ø–æ—Ä—É. –Ý–∞–∑–≤–µ, —á—É—Ç—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–µ–µ, —á–µ–º —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –±—ã.
— –¢—ã –≥–¥–µ –∏—Ö –≤–∑—è–ª? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ü–æ–∑–∞–∏–º—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —É –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –û–Ω–∏ –∑–∞–±—ã–ª–∏ –∏—Ö –≤ —Å–≤–æ—ë–º —Å—Ç–∞—Ä–æ–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ. –ö—Ç–æ-—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –±–∞–∑—É –±–æ—Å–∏–∫–æ–º.
— –ü–æ–¥–≤–µ–∑—É—Ç –Ω–æ–≤—ã–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –ù–µ –ø–æ–¥–≤–µ–∑—É—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –î–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞ –Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ —É–∂–µ –Ω–µ—Ç.
— –Ý–∞–∑–≤–µ –≤—ã–±–æ—Ä—ã –ø—Ä–µ–∑–∏–¥–µ–Ω—Ç–∞ —É–∂–µ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å?
— –ó–¥–µ—Å—å — –¥–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –ó–∞–≤—Ç—Ä–∞ —É—Ç—Ä–æ–º —É—Ö–æ–¥–∏–º. –ó–¥–µ—Å—å –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ —Å–µ–ª–æ. –ö–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–µ—Å—è—Ç—å. –¢–∞–º —è –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª—Å—è –Ω–∞—Å—á—ë—Ç –º–∞—à–∏–Ω. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –¥–æ–≤–µ–∑—É—Ç –ø—Ä—è–º–æ –¥–æ –¥–æ–º–∞.
24¬Ý–º–∞—Ä—Ç–∞ 2000 –≥–æ–¥–∞,¬Ý–ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞. –£—Ç—Ä–æ. –û—Ç—Ä—è–¥ –≤—ã—à–µ–ª –∫ –º–æ—Å—Ç—É. –ù–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —É–∂–µ –æ–∂–∏–¥–∞–ª–∞ –≤—Å–µ—Ö –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –û–Ω –¥–∞–ª –æ—Ç–º–∞—à–∫—É, –∏ –æ—Ç—Ä—è–¥ –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è —á–µ—Ä–µ–∑ –º–æ—Å—Ç. –û—Ç –º–æ—Å—Ç–∞ — –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∫ —Ç–æ–π —Å–∞–º–æ–π –≥–æ—Ä–µ, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–∏–¥–µ–ª –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç. –ö –Ω–∞–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –Ω–∞–¥–µ—Ç—å —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫–∏. –ü–æ –æ–¥–Ω–æ–π –Ω–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ. –ê –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–π –±—ã–ª–æ –∫–∏–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º–æ–≤ –ø–æ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å.
–û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –∏–¥—Ç–∏ —Å —Ç–∞–∫–∏–º –≥—Ä—É–∑–æ–º. –Ø –∂–µ, —Ö–æ—Ç—è –∏ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è, –Ω–æ —Å –±–æ–ª—å—à–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º. –° –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫—É –≤—Å—ë –∂–µ —Å–Ω—è–ª–∏, –∞ –º–Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏, –∑–∞–±—Ä–∞–≤ —Ä—é–∫–∑–∞–∫ —Å –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞–º–∏.
— –ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç—Å—è –®–∞–ª–∏–Ω—Å–∫–∏–π —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤—ã–π –ø–æ–ª–∏–≥–æ–Ω, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –ò–¥—Ç–∏ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ! –ì–ª—è–¥–∏—Ç–µ –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∏. –î–µ—Å–∞–Ω—Ç –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –º–∏–Ω—ã, –Ω–æ –∑–¥–µ—Å—å –∏—Ö –∏ –±–µ–∑ –¥–µ—Å–∞–Ω—Ç–∞ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –æ–¥–æ–ª–µ–ª–∏ –∫—Ä—É—Ç–æ–π –ø–æ–¥—ä—ë–º, —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–∞–º–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –æ–Ω –∫–æ –º–Ω–µ, — —Ö–æ—á–µ—à—å, –ø–æ–∫–∞–∂—É –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ —Ç–≤–æ–∏ —Å–∞–ø–æ–≥–∏?
–Ø –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ –Ω–∏–º. –ß—É—Ç—å –≤–≤–µ—Ä—Ö –ø–æ —Ç—Ä–æ–ø–µ –º—ã –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –æ–±–∂–∏—Ç—É—é –ø–æ–ª—è–Ω—É. –û—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∏—â–∞ –≤ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –≤—ã–∫–æ–ø–∞–Ω–Ω–æ–π –Ω–µ–≥–ª—É–±–æ–∫–æ–π –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç–Ω–æ–π —è–º–µ, –∫–æ–ª—å—è –æ—Ç –ø–∞–ª–∞—Ç–∫–∏ –∏ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∞.
— –ó–¥–µ—Å—å –Ω–µ –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ê —Ç—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, —á–µ–º —è –≤—Å—ë —É—Ç—Ä–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è? — —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è –•—É—Å–µ–π–Ω. — –í–æ–∫—Ä—É–≥ —ç—Ç–æ–≥–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—è –º—ã —Å–Ω—è–ª–∏ –¥–µ–≤—è—Ç—å —Ä–∞—Å—Ç—è–∂–µ–∫.
–ß—É—Ç—å –±–ª–∏–∂–µ –∫ –æ–±—Ä—ã–≤—É –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø—É–Ω–∫—Ç —Å –¥–≤—É–º—è –æ–∫–æ–ø–∞–º–∏. –û—Ç—Å—é–¥–∞ –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –≤—Å—ë —Å–µ–ª–æ. –Ø –ø–æ–∏—Å–∫–∞–ª –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ –¥–æ–º, –≥–¥–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –æ—Ç—Ä—è–¥, –∏ –¥–∞–∂–µ —Å–º–æ–≥ —Ä–∞—Å—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ —Ç–µ–ª–µ–∂–∫—É.
–ü–æ—Å–ª–µ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–≥–æ –æ—Ç–¥—ã—Ö–∞ –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å –¥–∞–ª—å—à–µ. –í –Ω–æ–≤–æ–π –æ–±—É–≤–∫–µ –∏–¥—Ç–∏ –±—ã–ª–æ –ª–µ–≥–∫–æ. –¢—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∞ —à–ª–∞ –≤–¥–æ–ª—å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –≥–æ—Ä—ã —Å —á—É—Ç—å –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã–º —Å–ø—É—Å–∫–æ–º. –ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —à–ª–∏ –≤ –≥—Ä—É–ø–ø–µ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞, –•—É—Å–µ–π–Ω — —Ä—è–¥–æ–º —Å –Ω–∞–º–∏.
— –ò–¥–∏—Ç–µ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–µ–µ, — –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–∂–¥–∞–ª –æ–Ω. — –î–µ—Å–∞–Ω—Ç —É—Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ —ç—Ç–æ–π –∂–µ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ. –î—Ä—É–≥–∏—Ö –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ—Ç. –Ø –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä—é, —á—Ç–æ –Ω–∞ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –º–∏–Ω—ã –∏–ª–∏ —Ä–∞—Å—Ç—è–∂–∫–∏.
— –ö—Ç–æ —É —Ç–µ–±—è –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏.
— –ú–æ–∏ –∏–¥—É—Ç —Å–ª–µ–¥–æ–º –∑–∞ —Ä–µ–±—è—Ç–∞–º–∏ –∏–∑ –ß–µ—Ä–≤–ª—ë–Ω–æ–π, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, —É –Ω–∏—Ö –ø–µ—Ä–≤—ã–º –∏–¥—ë—Ç –º–∏–Ω–æ–∏—Å–∫–∞—Ç–µ–ª—å.
— –ò—Å–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
— –ö–∞–∫–æ–π –æ–Ω –ò—Å–∞?! — –≤–æ–∑–º—É—Ç–∏–ª—Å—è –•—É—Å–µ–π–Ω. — –ò–≥–æ—Ä—å — –µ–≥–æ –∑–æ–≤—É—Ç. –ò –µ—â—ë –∑–æ–≤—É—Ç –∏—É–¥–æ–π!
— –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –æ–Ω –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã–π –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
— –¢—ã –∫–æ–≥–æ –ø–æ–ø–∞–ª–æ, –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–º –Ω–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–π! — –≤ —Å–µ—Ä–¥—Ü–∞—Ö –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –µ–º—É –•—É—Å–µ–π–Ω. — –í–∏–¥–µ–ª –±—ã —Ç—ã, –∫–∞–∫ —É —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–µ—Ä–∂–∞–Ω—Ç–∞ –í–í –≥–ª–∞–∑–∫–∏ –±–µ–≥–∞—é—Ç.
— –ù–æ –æ–Ω –∂–µ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –∏—Å–ª–∞–º, — —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
— –Ø –µ–º—É –Ω–µ –≤–µ—Ä—é! — –æ—Ç—Ä–µ–∑–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. –ò –ø–æ—Ç–æ–º, –æ–±—Ä–∞—â–∞—è—Å—å —É–∂–µ –∫ –Ω–∞–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª: — –≠—Ç–æ—Ç –ò–≥–æ—Ä—å —Å–∞–º –≤—ã–∑–≤–∞–ª—Å—è –∏–¥—Ç–∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–º. –£ –Ω–µ–≥–æ —Ç–∞–∫–æ–π –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä—É—Ç –∏–∑ –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞. –û–Ω –∏–º –æ—â—É–ø—ã–≤–∞–µ—Ç —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫—É –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–æ–±–æ–π. –ù–æ –µ—Å–ª–∏ –º–∏–Ω–∞ —Ä–≤–∞–Ω—ë—Ç, –µ–º—É –º–∞–ª–æ –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è.
— –£ —Ç–µ–±—è –µ—Å—Ç—å –¥–µ—Ç–∏, –•—É—Å–µ–π–Ω? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –î–≤–æ–µ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –ú–∞–ª—å—á–∏–∫–∏. –í–æ–∏–Ω—ã.
— –¢—ã —Ö–æ—á–µ—à—å, —á—Ç–æ–±—ã –æ–Ω–∏ —Ç–æ–∂–µ –≤–æ–µ–≤–∞–ª–∏ —Å —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º–∏? — –¥–æ–∫–∞–ø—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –æ–Ω–∞.
— –Ø —Ö–æ—á—É, —á—Ç–æ–±—ã –æ–Ω–∏ –≤—ã—Ä–æ—Å–ª–∏ –º—É–∂—á–∏–Ω–∞–º–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω. — –ê –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å –∏ —è –Ω–∏ —Å –∫–µ–º –Ω–µ —Ö–æ—á—É. –Ø —Ö–æ—á—É –∂–∏—Ç—å. –ù–æ –∂–∏—Ç—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ö–æ—Ç–µ–ª–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –µ–≥–æ –µ—â—ë –æ —á—ë–º-—Ç–æ, –Ω–æ –≤–¥—Ä—É–≥ –æ–Ω –∑–∞—Ç–æ—Ä–æ–ø–∏–ª—Å—è –∏ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –≤–ø–µ—Ä—ë–¥. –ê –µ—â—ë —á–µ—Ä–µ–∑ –º–∏–Ω—É—Ç—É –≥—Ä—è–Ω—É–ª –≤–∑—Ä—ã–≤. –í—Å–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –∏ –ø—Ä–∏—Å–µ–ª–∏.
— –û–±—Å—Ç—Ä–µ–ª? — —Ç–∏—Ö–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞.
— –°–∫–æ—Ä–µ–µ, –º–∏–Ω–∞, — —Ç–∞–∫ –∂–µ —Ç–∏—Ö–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
–Ý–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω –≤–∑—Ä—ã–≤. –≠—Ç–æ —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ –Ω–∞ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª. –í—Å–µ –∑–∞–ª–µ–≥–ª–∏ –≤–¥–æ–ª—å —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∑–∞—Ç—å—Å—è –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã. –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –∑–∞—Ç–∞—â–∏–ª –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∑–∞ –∫–∞–º–Ω–∏. –¢–∞–º –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–µ–µ. –ò–∑ —Ö–≤–æ—Å—Ç–∞ –æ—Ç—Ä—è–¥–∞ –≤–ø–µ—Ä—ë–¥ –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä. –û–Ω –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –º–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å.
— –ü—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –Ω–∞ –º–∏–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –ò—Å–∞. –•—É—Å–µ–π–Ω –ø–æ–¥–±–µ–∂–∞–ª –∫ –Ω–µ–º—É –Ω–∞ –ø–æ–º–æ—â—å, –∏ —Å–∞–º –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–µ—Ö–æ—Ç–Ω—É—é –º–∏–Ω—É. –ü–æ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–µ –∏–¥—ë–º. –°–ø—É—Å–∫–∞–µ–º—Å—è –≤ —É—â–µ–ª—å–µ.
–•—É—Å–µ–π–Ω–∞ –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–æ—Å–∏–ª–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç—É—Ç –∂–µ –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –∏–∑ –ø–æ–¥—Ä—É—á–Ω—ã—Ö —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤. –ù–µ—Å–ª–∏ –ø–æ —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ, —á–∞—Å—Ç–æ –º–µ–Ω—è—è—Å—å. –•—É—Å–µ–π–Ω—É –∫–æ–ª–æ–ª–∏ –ø—Ä–æ–º–µ–¥–æ–ª. –ö–æ–≥–¥–∞ –º–∏–º–æ –Ω–∞—Å –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞, –æ–Ω —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è:
— –û—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –∑–∞—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –∫—Ä–æ–≤–∏?
— –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –•—É—Å–µ–π–Ω —Ä–∞–Ω–µ–Ω –≤ –Ω–æ–≥—É, –≤ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞.
— –ù–∞–¥–æ –ø—Ä–æ–º—ã—Ç—å —Ä–∞–Ω—ã –∏ –ø–µ—Ä–µ—Ç—è–Ω—É—Ç—å –Ω–æ–≥—É –∂–≥—É—Ç–æ–º –≤—ã—à–µ —Å–∞–º–æ–π –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–π, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å —è.
— –ñ–≥—É—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Ç—è–Ω—É–ª–∏, — –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞.
— –ê –µ—â—ë –Ω–∞–¥–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –≤ –∞–ø—Ç–µ—á–∫–∞—Ö —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–≤–æ—Å–ø–∞–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ, –∞–Ω—Ç–∏–±–∏–æ—Ç–∏–∫ –∫–∞–∫–æ–π-–Ω–∏–±—É–¥—å. –ò –≤–≤–µ—Å—Ç–∏ –µ–º—É, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —è –≤—ã–¥–∞–≤–∞—Ç—å –≤—Å–µ, –∏–º–µ—é—â–∏–µ—Å—è —É –º–µ–Ω—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Å—á—ë—Ç, —Å–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è.
–î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –∫–∏–≤–Ω—É–ª, –∏ —É–∂–µ –±—ã–ª–æ, —Å–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –∏–¥—Ç–∏ –≤–ø–µ—Ä—ë–¥, –Ω–æ —Å–∑–∞–¥–∏ —Ä–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –≤–∑—Ä—ã–≤. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –∏ –æ–±–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è.
— –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ, — –∑–∞–¥—É–º—á–∏–≤–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. –ù–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –¥–ª—è –Ω–∞—Å.
— –ß—Ç–æ —ç—Ç–æ, –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –í–∑–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è –ò—Å–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –û–Ω —à—ë–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –∏ –ø–æ–¥–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –º–∏–Ω–µ. –ï–≥–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Å—Ç–∏. –û–Ω –±—ã —É–º–µ—Ä —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å. –û—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –µ–º—É –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É –∏ —É—à–ª–∏. –û–Ω —Å–∞–º —Å–µ–±—è –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª.
— –ï–≥–æ –ø–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω—è—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –ù–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –∏ —É—à–µ–ª –≤–ø–µ—Ä—ë–¥ –∫ –Ω–æ—Å–∏–ª–∫–∞–º.
–ü–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –≤–µ—Å—å –æ—Ç—Ä—è–¥ —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –≤ —É—â–µ–ª—å–µ, —Ä–µ—à–µ–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–π –ø—Ä–∏–≤–∞–ª. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ —Å–∏–¥–µ–ª —É –Ω–æ—Å–∏–ª–æ–∫ –∏ —É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –¢–æ—Ç –º–æ—Ä—â–∏–ª—Å—è –∏ –ø—Ä–æ—Å–∏–ª –≤–∫–æ–ª–æ—Ç—å –µ–º—É –ø—Ä–æ–º–µ–¥–æ–ª. –ò –ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ø–∏—Ç—å.
–î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª —É –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –æ–∫—Ä—É–∂–∞–≤—à–∏—Ö –Ω–æ—Å–∏–ª–∫–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –¢–µ –º–æ—Ç–∞–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏ –∏ –æ—Ç—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ò–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ—Ç–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å. –¢–æ–≥–¥–∞ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫–æ –º–Ω–µ.
— –°–º–æ–∂–µ—à—å –ø—Ä–æ–º—ã—Ç—å —Ä–∞–Ω—ã? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –Ø –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞–ª, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –°–º–æ–∂–µ—à—å –∏–ª–∏ –Ω–µ—Ç? — –µ—â—ë —Ä–∞–∑ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞.
–î–ª—è –º–µ–Ω—è —ç—Ç–æ –±—ã–ª —Å–ª–æ–∂–Ω—ã–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å. –Ø –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏—Ç—å. –£–∂ –µ—Å–ª–∏ —è –Ω–µ –º–æ–≥—É —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ –¥–µ–ª–∞—é—Ç —É–∫–æ–ª, —Å—Ä–∞–∑—É –æ—Ç–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—é—Å—å, –ø–æ—ë–∂–∏–≤–∞—è—Å—å, —Ç–æ, –∫–∞–∫ –ø–æ–ª–µ–∑—É –≤ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—É—é —Ä–∞–Ω—É? –ù–æ –≤ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –∏–ª–∏ –Ω–µ —Ö–æ—á–µ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –ê –Ω–∞ –Ω–æ—Å–∏–ª–∫–∞—Ö —É–º–∏—Ä–∞–ª –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –°–º–æ–≥—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –¢–æ–≥–¥–∞, –≤—ã–º–æ–π —Ä—É–∫–∏, — –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ —É–∂–µ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª –≤ –±–∞–Ω–æ—á–∫–µ —Ñ—É—Ä–∞—Ü–∏–ª–∏–Ω.
–Ø –≤—ã–º—ã–ª —Ä—É–∫–∏ –∏ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–æ—Å–∏–ª–∫–∞–º. –£ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞ –±—ã–ª –ø—å—è–Ω—ã–π –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π –≤–∑–≥–ª—è–¥. –Ø —Å–±—Ä–æ—Å–∏–ª –Ω–∞–∫–∏–¥–∫—É —Å –Ω–æ–≥ –•—É—Å–µ–π–Ω–∞. –®—Ç–∞–Ω–∏–Ω–∞ –Ω–∞ –µ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–æ–π –Ω–æ–≥–µ –±—ã–ª–∞ —Ä–∞–∑—Ä–µ–∑–∞–Ω–∞. –°—Ç—É–ø–Ω—è –≤ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–µ –ª–µ–∂–∞–ª–∞ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ, –¥–µ—Ä–∂–∞—Å—å –Ω–∞ –∫–æ–∂–µ –∏ —Å—É—Ö–æ–∂–∏–ª–∏—è—Ö. –ù–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–π –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–æ–≥–∏ —è –Ω–∞—Å—á–∏—Ç–∞–ª —Å–µ–º—å –≥–ª—É–±–æ–∫–∏—Ö —Ä–∞–Ω. –í—ã—à–µ –∏—Ö, –ø–æ—á—Ç–∏ —É –ø–∞—Ö–∞, –Ω–æ–≥—É –ø–µ—Ä–µ—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª —Ä–µ–∑–∏–Ω–æ–≤—ã–π –∂–≥—É—Ç. –°—Ç–∞–ª –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –∏–∑ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–µ–π —Ä–∞–Ω—ã —Å–µ—Ä–æ-–∑–µ–ª—ë–Ω—É—é –≥–∞–¥–æ—Å—Ç—å –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø—Ä–æ–º—ã–≤–∞—Ç—å —Ñ—É—Ä–∞—Ü–∏–ª–∏–Ω–æ–º. –ß—Ç–æ–±—ã –±—ã–ª–æ —É–¥–æ–±–Ω–µ–µ, –¥–∞–ª—å—à–µ —Ä–∞–∑–æ—Ä–≤–∞–ª —à—Ç–∞–Ω–∏–Ω—É. –ê —Ç–∞–º, —É–∂–µ –≤—ã—à–µ –∂–≥—É—Ç–∞, –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –µ—â—ë –æ–¥–Ω—É, —Ç–∞–∫—É—é –∂–µ –≥–ª—É–±–æ–∫—É—é —Ä–∞–Ω—É. –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ —Ç–æ–∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –µ—ë.
— –Ø –Ω–∞—á–Ω—É —Å —ç—Ç–æ–π —Ä–∞–Ω—ã, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–µ –æ—á–µ–Ω—å —Ç–∏—Ö–æ.
— –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–µ–µ, — —Ç–∞–∫ –∂–µ —Ç–∏—Ö–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞, — –∏ –•—É—Å–µ–π–Ω—É –æ–± —ç—Ç–æ–º –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏.
–Ø —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–æ–º—ã–≤–∞—Ç—å –≤–Ω–æ–≤—å –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–µ–Ω–Ω—É—é —Ä–∞–Ω—É. –•—É—Å–µ–π–Ω –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –±–æ–ª—å, –Ω–æ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ —É–∂–µ –≤–≤–æ–¥–∏–ª –µ–º—É –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω—É—é –¥–æ–∑—É –ø—Ä–æ–º–µ–¥–æ–ª–∞.
— –ê, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –º–µ–Ω—è –•—É—Å–µ–π–Ω. — –í–æ—Ç —è –∏ –æ—Ç–≤–æ–µ–≤–∞–ª—Å—è, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä.
— –û—Å—Ç–∞–≤—å, –•—É—Å–µ–π–Ω, — —É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞–ª —è –µ–≥–æ, — —Ç—ã –µ—â—ë –≤—Å–µ—Ö –Ω–∞—Å –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–≤—ë—à—å!
— –ù–∞ –∫–æ—Å—Ç—ã–ª—è—Ö? — —ç—Ç–æ –±—ã–ª –Ω–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, —Ä–∞—Å—Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏–µ. — –ù–µ—Ç! –ù–∞ –∫–æ—Å—Ç—ã–ª—è—Ö –Ω–µ —Ö–æ—á—É.
— –ö–∞–∫–∏–µ –∫–æ—Å—Ç—ã–ª–∏, –•—É—Å–µ–π–Ω! — —è –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ–º—ã–≤–∞—Ç—å —Ä–∞–Ω—ã. — –í—Å—ë –∑–∞–∂–∏–≤–µ—Ç, –∏ –±—É–¥–µ—à—å –ø—Ä—ã–≥–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –Ω–æ–≤–µ–Ω—å–∫–∏–π!
— –Ø –ø–æ—Å–ª–∞–ª —Ä–µ–±—è—Ç –≤ —Å–µ–ª–æ, — –∏–∑ —É–≤–∞–∂–µ–Ω–∏—è –∫–æ –º–Ω–µ, –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏, —Ö–æ—Ç—è –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –∫ –•—É—Å–µ–π–Ω—É. — –ù–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ –∏–∑ —É—â–µ–ª—å—è –Ω–∞—Å –±—É–¥–µ—Ç –∂–¥–∞—Ç—å –º–∞—à–∏–Ω–∞. –°—Ä–∞–∑—É –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–º —Ç–µ–±—è –≤ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü—É. –°–∫–∞–∂–µ—à—å, –ø–æ–¥–æ—Ä–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –º–∏–Ω–µ –ø—Ä–∏ –ø–µ—Ä–µ–∫–æ–ø–∫–µ –æ–≥–æ—Ä–æ–¥–∞.
— –¢–∞–∫ –º–Ω–µ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –∏ –ø–æ–≤–µ—Ä—è—Ç! — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª –•—É—Å–µ–π–Ω.
— –ê —Ç—ã –ø—Ä–∏—Ç–≤–æ—Ä–∏—Å—å, —á—Ç–æ –≤–ø–∞–ª –≤ –±–µ—Å–ø–∞–º—è—Ç–Ω–æ–µ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ, — –ø–æ—Å–æ–≤–µ—Ç–æ–≤–∞–ª –µ–º—É –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞.
— –ü—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ! — –≤–æ—Å–ø—Ä—è–Ω—É–ª –¥—É—Ö–æ–º –•—É—Å–µ–π–Ω. — –ë—É–¥–µ–º –∂–∏—Ç—å! –ù–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–¥–æ –∏–¥—Ç–∏. –û—Ç—Å—é–¥–∞ –µ—â—ë –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å —Ç–æ–ø–∞—Ç—å.
–Ý–∞–Ω—ã —è —É–∂–µ –ø—Ä–æ–º—ã–ª, –Ω–∞–±–∏–ª –±–∏–Ω—Ç–∞–º–∏ –∏ –ø–µ—Ä–µ–±–∏–Ω—Ç–æ–≤–∞–ª –≤—Å—é –Ω–æ–≥—É. –•—É—Å–µ–π–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–∞–ø–µ–≤–∞–ª, –Ω–æ, –ø–æ-–º–æ–µ–º—É, —É–∂–µ –º–∞–ª–æ, —á—Ç–æ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª –∞–¥–µ–∫–≤–∞—Ç–Ω–æ.
— –ï–º—É –Ω–∞–¥–æ –¥–∞—Ç—å –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–≤–æ—Å–ø–∞–ª–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–µ. — –ó–∞—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ –∫—Ä–æ–≤–∏ — —ç—Ç–æ –≤–æ—Å–ø–∞–ª–µ–Ω–∏–µ. –ü—É—Å—Ç—å —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫–æ–π –∞–Ω—Ç–∏–±–∏–æ—Ç–∏–∫ –±—É–¥–µ—Ç –≤ –∫—Ä–æ–≤–∏.
— –£–∫–æ–ª–æ–≤ —Ç–∞–∫–∏—Ö —É –Ω–∞—Å –Ω–µ—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞. — –Ø –∏–º–µ—é –≤ –≤–∏–¥—É –ø–µ–Ω–∏—Ü–∏–ª–ª–∏–Ω. –î–∞, –Ω–µ—Ç –∏ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö. –ò –ø—Ä–æ–º–µ–¥–æ–ª –∫–æ–Ω—á–∞–µ—Ç—Å—è.
— –£ –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –∂–µ –µ—Å—Ç—å –∞–ø—Ç–µ—á–∫–∞, –∞ –≤ –Ω–µ–π –ø—Ä–æ–º–µ–¥–æ–ª, — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —è.
— –£ –Ω–∞—Å –µ—Å—Ç—å –ª—é–¥–∏, — —Å–∫—Ä–∏–≤–∏–ª—Å—è –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞, — –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–µ –ø—Ä–æ—á—å —É–∫–æ–ª–æ—Ç—å—Å—è –ø—Ä–æ–º–µ–¥–æ–ª–æ–º –≤ —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è. –í–æ—Ç –∏ –Ω–µ—Ç –ø—Ä–æ–º–µ–¥–æ–ª–∞!
–î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –∏–º–µ–Ω–∞, –∞ —è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∑–∂–µ —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Ä–µ–π–¥—ã –ø–æ –∞–ø—Ç–µ—á–∫–∞–º –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –ú—É—Å–ª–∏–º –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤.
— –ï—Å—Ç—å —Ç–∞–±–ª–µ—Ç–∫–∏, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞, — –Ω–æ —è –±–æ—é—Å—å –∏—Ö –¥–∞–≤–∞—Ç—å –•—É—Å–µ–π–Ω—É. –ò—Ö –Ω–∞–¥–æ –∑–∞–ø–∏–≤–∞—Ç—å, –∞ –µ–º—É –ø–∏—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è.
— –ù–æ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞! — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª —è. — –£ –Ω–µ–≥–æ –≤–µ–¥—å –Ω–µ –∫–∏—à–µ—á–Ω–∏–∫ —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—á–µ–Ω, –∞ –Ω–æ–≥–∞. –ü–æ—á–µ–º—É –∂–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è –ø–∏—Ç—å?
— –ü–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—á–µ–Ω –∏ –∫–∏—à–µ—á–Ω–∏–∫, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –æ—á–µ–Ω—å —Ç–∏—Ö–æ. –ò –≤–æ—Ç —Ç—É—Ç, –Ω–∏ —Ç—ã, –Ω–∏ —è –ø–æ–º–æ—á—å –µ–º—É —É–∂–µ –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ —Å–º–æ–∂–µ–º.
–ü—è—Ç—å –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤–¥–æ–ª—å —É—â–µ–ª—å—è –æ—Ç—Ä—è–¥ –ø—Ä–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —á–∞—Å–∞. –î–æ—Ä–æ–≥–∏ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –¥–∞ –µ—â—ë –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª—ã» –ú–∏-24. –û–¥–Ω–∞ –ø–∞—Ä–∞ –¥–∞–∂–µ –¥–∞–ª–∞ –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –≤–¥–æ–ª—å —É—â–µ–ª—å—è.
–ó–∞ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä –¥–æ —Å–µ–ª–∞ –æ—Ç—Ä—è–¥ –∂–¥–∞–ª–∞ «—Å–∫–æ—Ä–∞—è –ø–æ–º–æ—â—å» — —Å–µ—Ä—ã–π –£–ê–ó–∏–∫. –•—É—Å–µ–π–Ω–∞ –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ –≤ –Ω–µ–≥–æ –∏ —É–≤–µ–∑–ª–∏. –ï–º—É –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –∏–º–∏—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –±–µ—Å–ø–∞–º—è—Ç—Å—Ç–≤–æ. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ —Ç—Ä–∏ —á–∞—Å–∞ –æ–Ω –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ –æ—á–Ω—É–ª—Å—è.
–¢–æ—Ç –∂–µ —Å–∞–º—ã–π —Å–µ—Ä—ã–π –£–ê–ó–∏–∫ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞. –ó–∞ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞–¥ —Å–µ–ª–æ–º –¥–≤–∞–∂–¥—ã –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –±–æ–µ–≤—ã–µ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç—ã. –û—Ç—Ä—è–¥ –ø–æ —á–∞—Å—Ç—è–º –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–∑–∏–ª–∏ –≤ –±–æ–ª—å—à–æ–π –¥–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—Ç–æ—è–ª –æ—Å–æ–±–Ω—è–∫–æ–º –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ —Å–µ–ª–∞.
–Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å –≤ –¥–≤—É—Ö –±–æ–ª—å—à–∏—Ö –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∞—Ö. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã—Å–ø–∞—Ç—å—Å—è, –Ω–æ —Å–ø–∞—Ç—å –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ä—è–¥–æ–º –Ω–µ –±—ã–ª–æ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞, –∫ –Ω–∞–º –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Å–ø–∞–ª–∞. –Ø –ø—Ä–∏—Ç–≤–æ—Ä—è–ª—Å—è —Å–ø—è—â–∏–º. –û–Ω–∏ –ø–æ—à–∞—Ä–∏–ª–∏ —É –Ω–∞—Å –≤ —Ä—é–∫–∑–∞–∫–∞—Ö –∏ –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª–∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ —É –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∏–∑ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–æ–≤.
–ù–æ—á–µ–≤–∞–ª–∏ –≤ —ç—Ç–æ–º –∂–µ –¥–æ–º–µ.
–ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ –¥–Ω—è –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –î–∂–æ—Ö–∞—Ä. –û–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º, –∏ –≤—Å–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –º–æ–ª–∏—Ç—å—Å—è.
— –ß—Ç–æ —Å –•—É—Å–µ–π–Ω–æ–º, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è —É –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞.
— –°—Ç–∞–ª —à–∞—Ö–∏–¥–æ–º, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
–ü–æ—Å–ª–µ –ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–π –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã –∫ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä.
— –≠—Ç–æ –≤—Å—ë –∏–∑-–∑–∞ —Ç–µ–±—è, —Å—É—á–∫–∞, — –æ–Ω —É–¥–∞—Ä–∏–ª –°–≤–µ—Ç—É –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –∏ –æ–Ω–∞ —É–ø–∞–ª–∞. — –ò —Ç—ã —Ç–æ–∂–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–∏! — –±—Ä–æ—Å–∏–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä, –æ–±—Ä–∞—â–∞—è—Å—å –∫–æ –º–Ω–µ.
–ü–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –∏–Ω—Ü–∏–¥–µ–Ω—Ç–∞ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –æ—Ç–≤—ë–ª –Ω–∞—Å –≤ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–æ–π –∫ –¥–æ–º—É –∏ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ. –ó–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–æ –æ–∫–æ—à–∫–æ, —Å—Ç—É–ª—å—è. –ò, –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–æ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –±–µ–∑ —ç—Ç–æ–π –æ—Ç–º–æ—Ä–æ–∂–µ–Ω–Ω–æ–π –≥–Ω–∏–ª–∏. –ó–∞—Ö–æ–¥–∏–ª —Ö–æ–∑—è–∏–Ω. –£–≥–æ—Å—Ç–∏–ª —è–±–ª–æ–∫–∞–º–∏. –í —ç—Ç–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö —è–±–ª–æ–∫–∏ — —Ä–µ–¥–∫–æ—Å—Ç—å.
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –¥–Ω—è –∫ –¥–æ–º—É –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ —Ñ—É—Ä–∞. –ö–∞–º–ê–ó. –ü—Ä–∏—Ü–µ–ø –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–π, –∞ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–µ–Ω—Ç. –û—Ç—Ä—è–¥ —Å—Ç–∞–ª –∑–∞–≥—Ä—É–∂–∞—Ç—å—Å—è —Ç—É–¥–∞. –ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∏ –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞ –≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏—Å—å –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º–∏. –ö–∞–∫ —Å–µ–ª—å–¥–∏ –≤ –±–æ—á–∫–µ, —Å—Ç–æ—è–ª–∏, –ø—Ä–∏–∂–∞–≤—à–∏—Å—å –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É. –®–æ—Ñ—ë—Ä –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –¥–≤–µ—Ä–∏ —Å–Ω–∞—Ä—É–∂–∏. –°–≤–µ—Ç –ø—Ä–æ–Ω–∏–∫–∞–ª –≤–Ω—É—Ç—Ä—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω—ã–µ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏—è –≤–æ–∑–ª–µ –¥–≤–µ—Ä–∏. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏.
— –ù–µ –±–æ–π—Ç–µ—Å—å, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å—Ç–æ—è—â–∏–π —Ä—è–¥–æ–º –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — —Ç–∏—Ö–æ! –°–∫–æ—Ä–æ –ø–æ–µ–¥–µ–º —á–µ—Ä–µ–∑ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç—ã.
— –ö–∞–∫ –∂–µ –º—ã –ø–æ–µ–¥–µ–º —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ—Å—Ç—ã? — —É–¥–∏–≤–ª—ë–Ω–Ω–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –≠—Ç–æ –∑–∞–±–æ—Ç–∞ —à–æ—Ñ—ë—Ä–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –û–Ω –∑–Ω–∞–µ—Ç. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, –µ–º—É –∑–∞ —ç—Ç–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏–ª–∏.
— –ê –≤–¥—Ä—É–≥ –æ–±—ã—â—É—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ù—É, —Ç–æ–≥–¥–∞ –±–æ—è –Ω–µ –∏–∑–±–µ–∂–∞—Ç—å, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –¢—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, —Ü–µ–ª—ã–π –æ—Ç—Ä—è–¥ –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—Å—è —Å –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç–æ–º?
–Ø —Ç–∞–∫ –Ω–µ –¥—É–º–∞–ª. –ù–æ –µ—Å–ª–∏ –±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –≤–Ω—É—Ç—Ä—å —Ñ—É—Ä–≥–æ–Ω–∞ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É, –æ—Ç—Ä—è–¥ –±—É–¥–µ—Ç –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –≤—ã–≤–µ–¥–µ–Ω –∏–∑ —Å—Ç—Ä–æ—è.
–ü—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å. –ù–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å –∏ –∑–∞–ø–∏—Ö–Ω—É–ª–∏ –≤ —É–≥–æ–ª —É –¥–≤–µ—Ä–∏. –í —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∂–µ —Å–∞–º–æ–π –¥–≤–µ—Ä–∏ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã—Ö –∫ –±–æ—é —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–≤. –ü–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏ —Ç–∞–∫ –º–∏–Ω—É—Ç –¥–µ—Å—è—Ç—å –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏.
— –ï—Å—Ç—å! — –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä. — –ï—Å—Ç—å –æ–¥–∏–Ω –ø–æ—Å—Ç!
–í—Ç–æ—Ä–æ–π –ø–æ—Å—Ç –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –µ—â—ë –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ. –í—Å–∫–æ—Ä–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Ñ—É—Ä–∞ —Å—Ç–æ–∏—Ç –≤–æ –¥–≤–æ—Ä–µ –¥–æ–º–∞ —à–æ—Ñ—ë—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–∞—Å –≤—ë–∑. –¢–∞–º –º—ã –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª–∏ —Å—É—Ç–∫–∏. –ó–∞ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —è –ø–æ—á–∏–Ω–∏–ª —à–æ—Ñ—ë—Ä—É —Å–∞–ø–æ–≥–∏. –ò —á—Ç–æ-—Ç–æ –µ—â—ë —á–∏–Ω–∏–ª.
–£–∂–µ –≤ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–∏—Ö —Å—É–º–µ—Ä–∫–∞—Ö —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–≥–æ –¥–Ω—è –æ—Ç—Ä—è–¥ –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏–ª—Å—è –≤ —Ç—É –∂–µ —Ñ—É—Ä—É. –ï—Ö–∞–ª–∏ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –í—ã–π–¥—è –∏–∑ –ø—Ä–∏—Ü–µ–ø–∞, —è —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è. –ú—ã –±—ã–ª–∏ –≤ —á–∏—Å—Ç–æ–º –ø–æ–ª–µ. –û—Ç –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞ –¥–æ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–∞ — —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≥–¥–µ-—Ç–æ –¥–∞–ª–µ–∫–æ –Ω–∞ —é–≥–µ, –≤ –¥—ã–º–∫–µ, —É–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –≥–æ—Ä—ã.
–î–∞–ª—å—à–µ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä —à–ª–∏ –ø–æ –∞—Ä—ã–∫–∞–º –≤–¥–æ–ª—å –ø–æ–ª–µ–π. –ü–æ–ª—è –±—ã–ª–∏ –∑–∞–ø—É—â–µ–Ω—ã, –∞—Ä—ã–∫–∏ — –ø—É—Å—Ç—ã. –ß–∞—Å–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –≤—ã—à–ª–∏ –∫ —Å—Ç—Ä–æ–π–∫–µ –∏–ª–∏ —Ü–µ–º–µ–Ω—Ç–Ω–æ–º—É –∑–∞–≤–æ–¥—É. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä —É—à—ë–ª –≤ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É –∏ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª –Ω–∞ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–µ. –°—Ç—Ä—ë–º–Ω—ã–π —Ç–∞–∫–æ–π –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å: –∫—Ä—É–≥–ª—ã–π –∏ –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–π. –¢–∞–∫–∏—Ö —É–∂–µ –Ω–µ—Ç. –ê —ç—Ç–æ—Ç —á—É–¥–æ–º —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏–ª—Å—è —É –∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –≤ —á–∞—Å—Ç–Ω–æ–º —Ö–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ. –ì–ª—è–¥—è –Ω–∞ —ç—Ç–æ —á—É–¥–æ, —è —Ç—É—Ç –∂–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –∫–∞–¥—Ä—ã –∏–∑ –∫–∏–Ω–æ «–ü–æ–¥–∫–∏–¥—ã—à» —Å –¥–æ–≤–æ–µ–Ω–Ω–æ–π –ú–æ—Å–∫–≤–æ–π –∏ –∑–Ω–∞–º–µ–Ω–∏—Ç–æ–π —Ñ—Ä–∞–∑–æ–π –Ý–∞–Ω–µ–≤—Å–∫–æ–π –§–∏–ª–∏–ø–ø–æ–≤—É: «–ú—É–ª—è, –Ω–µ –Ω–µ—Ä–≤–∏—Ä—É–π –º–µ–Ω—è!»
–ê–≤—Ç–æ–±—É—Å –ø—Ä–∏–≤—ë–∑ –Ω–∞—Å –∫ —Ç—Ä—ë—Ö—ç—Ç–∞–∂–Ω–æ–º—É —á–∞—Å—Ç–Ω–æ–º—É –¥–æ–º—É —É —Ä–µ–∫–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–±—É—Å–∞, —Ä—è–¥–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä —Å –∫–∞–∫–∏–º-—Ç–æ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–º –±–æ–Ω–∑–æ–π. –°–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ, –∫—Ä–∞—Å—É—è—Å—å, –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –¥–∞–ª –ø–∏–Ω–∫–∞ –∏ –º–Ω–µ, –∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–æ–≤–æ–µ –≤ –µ–≥–æ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–∏.
–í–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ —Ä–µ–∫–∏ –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç. –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–∞ –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤–∞ –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –®–∏—Ä–∏–Ω–∞ —Ä–µ–∫–∏ — –æ–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ú—É—Å–ª–∏–º —Ä–∞–∑–¥–µ–ª—Å—è –¥–æ —Ç—Ä—É—Å–æ–≤, –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –∏ –≤–µ—â–∏ –ø–æ–¥–Ω—è–ª –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö –≤–≤–µ—Ä—Ö –∏ –ø—Ä–æ—à—ë–ª –Ω–∞ —Ç–æ—Ç –±–µ—Ä–µ–≥. –í —Å–∞–º–æ–º –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –≤–æ–¥–∞ –µ–¥–≤–∞ –¥–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –µ–º—É –¥–æ –≥—Ä—É–¥–∏. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Ä–µ—á–∫—É –æ–¥–µ—Ç—ã–º–∏ –∏ –Ω–∞ —Ç–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É –æ—Ç–∂–∏–º–∞–ª–∏ –æ–¥–µ–∂–¥—É.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä, — –Ω–∞–¥–æ –±—ã –¥–∞–º—É –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —Ç–æ—Ç –±–µ—Ä–µ–≥. –ù–µ –±—É–¥–µ—Ç –∂–µ –æ–Ω–∞ –æ—Ç–∂–∏–º–∞—Ç—å –±–µ–ª—å—ë, –∫–∞–∫ —ç—Ç–∏ –º—É–∂–ª–∞–Ω—ã.
–í—Å–µ —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª–∏—Å—å. –Ø –¥—É–º–∞–ª, –æ–Ω —à—É—Ç–∏—Ç, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ—Ç. –ï–º—É –±—ã —Å—Ä–∞–∑—É —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –≤ —Ä–µ—á–∫–µ —Å–∏–ª—å–Ω–æ–µ, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –º–æ–∂–µ—Ç –∑–∞–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–Ω–µ—Å—Ç–∏ –≤ —à–∏—Ä–æ–∫–æ–π –∫—É—Ä—Ç–∫–µ, –≤–∞—Ç–Ω—ã—Ö —à—Ç–∞–Ω–∞—Ö –∏ —Å–∞–ø–æ–≥–∞—Ö. –ß—Ç–æ, –ø–æ—Å–∞–¥–∏–≤ –Ω–∞ –º–æ–∏ –ø–ª–µ—á–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É —Å –º–æ–∏–º —Ä—é–∫–∑–∞–∫–æ–º, –æ–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —É—Ç—è–∂–µ–ª–∏–ª –±—ã –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—é. –£—Ç—è–∂–µ–ª–∏–ª, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞—Å –Ω–µ —Å–Ω–µ—Å–ª–æ. –ù–æ –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª.
–°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ª–µ—Å
–Ø –≤–æ—à—ë–ª –≤ –≤–æ–¥—É. –ù–∞ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –°–≤–µ—Ç—É. –ü–æ—à–ª–∏. –°—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –ø–æ—Ç–æ–∫ –≤–æ–¥—ã –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª –¥–µ–ª–∞—Ç—å —à–∏—Ä–æ–∫–∏–µ —à–∞–≥–∏. –ú–µ—à–∞–ª–∏ –∏ –∫–∞–º–Ω–∏ –Ω–∞ –¥–Ω–µ. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Å–Ω—è—Ç—å —à–∞—Ä–æ–≤–∞—Ä—ã. –ü–∞—Ä—É—Å–Ω–æ—Å—Ç—å –º–æ–µ–π –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏–∏ –±—ã–ª–∞ —Å–ª–∏—à–∫–æ–º –≤–µ–ª–∏–∫–∞. –Ø –æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–π —Å—Ç—Ä–µ–º–Ω–∏–Ω–µ, –∏ –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—è —É–ø–∞–ª–∞. –õ–∞–¥–Ω–æ, —Ö–æ—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —É—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∞ –º–µ–Ω—è –∑–∞ —à–∏–≤–æ—Ä–æ—Ç –∏ –Ω–µ –¥–∞–ª–∞ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—é —É–Ω–µ—Å—Ç–∏ —Å –±—Ä–æ–¥–∞ –≤ –≥–ª—É–±–∏–Ω—É. –Ø –±—ã –∑–∞–ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —É—Ç–æ–Ω—É–ª –≤ —Å–≤–æ—ë–º –±–∞–ª–∞—Ö–æ–Ω–Ω–æ–º –Ω–∞—Ä—è–¥–µ. –ú—ã –≤—ã—à–ª–∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –º–æ–∫—Ä—ã–µ. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–∏ –ø–æ –ø–∏–Ω–∫—É –æ—Ç –î–∂–æ—Ö–∞—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —É–∂–µ –≤—ã–∂–∏–º–∞–ª –æ–¥–µ–∂–¥—É, –Ω—É –∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –æ—Ç –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º. –¢–æ–≥–¥–∞ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Ç–∞–∫ –≤—Ä–µ–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É —Å–≤–æ–∏–º –∫—É–ª–∞—á–∏—â–µ–º, —á—Ç–æ —è –Ω–∞ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫—É. –û—Ç–∂–∞—Ç—å –æ–¥–µ–∂–¥—É –Ω–∞–º –Ω–µ –¥–∞–ª–∏.
–®–ª–∏ –ø–æ –±–æ–ª–æ—Ç–∞–º –∫ –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –∑–æ–Ω–µ –∫–∞–∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –∏–ª–∏ –±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ —Å–µ–ª–∞. –î–æ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ —Ç—Ä–∏. –û—Ç —è—Ä–∫–æ–≥–æ –æ—Å–≤–µ—â–µ–Ω–∏—è –∏ –Ω–∏–∑–∫–æ–π –æ–±–ª–∞—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞–¥ –≥–æ—Ä–æ–¥–æ–º –≤–∏—Å–µ–ª–æ –∑–∞—Ä–µ–≤–æ. –ö–∞–∂–¥—É—é –º–∏–Ω—É—Ç—É –≤ –Ω–µ–±–µ –ø–æ–≤–∏—Å–∞–ª–∞ –æ—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —Ä–∞–∫–µ—Ç–∞. –¢–æ–≥–¥–∞ –≤–µ—Å—å –æ—Ç—Ä—è–¥ –ø—Ä–∏—Å–µ–¥–∞–ª –∏ –Ω–µ –¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ. –ó–∞—Ç–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –æ—Å–≤–µ—â–∞–ª—Å—è –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–∏–π —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –ø—É—Ç–∏.
–°–∫–æ—Ä–æ –≤—ã—à–ª–∏ –∫ –∫–∞—Ä—å–µ—Ä–∞–º, –º–µ–ª–∫–∏–º —Ç–µ—Ä—Ä–∏–∫–æ–Ω–∞–º, –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–º –ø—É—Ç—è–º –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ –∂–∏–ª–æ–≥–æ –º–∞—Å—Å–∏–≤–∞ —Ñ–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –¥–æ–º–æ–≤. –í —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ –¥–≤—É—Ö —á–∞—Å–æ–≤ –±–µ–≥–∞–ª–∏ —Ç–æ –æ—Ç –ë–¢–Ý–∞, –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ, —Ç–æ –æ—Ç –º–∞—à–∏–Ω. –ó–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –æ–±–æ—Ä–æ–Ω—É, –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Å –º–µ—Å—Ç–∞ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã–µ –ø—É—Ç–∏, –∏ –ø–æ—à–ª–∏ –ø–æ –Ω–∏–º.
–®–ª–∏, —É–¥–∞–ª—è—è—Å—å –æ—Ç –ø—Ä–æ–º—ã—à–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –∑–æ–Ω—ã, –ø–æ –±—É–µ—Ä–∞–∫–∞–º. –õ–µ—Å —Ç–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è —Å–ø—Ä–∞–≤–∞, —Ç–æ –ø—Ä–æ–ø–∞–¥–∞–ª. –ù–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–∞—è —Ç–µ–º–µ–Ω—å. –ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –∏–¥—Ç–∏ –≤ —Å–≤–æ–∏—Ö –º–æ–∫—Ä—ã—Ö —Å–∞–ø–æ–≥–∞—Ö, –Ω–æ –æ –ø—Ä–∏–≤–∞–ª–µ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ —è —Ç–µ—Ä—è–ª –∏–∑ –≤–∏–¥—É –∏–¥—É—â–µ–≥–æ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞. –°–≤–µ—Ç–∞ —à–ª–∞ –∑–∞ –º–Ω–æ–π. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –º—ã –∏–¥—ë–º –ø–æ –∫—Ä–∞—é –æ–±—Ä—ã–≤–∞, –∏ –≤–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å —Å–¥–µ–ª–∞–π —à–∞–≥ –≤–ø—Ä–∞–≤–æ — –∏ —É–ø–∞–¥—ë—à—å –≤ –±–µ–∑–¥–Ω—É. –û–¥–Ω–æ –≤—Ä–µ–º—è –º–Ω–µ —á—É–¥–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –≤–Ω–∏–∑—É –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç —à–æ—Å—Å–µ. –ù–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, —á—Ç–æ –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª–æ—Å—å –≤ —ç—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–µ — –±–µ–ª–∞—è –ª–µ–Ω—Ç–æ—á–∫–∞ –∏–ª–∏ –ª—è–º–æ—á–∫–∞ –Ω–∞ –∫—É—Ä—Ç–∫–µ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞. –Ø –æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ –Ω–µ–π. –ù–∏—á–µ–≥–æ, –∫—Ä–æ–º–µ –ª–µ–Ω—Ç–æ—á–∫–∏, –≤ —ç—Ç–æ–º –º–∏—Ä–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–£–∂–µ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ–ª–æ, –∞ –º—ã –≤—Å—ë —à–ª–∏ –∫–∞–∫–∏–º–∏-—Ç–æ –±–æ–ª–æ—Ç–∞–º–∏ –≤–¥–æ–ª—å –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–π —Ä–µ—á–∫–∏. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –¥–æ–º–∞, –∏ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è –±–µ–∂–∞—Ç—å –∏–ª–∏ —Å–∏–¥–µ—Ç—å –¥–æ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–π –Ω–æ—á–∏.
–ü–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏. –°–≤–µ—Ç–∞ –æ—Ç—Å—Ç–∞–ª–∞. –ï—ë –ø–æ–¥—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞–ª–∏, –∞ –º–Ω–µ –≤–µ–ª–µ–ª–∏ –¥–æ–≥–æ–Ω—è—Ç—å –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö –∏ –¥–∞–ª–∏ –µ—â—ë –≤ —Ä—É–∫–∏ –ø—É—Å—Ç–æ–µ –≤–µ–¥—Ä–æ. –Ø —É–∑–Ω–∞–ª —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ. –®–∞–∞–º–∏-–Æ—Ä—Ç. –í–æ–Ω —Ç–∞–º –∑–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º –¥–æ–º–æ–º –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç —Ç—Ä–∞—Å—Å–∞ –Ý–æ—Å—Ç–æ–≤-–ë–∞–∫—É. –ü–æ –Ω–µ–π –ø—Ä–æ—à–ª—ã–º –ª–µ—Ç–æ–º —è —É—Ö–æ–¥–∏–ª –æ—Ç –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –Ω–∞ –ë–ú–í. –û–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –º—ã, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—ë–º.
–ü—Ä–æ—à–ª–∏ –≤ –æ–≤—Ä–∞–∂–∫–µ —É —Ä–µ–∫–∏ –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –æ–¥–Ω—É –∏–∑ —É–ª–∏—Ü. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏–∑ –ª–µ—Å–∞ —Å–ª–µ–≤–∞ –ø—Ä–æ–∑–≤—É—á–∞–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–æ–≤.
— –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –æ—Ö–æ—Ç—è—Ç—Å—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
–ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Ä–∞—Å—Å–∞—Å—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ —É–ª–∏—Ü–∞–º. –ú—ã –≤–æ—à–ª–∏ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä –∫–∞–∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –¥–æ–º–∞, —Ä–∞–∑—É–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –ø–æ—Ä–æ–≥–µ –∏ –Ω–∞—Å –≤–ø–∏—Ö–Ω—É–ª–∏ –≤ –ø–æ—á—Ç–∏ —Ç—ë–º–Ω—É—é –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–∫—É, –≤—Ä–æ–¥–µ —á—É–ª–∞–Ω–∞. –¢—É–¥–∞ –∂–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞.
–í–µ—Ä—Ö–Ω—é—é –æ–¥–µ–∂–¥—É —Ä–∞–∑–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—É—à–∫—É. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–∞—è –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–æ—Ö–Ω—É—Ç—å –Ω–∞ –Ω–∞—Å. –í –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ –ø–æ–ª–Ω–æ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü–µ–≤, –æ–¥–µ—è–ª, –ø–æ–¥—É—à–µ–∫. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å —É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å—Å—è, –Ω–æ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º. –û–Ω–∏ –æ–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏, –∑–∞—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–≤ –∏—Ö –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π. –ù–∞–º —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –≤ –ø—Ä–∏–¥–∞—á—É —Å–≤—è–∑–∞–ª–∏ –Ω–æ–≥–∏, –∞ –µ–º—É –µ—â—ë –∏ –∫–ª—è–ø –≤ —Ä–æ—Ç –∑–∞—Å—É–Ω—É–ª–∏. –í–æ—Ç, –≥–Ω–∏–¥—ã! –ò —É—à–ª–∏.
–ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –ø—Ä–∏—à—ë–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å. –û–Ω —Å–Ω—è–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–Ω–µ –∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ü–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –Ω–µ —à—É–º–µ—Ç—å. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –æ–Ω —Ç—Ä–æ–≥–∞—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª. –≠—Ç–æ –±—ã–ª –Ω–µ –µ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ö–æ–≥–¥–∞ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä —É—à—ë–ª, —è –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª —É –Ω–µ–≥–æ –∫–ª—è–ø. –î–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä –Ω–µ –º–æ–≥—É –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –∫–∞–∫ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –º–æ–≥ —Å–ø–∞—Ç—å, –≤–µ–¥—å, –∫—Ä–æ–º–µ –ø—Ä–æ—á–µ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ–º—É—á–∏—Ç—å, —ç—Ç–∏ —Å–≤–æ–ª–æ—á–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ –µ–º—É «–ª–∞—Å—Ç–æ—á–∫—É» — —Å–≤—è–∑–∞–ª–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Ä—É–∫–∏ –∏ –Ω–æ–≥–∏ –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π.
–î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–≤—è–∑–∞–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —É—Ç—Ä–æ–º, –¥–∞–≤ –ø–æ —à–µ–µ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤—ã–ø–ª—é–Ω—É–ª –∫–ª—è–ø.
–ù–∏ –∑–∞ —á—Ç–æ, –Ω–∏ –ø—Ä–æ —á—Ç–æ, –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –∏ –Ω–∞–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –£—Ö–æ–¥—è, –ê–Ω–∑–æ—Ä –∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏ –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –µ–º—É –∑–Ω–∞–∫–∏ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏.
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –¥–æ–ª–≥–æ —Ç—ë—Ä –∑–∞—Ç—ë–∫—à–∏–µ —Ä—É–∫–∏ –∏ –Ω–æ–≥–∏. –û–Ω –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª —Ç–æ –Ω–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É, —Ç–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –ù–æ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ö–∞–ª –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—Ç–∏—Ä–∞–ª —Ä—É–∫–∏.
–í –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª–∏ —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –∏ —Ö–æ–∑—è–π–∫–∞ –¥–æ–º–∞. –û–Ω–∏ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ –Ω–∞–º –±—É—Ç–µ—Ä–±—Ä–æ–¥—ã —Å –∂–∞—Ä–µ–Ω–æ–π —á–µ—Ä–µ–º—à–æ–π. –ß–µ—Ä–µ–º—à–∞ — —ç—Ç–æ —Ç–∞–∫–∞—è —Ç—Ä–∞–≤–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ä–∞—Å—Ç—ë—Ç –Ω–∞ –∑–∞–±–æ–ª–æ—á–µ–Ω–Ω—ã—Ö –∏–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –≤–ª–∞–∂–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö. –°–æ–±–∏—Ä–∞—é—Ç –µ—ë —Ä–∞–Ω–Ω–µ–π –≤–µ—Å–Ω–æ–π, –≤—ã–±–∏—Ä–∞—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π —Å—Ç–µ–±–µ–ª—å. –ü–∞—Ö–Ω–µ—Ç —á–µ—Å–Ω–æ–∫–æ–º. –ù–∞ –º–æ—Å–∫–æ–≤—Å–∫–∏—Ö —Ä—ã–Ω–∫–∞—Ö –∫–∏–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º —á–µ—Ä–µ–º—à–∏ –æ—Ü–µ–Ω–∏–≤–∞–ª—Å—è —Ç–æ–≥–¥–∞ –≤ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ —Ä—É–±–ª–µ–π.
–ü–æ–∫–∞ –º—ã –µ–ª–∏, –≤ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç—É —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä. –Ø –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ–±–ª–µ–¥–Ω–µ–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –£ –Ω–µ–≥–æ –∫—É—Å–æ–∫ –≤ –≥–æ—Ä–ª–µ –∑–∞—Å—Ç—Ä—è–ª.
— –ê, —á–µ—Ä–µ–º—à–æ–π –ª–∞–∫–æ–º–∏—Ç–µ—Å—å, — –ê–Ω–∑–æ—Ä –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã–∫–∞—Ç–∏–ª –≥–ª–∞–∑–∞.
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Å–¥–µ–ª–∞–ª —Ä—É–∫–æ–π —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å: «–û–±–æ–∂–¥–∏—Ç–µ, –Ω–µ –≤—Å—ë —Å—Ä–∞–∑—É…»
–ê–Ω–∑–æ—Ä –ø—Ä–æ–¥–µ–∫–ª–∞–º–∏—Ä–æ–≤–∞–ª —Ç–æ—Ä–≥–æ–≤—É—é –∑–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∫—É:
«–ü–æ–¥–±–µ–≥–∞–π, –Ω–µ —Å–ø–µ—à–∞,
–î–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–π —Å–≤–æ–∏ –≥—Ä–æ—à–∞.
–ü–æ–∫—É–ø–∞–π —á–µ—Ä–µ–º—à–∞!
–°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π —á–µ—Ä–µ–º—à–∞».
–ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—è—è —Å—Ç—Ä–æ—á–∫–∞, —Ö–æ—Ç—è —É–¥–∞—Ä–µ–Ω–∏–µ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—É—é «–∏» –≤ —Å–ª–æ–≤–µ «–°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π», —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –≤—ã–¥–∞–≤–∞–ª–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –≥–µ–æ–≥—Ä–∞—Ñ–∏—é –∑–¥–µ—à–Ω–∏—Ö –º–µ—Å—Ç. –ê–Ω–∑–æ—Ä –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–ª —Ä–æ—Ç —Ä—É–∫–æ–π, –µ—â—ë —Ä–∞–∑ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –∏ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª –∑–∞ –¥–≤–µ—Ä—å.
— –í—Å—ë! — —Ç–∏—Ö–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –ù–∞–¥–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å.
–ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –º–æ–ª—á–∞–ª–∏. –¢—Ä–∏ –¥–Ω—è –Ω–∞–∑–∞–¥ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —É–∂–µ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —É–±–µ–∂–∞—Ç—å –∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –≤—ã—à–ª–æ.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ, — —Ç—ã –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –º–Ω–µ –ø–æ–º–æ—á—å.
— –í–∏—Ç—è, –Ω–µ —Å–ª—É—à–∞–π –µ–≥–æ! — –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç—É—Ç –∂–µ –ø—Ä–µ—Å–µ—á—å —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä.
— –ß—Ç–æ –≤—ã –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–µ—Ç–µ, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –∏–∑ –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–∞. –ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ —Å–ª—É—à–∞—Ç—å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –Ø –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–π –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—Å—ã–ª–∫–∏ –∫ –ø–æ–±–µ–≥—É.
— –ú—ã —É–±–µ–∂–∏–º —á–µ—Ä–µ–∑ –æ–∫–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –°–º–æ—Ç—Ä–∏, –µ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å!
–ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ, –æ–∫–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã—à–µ, —á–µ–º –Ω–∞–ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É –∑–∞–≤–∞–ª–µ–Ω–æ —Ö–ª–∞–º–æ–º. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑–±–æ—Ä –∑–∞–≤–∞–ª–æ–≤ –∑–∞–Ω—è–ª –±—ã –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –ø–æ–ª—É—á–∞—Å–∞. –ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, –æ–∫–Ω–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –≤–æ –¥–≤–æ—Ä —ç—Ç–æ–≥–æ –∂–µ –¥–æ–º–∞.
— –ö–∞–∫ –≤—ã –¥—É–º–∞–µ—Ç–µ, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ, — –∫—É–¥–∞ –º—ã –ø–æ–ø–∞–¥—ë–º —á–µ—Ä–µ–∑ —ç—Ç–æ –æ–∫–Ω–æ?
— –ö–∞–∫ –∫—É–¥–∞? — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –ù–∞ —É–ª–∏—Ü—É.
— –ê –¥–∞–ª—å—à–µ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ú—ã –ø–æ–±–µ–∂–∏–º –∫ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–º—É –≤–æ–æ—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω–æ–º—É –ø–æ—Å—Ç—É, — –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ —Å–∞–º —ç—Ç–æ –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª.
— –ê –≤—ã –∑–Ω–∞–µ—Ç–µ, –≥–¥–µ —ç—Ç–æ—Ç –ø–æ—Å—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –î–∞ –µ–≥–æ –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç —Ä–∞–Ω—å—à–µ, —á–µ–º –æ–Ω –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∏—Ç —Å—Ç–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞—Å–µ–ª—ë–Ω–Ω—ã–π –ø—É–Ω–∫—Ç, –∑–∞–Ω—è—Ç—ã–π —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–∏–º–∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞–º–∏, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –ú–æ–∂–Ω–æ –∑–∞–±–µ–∂–∞—Ç—å –≤ –ª—é–±–æ–π –¥–æ–º –∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –æ –ø–æ–º–æ—â–∏.
— –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —É—Ç—Ä–æ–º —Ü–µ–ª—ã–π –≤–æ–æ—Ä—É–∂—ë–Ω–Ω—ã–π –æ—Ç—Ä—è–¥ –≤–æ—à—ë–ª –≤ —Å–µ–ª–æ –∏ –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Ä–æ—Å—Å–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞. –ö–∞–∫ –≤—ã –∏—Ö –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω—ã –∏—Å–∫–∞—Ç—å?
— –û–ø—ã—Ç –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è –∫ –ª—é–¥—è–º —É –Ω–∞—Å —Ç–æ–∂–µ –µ—Å—Ç—å, — –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª —è. — –ù–∞—Å —Ç—É—Ç –∂–µ —Å–¥–∞–¥—É—Ç –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º.
— –í—ã –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—Ç–µ! — –Ω–∞—Å—Ç–∞–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ —Å–≤–æ—ë–º –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –ú—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è –≤ —Å–µ–ª–µ —Ä—è–¥–æ–º —Å –±–æ–ª—å—à–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π. –ó–¥–µ—Å—å –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å –±–ª–æ–∫–ø–æ—Å—Ç.
–Ø, –±—ã–ª–æ, —Ö–æ—Ç–µ–ª —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –∑–Ω–∞—é –¥–∞–∂–µ –Ω–∞–∑–≤–∞–Ω–∏–µ —Å–µ–ª–∞, –Ω–æ –æ—Å—ë–∫—Å—è. –Ø —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—É –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é —Å–≤–æ–µ–≥–æ –ø–æ–±–µ–≥–∞ –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö. –û–Ω –Ω–µ –º–æ–≥ –Ω–µ –∑–Ω–∞—Ç—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∫ –ª—é–¥—è–º –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ–ª—å–∑—è. –Ø, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö —á–∞—Å–æ–≤, –ø—Ä–æ–≤–µ–¥—ë–Ω–Ω—ã—Ö –≤ —Å–≤—è–∑–∞–Ω–Ω–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏, –º–æ–∂–Ω–æ –∏ –Ω–µ –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–µ –æ—Ç—á–∞—è—Ç—å—Å—è. –ù–æ –ø–æ—á–µ–º—É –æ–Ω –ø—Ä–∏–≤–ª–µ–∫–∞–µ—Ç –∫ —ç—Ç–æ–º—É –Ω–∞—Å? –í–µ–¥—å –Ω–µ –∏–∑-–∑–∞ —Ç–æ–≥–æ –∂–µ, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –º—ã —Å–∏–¥–∏–º –≤ –æ–¥–Ω–æ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ.
–ò —Ç—É—Ç —è –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é —Å –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–π. –ù–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã –Ω–µ –º–æ–≥ –∑–Ω–∞—Ç—å –ø—Ä–æ —É—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω—É—é –º–Ω–æ–π –±–∞–Ω–æ—á–∫—É –ø–∞—à—Ç–µ—Ç–∞. –ù–æ –≤ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –æ –ø—Ä–æ–ø–∞–∂–µ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä—É, –∫ –Ω–∞—à–µ–º—É –∫–æ—Å—Ç—Ä—É –∑–∞ —É–≥–ª—è–º–∏ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –í—Å—ë —ç—Ç–æ –≤ —Å–æ–≤–æ–∫—É–ø–Ω–æ—Å—Ç–∏ –º–Ω–µ –Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å. –ê –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª:
— –Ø –±—ã –º–æ–≥ –æ–±–æ–π—Ç–∏—Å—å –∏ –±–µ–∑ –≤–∞—Å, –Ω–æ –º–Ω–µ –Ω—É–∂–µ–Ω —Ç—ã, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä. –¢—ã —É–º–µ–µ—à—å –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è —Å –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º, –∞ —è –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Å–ª—É–∂–∏–ª –≤ –∞—Ä–º–∏–∏.
— –ü—Ä–∏ —á—ë–º —Ç—É—Ç –æ—Ä—É–∂–∏–µ, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è —É–¥–∏–≤–ª—ë–Ω–Ω–æ. — –£ –≤–∞—Å –µ—Å—Ç—å –æ—Ä—É–∂–∏–µ?
— –ù–µ—Ç, –Ω–æ —è –∑–Ω–∞—é, –≥–¥–µ –µ–≥–æ –º–æ–∂–Ω–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å, — –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —É–∂–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –≤ —É–≥–æ–ª–∫–∞—Ö –µ–≥–æ –≥—É–± —Å–∫–∞–ø–ª–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å–ª—é–Ω–∞. — –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç—Å—é–¥–∞!
–û–Ω –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –æ–∫–Ω—É –∏ —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å–∫–∏–¥—ã–≤–∞—Ç—å –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º –ø–æ–¥—É—à–∫–∏ –∏ –º–∞—Ç—Ä–∞—Ü—ã.
— –û–Ω –Ω–∞—Å –ø–æ–≥—É–±–∏—Ç, –í–∏—Ç—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –ù–∞—Å –æ–±–≤–∏–Ω—è—Ç –≤—Å–µ—Ö.
— –ü—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏—Ç–µ –∏—Å—Ç–µ—Ä–∏–∫—É, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, — —è –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å –µ–≥–æ –∏ —Å—Ç–∞–ª —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å –≤–µ—â–∏ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–∞. — –°–∫–∞–∂–∏—Ç–µ –ª—É—á—à–µ, –≥–¥–µ –≤—ã –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω—ã –≤–∑—è—Ç—å –æ—Ä—É–∂–∏–µ?
— –Ø –Ω–µ –º–æ–≥—É –≤–∞–º —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å! — –æ—Ç—Ä–µ–∑–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
— –ù–æ –≤–µ–¥—å –≤—ã –æ–±—Å—É–∂–¥–∞–µ—Ç–µ —Å –Ω–∞–º–∏ –ø–ª–∞–Ω –ø–æ–±–µ–≥–∞, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è, — –æ –∫–∞–∫–∏—Ö —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–∞—Ö –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞–º–∏ –º–æ–∂–µ—Ç –∏–¥—Ç–∏ —Ä–µ—á—å? –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, –æ—Ä—É–∂–∏–µ –≤—ã —Ö–æ—Ç–∏—Ç–µ –¥–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç—å –º–Ω–µ.
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –Ω–µ—Ä–≤–Ω–æ —Ö–æ–¥–∏–ª –ø–æ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ. –ú—ã –¥–∞–∂–µ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤–æ—à—ë–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. –û–Ω —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ.
— –ö–æ–≥–¥–∞ –≤—ã –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å –±–µ–∂–∞—Ç—å? –û—Ç–≤–µ—á–∞–π!
— –ú—ã –Ω–∏ –æ —á—ë–º –Ω–µ –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –ö–∞–∫ –∂–µ –Ω–µ –¥–æ–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å? — –ò–ª—å–º–∞–Ω —Ö–∏—Ç—Ä–æ —É—Å–º–µ—Ö–Ω—É–ª—Å—è.
— –°–≤–µ—Ç–∞, –æ —á—ë–º –æ–Ω–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏?
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞, — —è –Ω–µ –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å.
— –ì–æ–≤–æ—Ä–∏, — —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–µ–∑–∂–∞–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –ò–ª—å–º–∞–Ω, — –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —É –Ω–µ–≥–æ –µ—Å—Ç—å –æ—Ä—É–∂–∏–µ?
–ù–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á–µ–º –±—ã –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è —ç—Ç–æ—Ç –ø–ª–æ—Ö–æ–π —Å–ø–µ–∫—Ç–∞–∫–ª—å, –µ—Å–ª–∏ –±—ã –Ω–µ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä.
— –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—à—å, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫ –Ω–µ–º—É –ò–ª—å–º–∞–Ω, — –æ–Ω–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –∫ –ø–æ–±–µ–≥—É.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –∏ –°–≤–µ—Ç–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä, — —Å–æ–±–∏—Ä–∞–π—Ç–µ—Å—å.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∏–∑ –¥–æ–º–∞, –æ–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ü–æ—Å–∏–¥–∏—Ç–µ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ. –¢–∞–º –≤–∞–º –±—É–¥–µ—Ç —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–µ–µ.
–î–≤–∞ –¥–≤–æ—Ä–∞ –º—ã –º–∏–Ω–æ–≤–∞–ª–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–¥–≤–æ—Ä–æ—Ç–Ω–∏. –í–æ—à–ª–∏ –≤ —Ç—Ä–µ—Ç–∏–π. –¢–∞–º –±—ã–ª–∞ –∫—É—Ö–æ–Ω–∫–∞, —Å—Ç–æ—è—â–∞—è –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç –¥–æ–º–∞. –Ý—è–¥–æ–º — –¥–≤–µ—Ä—å –∏ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–∞, –≤–µ–¥—É—â–∞—è –≤ –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–π –ø–æ–¥–≤–∞–ª. –í –Ω–µ–º –º—ã –∏ –±—ã–ª–∏ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–Ω—ã –Ω–µ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç –ª—é–¥–µ–π, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞. –í –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ –≥–æ—Ä–µ–ª–∞ —Å–≤–µ—á–∞. –¢—É—Ç –±—ã–ª–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ, –≤—Ä–æ–¥–µ –ª–µ–∂–∞–Ω–∫–∏. –ù–æ –±—ã–ª–æ —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ. –ó–∞–∫—É—Ç–∞–≤—à–∏—Å—å –≤ –æ–¥–µ—è–ª–∞, —è –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —É—Å–Ω—É—Ç—å. –°–≤–µ—Ç–∞ —Ç–æ–∂–µ –∑–∞–∫—É—Ç–∞–ª–∞—Å—å –∏ —Å–∏–¥–µ–ª–∞.
— –•–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –∑–∞–±—Ä–∞–ª –Ω–∞—Å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—É –≤–µ—Ä–∏—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ú–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —ç—Ç–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –µ–≥–æ –ø—Ä–æ–≤–æ—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞—Å.
— –ú–Ω–µ —Ç–æ–∂–µ —Ç–∞–∫ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è, — —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é –∑–∞—á–µ–º.
— –û–Ω–∏ —Ç–∞–∫ –∏–≥—Ä–∞—é—Ç —Å –Ω–∞–º–∏, — —É–±–µ–∂–¥—ë–Ω–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –°–≤–µ—Ç–∞, — –∏–º –Ω—Ä–∞–≤–∏—Ç—Å—è –º—É—á–∏—Ç—å –ª—é–¥–µ–π, –∏ –æ–Ω–∏ —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—é—Ç –≤—Å—è–∫–∏–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏–∏.
— –ó–∞—á–µ–º –∏–º —É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏–∏, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª —è, — –µ—Å–ª–∏ –∏ –±–µ–∑ –≤—Å—è–∫–∏—Ö –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏–π –æ–Ω–∏ –º–æ–≥—É—Ç —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Å –Ω–∞–º–∏ –≤—Å—ë, —á—Ç–æ –∑–∞—Ö–æ—Ç—è—Ç?
— –ù–æ –≤–µ–¥—å —Ç–∞–∫ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–µ–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –°–≤–µ—Ç–∞. — –ï—Å—Ç—å –ø–æ–≤–æ–¥. –ò —Ç—É—Ç —É–∂, –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä –Ω–µ –∑–∞—Å—Ç—É–ø–∏—Ç—Å—è.
–¢–æ–≥–¥–∞ —è –µ—â—ë –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å –ø—Å–∏—Ö–æ–ª–æ–≥–∏–∏ –∫—Ä–æ–≤–æ–ø–∏–π—Ü—ã. –î–∞ —á—Ç–æ —Ç–∞–º –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª. –ü–æ–Ω—è—Ç—å –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ê—Ö, —Ç—ã –ø—å—ë—à—å –º–æ—é –∫—Ä–æ–≤—å! –ö–∞–∫ —è —Ç–µ–±—è –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é! –ï—â—ë –±–æ–ª–µ–µ –Ω–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–∞ –ø–æ–∑–∏—Ü–∏—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –û–Ω –º–æ–≥ –±—ã –¥–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å—Å—è —Å –Ω–∞–º–∏ –æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è—Ö, —É–∂ –∫–æ–ª–∏ –µ–≥–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–∞—Å —Å–ø—Ä–æ–≤–æ—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –ù–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –æ–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∑–∞–≤–∏–¥–æ–≤–∞–ª –Ω–∞–º –∏ —Ö–æ—Ç–µ–ª, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∞–º —Å–æ –°–≤–µ—Ç–æ–π —Å—Ç–∞–ª–æ —Ç–∞–∫ –∂–µ –ø–ª–æ—Ö–æ, –∫–∞–∫ –µ–º—É.
–ù–∞—Å –≤—ã–≤–µ–ª–∏ –∏–∑ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –±—ã–ª–æ —É–∂–µ —Ç–µ–º–Ω–æ. –ü–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ –Ω–∞–±–∏—Ç—ã–π –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ –£–ê–ó–∏–∫ –∏ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–∏. –í—ã–µ—Ö–∞–≤ –∏–∑ —Å–µ–ª–∞, –º–∞—à–∏–Ω–∞ –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–∫–ª–∞ —à–æ—Å—Å–µ –∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∞ –¥–∞–ª—å—à–µ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø–æ—à–ª–∞ –∫—Ä—É—Ç–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö –∏ –º–∞—à–∏–Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–æ–π –≥–æ—Ä—ã. –î–∞–ª—å—à–µ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –ø–æ—Ä–µ–¥–µ–≤—à–∏–π –æ—Ç—Ä—è–¥ –ø–æ—à—ë–ª –ø–µ—à–∫–æ–º. –í–Ω–∞—á–∞–ª–µ —à–ª–∏ –ø–æ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã, –ø–æ –∑–∞—Å–æ—Ö—à–µ–π –≥—Ä—è–∑–∏ —Å–ª–µ–¥–æ–≤ —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤—ã—Ö —Ç—Ä–∞–∫–æ–≤. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –≤–¥–æ–ª—å —ç—Ç–æ–π —Ç–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ–º–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—ã. –ü–æ—Ç–æ–º —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ –º–æ–∫—Ä—ã–π –æ–≤—Ä–∞–≥ –∏ –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø–æ–ª–µ–∑–ª–∏ –≤ –≥–æ—Ä—É. –ó–µ–º–ª—è –æ—Å—ã–ø–∞–ª–∞—Å—å –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏, –∞ –ø–æ–¥—ä—ë–º –±—ã–ª –æ—á–µ–Ω—å –∫—Ä—É—Ç. –í–∑–æ–±—Ä–∞–≤—à–∏—Å—å –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö, –º—ã –ø–æ–Ω—è–ª–∏, —á—Ç–æ –æ–¥–æ–ª–µ–ª–∏ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –ø–æ–¥—ä—ë–º, –∫–∞–∫ —Ç–æ—Ç, –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö –ø–µ—Ä–µ–¥ –º–∏–Ω–Ω—ã–º –ø–æ–ª–µ–º.
–°–Ω–æ–≤–∞ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–π —Ä—ã–≤–æ–∫ –ø–æ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ — –∏ –≤–Ω–∏–∑. –í–Ω–∏–∑—É –≤–æ–¥–∞, –≥—É—Å—Ç–æ–π –∫–æ–ª—é—á–∏–π –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫, —á–µ—Ä–µ–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –≤ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ –ø—Ä–æ–¥–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –ò –≤–≤–µ—Ä—Ö! –ò–∑–Ω—É—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π, –∏—Å–ø–µ–ø–µ–ª—è—é—â–∏–π –ø–æ–¥—ä—ë–º. –ù–∞—Å –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è—é—Ç. –£–≥—Ä–æ–∂–∞—é—Ç. –ù–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–µ—Ç –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞, —Å–∏–ª—ã —É—Ö–æ–¥—è—Ç, —É–∂–µ —É—à–ª–∏, –∞ –º—ã –≤—Å—ë –ø–æ–ª–∑—ë–º. –ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø–∞–¥–∞–µ–º –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ. –ù–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ –∑–≤—ë–∑–¥—ã. –ü–æ–∏—Å–∫–∞–ª –ü–æ–ª—è—Ä–Ω—É—é. –û–Ω–∞ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –æ—Ç –ª–∏–Ω–∏–∏ –ø—É—Ç–∏. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –∏–¥—ë–º –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥. –ò –æ–ø—è—Ç—å —Å–ø—É—Å–∫, –≤–æ–¥–∞, –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫, –ø–æ–¥—ä—ë–º –∏ –±–µ—Å—Å–∏–ª—å–Ω–æ–µ –ø–∞–¥–µ–Ω–∏–µ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ. –ü–æ–¥–æ—à—ë–ª –î–∂–æ—Ö–∞—Ä.
— –ü–æ–∂–∞–ª—É–π, –≤ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —Ä–∞–∑ —è –≤–æ–∑—å–º—É –≤–∞—Å —Å —Å–æ–±–æ–π –≤ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É, — –ø–æ—à—É—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –ù–∞–±–µ—Ä–∏—Ç–µ—Å—å —Ç–µ—Ä–ø–µ–Ω–∏—è. –ï—â—ë –æ–¥–Ω–∞ –≥–æ—Ä–∞ — –∏ –º—ã –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ.
–ï—â—ë –æ–¥–Ω–∞ –≥–æ—Ä–∞! –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —É–±–∏–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–æ–æ–±—â–µ–Ω–∏–µ. –ú—ã –Ω–µ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∏–º –µ—â—ë –æ–¥–Ω–æ–π! –ú—ã —à–ª–∏ —É–∂–µ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —á–∞—Å–∞. –ò –≤—Å—ë –∂–µ –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω —Å–ø—É—Å–∫ –∏ —á—Ä–µ–∑–≤—ã—á–∞–π–Ω–æ –∫—Ä—É—Ç–æ–π –ø–æ–¥—ä—ë–º –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö, —Ç–æ —É–≤–∏–¥–µ–ª –°–∞–º–∞—à–∫–∏. –û–Ω–∏ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –ø–æ–¥ –Ω–∞–º–∏ –Ω–∞ —é–≥–µ, –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤—É—Ö. –ó–∞ —Å–µ–ª–æ–º — –±–æ–ª—å—à–æ–π –ª–µ—Å. –í –ª–µ—Å—É –≤—Å–ø—ã—Ö–∏–≤–∞–ª–∏ –∑–≤—ë–∑–¥–æ—á–∫–∏ –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤. –ö–∞–Ω–æ–Ω–∞–¥–∞ –¥–æ–ª–µ—Ç–∞–ª–∞ –∏ —Å—é–¥–∞, –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É –≥–æ—Ä—ã. –°–ª–µ–≤–∞ –æ—Ç —Å–µ–ª–∞ –ø–æ–±–ª—ë—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∞ –≤ —Å–≤–µ—Ç–µ –õ—É–Ω—ã –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω–∞ —Ä–µ–∫–∏.
–û—Ç—Ä—è–¥ —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è —Å –≥–æ—Ä—ã –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –í –ø–æ–ª–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–µ–ª–æ–º —Ü–µ–ª–æ–µ –∫–ª–∞–¥–±–∏—â–µ —Ä–∞–∑–±–∏—Ç–æ–π –∏ —Å–æ–∂–∂—ë–Ω–Ω–æ–π –≤ –±–æ—é –±–æ–µ–≤–æ–π —Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏: –ë–¢–Ý—ã, –ë–ú–ü –∏ –¥–∞–∂–µ –æ–¥–∏–Ω —Ç–∞–Ω–∫, –±–∞—à–Ω—è –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤–∞–ª—è–ª–∞—Å—å –≤ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –æ—Ç —Ö–æ–¥–æ–≤–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏.
–ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —à–ª–∏ –ø–æ —Å–µ–ª—É, –æ—Ç—Ä—è–¥ —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç—å—Å—è –ø–æ –¥–æ–º–∞–º. –ù–∞—Å –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –Ω–∞ —Ä—ã–Ω–æ–∫. –°–∏–¥–µ–ª–∏ —Ç–∞–º –æ–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞. –ó–∞ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–∏—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–µ –ª—é–¥–∏. –î–∂–æ—Ö–∞—Ä –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –∫–∏–æ—Å–∫–æ–≤, –≥–¥–µ –µ—â—ë –≥–æ—Ä–µ–ª —Å–≤–µ—Ç. –û—Ç—Ç—É–¥–∞ –≤—ã—à–µ–ª —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –∏ –≤–µ–ª–µ–ª –Ω–∞–º –∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–µ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å –∑–∞ —Å–æ–±–æ–π. –ú—ã –¥–æ–ª–≥–æ —à–ª–∏ –≤–¥–æ–ª—å –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω—ã —Å–µ–ª–∞. –ü–µ—Ä–µ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Ä–µ–∫–∏ –ø–æ —É–ø–∞–≤—à–µ–º—É –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –Ý–µ–∫–∞ –≤ —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ —Å—É–∂–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –¥–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ù–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —É–≥–ª—É–±–∏–ª–∏—Å—å –≤ –ª–µ—Å –∏ –Ω–∞—Å –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ —è–º—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Ö–æ–∂–∞ –Ω–∞ –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫—É –æ—Ç –±–æ–º–±—ã. –ü—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª–∏ —Ç–∞–∫ –æ–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞. –°—Ç–∞–ª–æ —Å–≤–µ—Ç–∞—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –∏–∑ –ª–µ—Å–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –±–æ–µ–≤–∏–∫. –û–Ω –æ —á—ë–º-—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —Å –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∏ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–∞–º.
— –°–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –∑–∞ –º–Ω–æ–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –®–∞–≥ –≤–ª–µ–≤–æ-–≤–ø—Ä–∞–≤–æ — —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—é –±–µ–∑ –ø—Ä–µ–¥—É–ø—Ä–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—è.
–£–∂–µ —É—Ö–æ–¥—è—â–∏–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏ –∑–∞—Ä–∂–∞–ª–∏.
— –ü—Ä—ã–∂–æ–∫ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ — –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ —É–ª–µ—Ç–µ—Ç—å, –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞! –û–Ω–∏ —Ç–∞–∫ –∏–∑–º—É—á–µ–Ω—ã, —á—Ç–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–±–µ–≥—É—Ç –∏ —Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
— –Ø –≤—Å—ë —Å–∫–∞–∑–∞–ª, — –±—Ä–æ—Å–∏–ª –Ω–∞–º –±–æ–µ–≤–∏–∫ –µ—â—ë —Ä–∞–∑. –û–Ω –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ —à—É—Ç–∫—É –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤.
— –í–ø–µ—Ä—ë–¥! — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –æ–Ω –∏ –ø–æ—à—ë–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–º.
–ó–∞ –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–æ–π —à—ë–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤, —Å–ª–µ–¥–æ–º –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. –Ø –∑–∞–º—ã–∫–∞–ª —Ü–µ–ø–æ—á–∫—É, –Ω–æ –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –û—Ç–∫—É–¥–∞-—Ç–æ –∏–∑-–∑–∞ –∫—É—Å—Ç–æ–≤ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω –±–æ–µ–≤–∏–∫ –∏ –ø–æ—à—ë–ª –≤—Å–ª–µ–¥ –∑–∞ –º–Ω–æ–π. –ü–æ–∑–∂–µ –º–Ω–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –ø—Ä–∏–¥—ë—Ç—Å—è —Ö–æ–¥–∏—Ç—å —ç—Ç–æ–π –∂–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π. –•–æ–¥—É —Ç–∞–º –Ω–µ –±–æ–ª—å—à–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –º–∏–Ω—É—Ç, –Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–º –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ø—É—Ç—å –ø–æ –ª–µ—Å—É –∑–∞–Ω—è–ª —á–∞—Å–∞ –¥–≤–∞. –•–æ—Ç—è, –Ω–∞—Å –º–æ–≥–ª–∏ –∏ –ø–æ–≤–æ–¥–∏—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã –∑–∞–ø—É—Ç–∞—Ç—å. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞ –≤–µ–ª–µ–ª –Ω–∞–º –ø—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å –≤ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à—É—é –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫—É –∏ –ø–æ—à—ë–ª –≤–ø–µ—Ä—ë–¥ –æ–¥–∏–Ω. –ï—â—ë —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–∞—Ä—É –º–∏–Ω—É—Ç –æ–Ω –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è, –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ –º—ã –≤–æ—à–ª–∏ –≤ –ª–µ—Å–Ω–æ–π –ª–∞–≥–µ—Ä—å –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ë—ã–ª–æ —É—Ç—Ä–æ¬Ý1 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞.
–ù–∞—Å –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏ —Ä—ã–∂–∏–π –∫–∞–∑–∞—Ö –∏ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. –≠—Ç–æ–º—É –º—ã –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å.
— –í—Å—ë, –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞, –ø—Ä–∏—à–ª–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ò–¥–∏—Ç–µ —Å–ø–∞—Ç—å, –≤–µ–¥—å –≤—ã –∏–∑–º—É—á–∏–ª–∏—Å—å!
–ú—ã —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±–æ–ª—å—à–æ–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –ù–∞ –Ω–∞—Ä–∞—Ö –ª–µ–∂–∞–ª–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏. –ß—É—Ç—å —Ç–ª–µ–ª–∞ –ø–µ—á–∫–∞. –ù–∞—Å –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –∑–∞–ª–µ–∑—Ç—å –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —è—Ä—É—Å –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –ù–∞ –≥–æ–ª—ã–µ –¥–æ—Å–∫–∏. –ù–æ –Ω–∞—Å —ç—Ç–æ –Ω–µ –≤–æ–ª–Ω–æ–≤–∞–ª–æ. –ú—ã –æ—Ç—Ä—É–±–∏–ª–∏—Å—å, –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞—è –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ –Ω–µ—É–¥–æ–±—Å—Ç–≤–∞.
–û–∫–æ–ª–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ —É—Ç—Ä–∞ —Ä–∞–∑–±—É–¥–∏–ª–∏. –£ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ –Ω–∞—Å —É–∂–µ –∂–¥–∞–ª –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π.
— –í—ã –ø—Ä–∏–±—ã–ª–∏ –≤ –º–µ—Å—Ç–∞ –∑–∞–∫–ª—é—á–µ–Ω–∏—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ü–æ—Ä—è–¥–∫–∏ –∑–¥–µ—Å—å —Å—É—Ä–æ–≤—ã–µ. –ü–æ—Ä—è–¥–∫–∏ —É—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—é —è!
— –¢—ã! — –æ–Ω —Ç–∫–Ω—É–ª –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –≤ –°–≤–µ—Ç—É. — –ò–¥—ë—à—å —Ç—É–¥–∞, — –æ–Ω —Ç–∫–Ω—É–ª –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –≤ –∫–æ–Ω–µ—Ü –ø–æ–ª—è–Ω—ã —É –∫—É—Å—Ç–æ–≤. — –û–±–æ—Ä—É–¥—É–µ—à—å —Ç–∞–º –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è –≤–∞—à–µ–≥–æ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. –ë—É–¥–µ—Ç–µ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ –µ–¥—É.
— –í—ã –æ–±–∞, — –æ–Ω –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –Ω–∞—Å —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º, — –∏–¥—ë—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ–π –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π.
–ú—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π —Å –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤—ã–º –±–∏–¥–æ–Ω–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤–∏—Å–µ–ª –Ω–∞ —Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–π –ø–∞–ª–∫–µ, –¥–ª–∏–Ω–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä—ë—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ü–∞–ª–∫–∞ –≤–∏—Å–µ–ª–∞ –Ω–∞ –Ω–∞—à–∏—Ö –ø–ª–µ—á–∞—Ö. –î–æ —Ä–µ—á–∫–∏ –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏ –Ω–∞–±—Ä–∞–ª–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã–π –±–∏–¥–æ–Ω –∏ —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å, –Ω–∞ –æ—á–µ–Ω—å –º–∞–ª–æ–π –≤—ã—Å–æ—Ç–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç. –ü—Ä–æ–ª–µ—Ç–∞—è –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏, –æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç, –ø–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –≤–∏—Å–µ–ª —è—â–∏–∫.
–õ–µ—á–∞ —Ç—É—Ç –∂–µ —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª:
— –í—Å–µ –∑–∞ –º–Ω–æ–π! — –æ–Ω –ø–æ–¥–±–µ–∂–∞–ª –∫ –ø—è—Ç–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –∫—Ä—É–≥–æ–º. –ú–µ–∂–¥—É –Ω–∏–º–∏ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–∫–∞—è –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∞—è —è–º–∞. — –õ–æ–∂–∏—Å—å, — –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –∏ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ —è–º—É –º–µ–∂–¥—É –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤.
–ï–¥–≤–∞ –º—ã —É—Å–ø–µ–ª–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞—Ç—å –≤ —è–º—É, –∫–∞–∫ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É —Ä–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –≤–∑—Ä—ã–≤. –ï—â—ë —á–µ—Ä–µ–∑ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É —Å—Ä–∞–∑—É —Ü–µ–ª–∞—è –∫–∞–Ω–æ–Ω–∞–¥–∞, –Ω–æ —É–∂–µ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ –∏ –≤ —Ä–∞–∑–Ω—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö. –õ–µ—á–∞ –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –û–Ω —Ç–∞–∫ –∏ —Å—Ç–æ—è–ª —É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞.
— –£–∑–Ω–∞–ª–∏, —Å–≤–æ–ª–æ—á–∏, —á—Ç–æ –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏. — –ó–Ω–∞—Ç—å –±—ã, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ —É–∑–Ω–∞–ª–∏! –í—Å—ë! –ü–æ—à–ª–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ.
— –ê —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç –Ω–µ –ø—Ä–∏–ª–µ—Ç–∏—Ç –æ–ø—è—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
— –Ø —Å–∫–∞–∑–∞–ª, –ø–æ—à–ª–∏! — –æ—Ç—Ä–µ–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞.
–ù–µ—Å—Ç–∏ –≤–æ–¥—É –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å —É–¥–æ–±–Ω—ã–º –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–µ–º. –Ø —à—ë–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–º. –ë–∏–¥–æ–Ω –º–æ—Ç–∞–ª—Å—è –∏ –±–∏–ª –ø–æ –∑–∞–¥–Ω–∏—Ü–µ. –ö —Ç–æ–º—É –∂–µ, –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤, —à–µ–¥—à–∏–π —Å–∑–∞–¥–∏, –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–æ–≥ —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –∏–¥—Ç–∏ –≤ –Ω–æ–≥—É –∏ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—Ç—å –±–∏–¥–æ–Ω, –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ª–µ–≥—á–µ, —á–µ–º –¥—É—Ç—å —â—ë–∫–∏ –∏ –º–æ—Ç—ã–ª—è—Ç—å—Å—è –ø—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –∏–∑ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É.
–°–∞–º –±–∏–¥–æ–Ω, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –±–ª–µ—Å—Ç–µ–ª –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ, –º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è –≤–µ—Ç–∫–∞–º–∏. –ù–∞–¥–µ–∂–¥—ã –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –≤ –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –Ω–µ—Ç –≤–æ–π–Ω—ã, –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ —Ä–∞–∑–≤–µ—è–ª–∏—Å—å. –õ–µ—á–∞ –ø–æ–≤—ë–ª –Ω–∞—Å –ø–æ —Å—Ç–∞—Ä—ã–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞–º –∑–∞ –æ–¥–µ–∂–¥–æ–π –∏ –æ–±—É–≤—å—é, –±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–π —Ç–∞–º. –¢–∞–∫–∏—Ö –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ–π –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏—Ö –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—è—Ö –±—ã–ª–æ —Ç—Ä–∏. –í –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –Ω–∏—Ö —è –Ω–∞—à—ë–ª –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—è—â–∏–µ –¥–ª—è —Å–µ–±—è –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏. –í –¥—Ä—É–≥–æ–º –ø—Ä–∏–æ–¥–µ–ª—Å—è –∏ –æ–±—É–ª—Å—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –£ –º–µ–Ω—è, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ç—Ä—É—Å—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –∏–∑ –¥–æ–º–∞ –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –ë–∞—Ä–∞–µ–≤ — –º–ª–∞–¥—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ –ë–∞—Ä–∞–µ–≤–∞. –û–Ω –∂–µ –∑–∞–º–µ–Ω–∏–ª –º–Ω–µ –∏ –±—Ä—é–∫–∏. –°–∞–ø–æ–≥–∏, —Ä—É–±–∞—à–∫—É –∏ –≤–∞—Ç–Ω—ã–µ —à—Ç–∞–Ω—ã —è –∑–∞–∫–æ–ø–∞–ª –∑–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞–º–∏ –ª–∞–≥–µ—Ä—è. –ß—Ç–æ–±—ã –Ω–∞–π—Ç–∏ –Ω–∞–º –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ –∫—É—Ä—Ç–∫–∏ –∏ —Ä—É–±–∞—à–∫–∏, –õ–µ—á–∞ –ø–æ–≤—ë–ª –Ω–∞—Å –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥ —Ä–µ–∫–∏. –¢—É–¥–∞ –∂–µ, –≥–¥–µ –Ω–∞–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤–æ–¥—É. –¢–∞–º, –∑–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏, –º—ã –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª–∏ –º–∞—Å—Å—É –±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–π –æ–¥–µ–∂–¥—ã. –í–∏–¥–∏–º–æ, –≤—Å–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–≤—à–∏–µ—Å—è —Å –≤–æ–π–Ω—ã –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏, –º—ã–ª–∏—Å—å –∑–¥–µ—Å—å –≤ —Ä–µ—á–∫–µ, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –∑–∞–≤—à–∏–≤–ª–µ–Ω–Ω—É—é –æ–¥–µ–∂–¥—É –∏ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –¥–æ–º–æ–π. –¢–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∏ —è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∏ –∫–∞–º—É—Ñ–ª—è–∂–Ω—ã–µ –∫—É—Ä—Ç–∫–∏.
–í –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∂–µ –¥–µ–Ω—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è —É—à—ë–ª –õ–µ—á–∞, –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–∏–≤—ë–ª –Ω–∞—Å –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å. –í –µ–≥–æ —Ä—É–∫–∞—Ö –±—ã–ª–∞ –∫–∞—Ä—Ç–∞.
— –¢—ã –ø–æ–Ω–∏–º–∞–µ—à—å, —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –≤ –∫–∞—Ä—Ç–∞—Ö? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –ö–æ–µ-—á—Ç–æ, –¥–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ó–¥–µ—Å—å —Ä–∞–Ω—å—à–µ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–∞—è —á–∞—Å—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. –ß—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ «–±—Ä»?
–Ø –Ω–µ –º–æ–≥ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏—Ç—å –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞, –∏ –æ–Ω —Ä–∞–∑–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ–π –∫–∞—Ä—Ç—É. –Ø —É–≤–∏–¥–µ–ª –≤—Å—ë —Å—Ä–∞–∑—É: –∏ —Ç—Ä–∞—Å—Å—É –Ý–æ—Å—Ç–æ–≤-–ë–∞–∫—É, –∏ –ª–µ—Å, –∏ —Ä–µ–∫—É –°—É–Ω–∂—É —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –∏–∑–≥–∏–±–∞–º–∏, –∏ —á—ë—Ä–Ω—É—é —Ä–µ—á–∫—É, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –º—ã —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, –∏ — –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — –°–∞–º–∞—à–∫–∏. –î–æ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–æ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ —Ç—Ä—ë—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ò–∑–≥–∏–± —Ä–µ–∫–∏, –≥–¥–µ –º—ã –Ω–∞–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤–æ–¥—É, –±—ã–ª —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–º –∏ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π –∫–∞—Ä—Ç–µ. –ü–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —Ä–µ–∫–∞ –æ–≥–∏–±–∞–ª–∞ –ª–∞–≥–µ—Ä—å —Å —Ç—Ä—ë—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω. –í–æ–Ω –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã —à–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –û–Ω–∞ –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–∞—Ä–æ—Å–ª–∞, –Ω–æ –±—ã–ª–∞ –æ—Ç–º–µ—á–µ–Ω–∞ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ –∏ —É–ø–∏—Ä–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ä–µ—á–∫—É —á—É—Ç—å –ø—Ä–∞–≤–µ–µ –≤–æ–¥–æ–∑–∞–±–æ—Ä–∞. –ê –≤–æ–Ω –∏ –≤–æ–¥–æ–∫–∞—á–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —è —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –ø—Ä–∏–º–µ—Ç–∏–ª —É—Ç—Ä–æ–º.
— –ö–∞–∫–æ–π –∑–Ω–∞—á–æ–∫? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª—É.
— –í–æ—Ç, — —Ç–æ—Ç —Ç–∫–Ω—É–ª –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –≤ –∑–Ω–∞—á–æ–∫ «–±—Ä» –≤ —Ç–æ–º —Å–∞–º–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –≥–¥–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —É–ø–∏—Ä–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Ä–µ—á–∫—É.
— –í –¥–∞–Ω–Ω–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, «–±—Ä» — —ç—Ç–æ –±—Ä–æ–¥, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –¢–æ—á–Ω–æ, —Ç–∞–º –µ—Å—Ç—å –±—Ä–æ–¥, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞. — –ê –º—ã –¥—É–º–∞–ª–∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º –¥—Ä—É–≥–æ–µ.
— –ê –≤—ã —á—Ç–æ –¥—É–º–∞–ª–∏? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –≠—Ç–æ–≥–æ —Ç–µ–±–µ –∑–Ω–∞—Ç—å –Ω–µ –Ω—É–∂–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞, –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—è, —á—Ç–æ —Å–∞–º–æ–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ–µ –æ–Ω —É–∂–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª, –ø–æ–∫–∞–∑–∞–≤ –º–Ω–µ –∫–∞—Ä—Ç—É. –ò —Ç—É—Ç —è –ª–æ–ø—É—Ö–Ω—É–ª—Å—è, –Ω–µ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞–ª.
— –í–æ—Ç —Å—é–¥–∞ –º—ã —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, — —è –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω—É —Ä–µ–∫–∏.
— –ù–µ—Ç, — –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –º–µ—Å—Ç–æ —Ä—è–¥–æ–º, — –≤–æ—Ç —Å—é–¥–∞.
–û —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ–¥—Ä–∞–∑—É–º–µ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–¥ –∞–±–±—Ä–µ–≤–∏–∞—Ç—É—Ä–æ–π «–±—Ä», —è –¥–æ–≥–∞–¥–∞–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å. –£—Ç—Ä–æ–º –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –ø–æ–≤—ë–ª –Ω–∞—Å —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –∑–∞ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞–º–∏ –¥–ª—è —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –ø–µ—á–∫–∏. –ö–∏—Ä–ø–∏—á–∏ –∫–æ–≤—ã—Ä—è–ª–∏ –∏–∑ —Ä–∞–∑—Ä—É—à–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–π –±—ã–≤—à–µ–π –≤–æ–∏–Ω—Å–∫–æ–π —á–∞—Å—Ç–∏. –ß–∞—Å—Ç—å –±–∞–∑–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –∑–¥–µ—Å—å –ª–µ—Ç –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –Ω–∞–∑–∞–¥.
–•–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –õ–µ—á—É –≤ –±–æ–ª—å—à–µ–π —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∏ –Ω–µ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∏, –∞ –Ω–µ–∫–æ–µ —Ç–∞–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–æ–¥ –∑–µ–º–ª—ë–π. –Ý–∞–∑–±–∏—Ä–∞—è –∫–ª–∞–¥–∫—É —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞, –º—ã –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª–∏ –Ω–µ—á—Ç–æ, –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—â–µ–µ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–æ–µ –ø–æ–º–µ—â–µ–Ω–∏–µ. –ù–æ, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–æ –ª–∏—à—å –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –ø—Ä–æ—Å–µ–ª –≥—Ä—É–Ω—Ç. –õ–µ—á–∞ –ø–æ–º–µ–Ω—è–ª –º–µ—Å—Ç–æ —Ä–∞—Å–∫–æ–ø–æ–∫. –ö–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ–º –±—ã–ª–∞ –≤—ã–ª–æ–∂–µ–Ω–Ω–∞—è –∫–∏—Ä–ø–∏—á–æ–º –∏ –∑–∞–±–µ—Ç–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–∞—è –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∞. –ú—ã —Ç–∞—Å–∫–∞–ª–∏ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –∏ –∫—É—Å–∫–∏ –±–µ—Ç–æ–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ–∑–∂–µ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏–≥–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å. –ù–æ –õ–µ—á–∞ —Å—á–∏—Ç–∞–ª —Å–≤–æ–∏–º –¥–æ–ª–≥–æ–º –∑–∞–≥—Ä—É–∑–∏—Ç—å –Ω–∞—Å —Ç—è–∂—ë–ª–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π –∏ —É—Å–ø–µ—à–Ω–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª—Å—è —Å —ç—Ç–∏–º. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤ –ø–æ–∏—Å–∫–∞—Ö —Ç–∞–π–Ω—ã –±—ã–ª–∞ —Ä–∞–∑–æ–±—Ä–∞–Ω–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏, —è –æ–ø—Ä–æ–º–µ—Ç—á–∏–≤–æ –∑–∞–¥–∞–ª –õ–µ—á–µ —Ç–∞–∫–æ–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å:
— –ê –∏–∑ –∫–∞–∫–∏—Ö –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –æ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –∑–¥–µ—Å—å –ø–æ–¥–∑–µ–º–Ω—ã—Ö —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–π?
— –ö–∞—Ä—Ç–∞, — –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å, –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –õ–µ—á–∞. — –ù–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ «–±—Ä». –≠—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –∑–¥–µ—Å—å –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å –±—É–Ω–∫–µ—Ä.
–Ø –≤—Å—ë –ø–æ–Ω—è–ª. –í–∏–¥–∏–º–æ, –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞ –Ω–µ —Ä–µ—à–∏–ª—Å—è –¥–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å –õ–µ—á–µ –æ –Ω–∞—à–µ–º —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä–µ. –ü–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ–π –±—ã–ª–∞ –¥–∏–ª–µ–º–º–∞. –° –æ–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, –∏ –º–Ω–µ –Ω–µ—á–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –ª–µ–∑—Ç—å –Ω–∞ —Ä–æ–∂–æ–Ω. –ù–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –∫–∞–∫ –õ–µ—á–∞ —Å—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä—É–µ—Ç –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–µ —Ä–∞–∑–æ—á–∞—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏–µ. –ù–æ –≤–µ–¥—å –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞ –º–æ–≥ –∑–∞–±—ã—Ç—å –∏–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è —Å –õ–µ—á–µ–π. –ï—Å–ª–∏ –æ–Ω –¥–æ–ª–æ–∂–∏—Ç –µ–º—É –ø–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ —Å–∞–º –õ–µ—á–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –æ «–±—Ä», –Ω–µ –º–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—å —ç–∫–∑–µ–∫—É—Ü–∏–∏. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, —á—Ç–æ –õ–µ—á–∞ –∏—Å–∫–∞–ª –≤—Å—è–∫–æ–≥–æ –ø–æ–≤–æ–¥–∞ –¥–ª—è –Ω–∞—à–µ–≥–æ –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è. –ü—Ä–∏ –º–∞–ª–µ–π—à–µ–π –æ–ø–ª–æ—à–Ω–æ—Å—Ç–∏ –æ–Ω –ø–æ—Å—ã–ª–∞–ª –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω–∏–≤—à–µ–≥–æ—Å—è –∑–∞ –ø–∞–ª–∫–æ–π –∏ –±–∏–ª –µ—é –ø–æ –º–∞–∫–æ–≤–∫–µ –µ–≥–æ –≥–æ–ª–æ–≤—ã –∏–ª–∏ –ø–æ —É—Ö—É. –ë–∏–ª –±–æ–ª—å–Ω–æ. –û–Ω –∑–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∏—Å—å —ç—Ç–∏ —Å—Ü–µ–Ω—ã. –û–Ω–∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–æ —â–µ—Ä–∏–ª–∏—Å—å –∏ —Å–∞–º–∏ –Ω–æ—Ä–æ–≤–∏–ª–∏ –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å.
–Ø –¥—É–º–∞–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º, –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—è –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –¥–≤–∞ –≤–µ–¥—Ä–∞, –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–º –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –±—ã–ª–æ –ø–æ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ä–µ—à–∏—Ç—å—Å—è –∏ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –õ–µ—á–µ –ø—Ä–æ –∞–±–±—Ä–µ–≤–∏–∞—Ç—É—Ä—É.
— –ö–æ–≥–¥–∞ –º—ã —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –ø–æ—Ö–æ–¥—ã, — –Ω–∞—á–∞–ª —è, — –µ—â—ë –≤ —à–∫–æ–ª–µ, –±—É–∫–≤–∞–º–∏ «–±—Ä» –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å –±—Ä–æ–¥—ã –Ω–∞ –Ω–µ–≥–ª—É–±–æ–∫–∏—Ö —Ä–µ—á–∫–∞—Ö.
–õ–µ—á–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –æ—Ç—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª, –Ω–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –∏ –º–∏–Ω—É—Ç—ã, –æ–Ω –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª —Ä–∞–∑–±–æ—Ä –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω–æ–π –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–∏. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–∏–ª –≤—ë–¥—Ä–∞ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞–º–∏, –æ–Ω –ø–æ—à—ë–ª —Å–æ –º–Ω–æ–π –∫ –ª–∞–≥–µ—Ä—é. –ü–æ–∫–∞ —è —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∏, –õ–µ—á–∞ —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –∏ –≤—ã—à–µ–ª –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ —Å –∫–∞—Ä—Ç–æ–π. –Ý—è–¥–æ–º —Å –Ω–∏–º —à—ë–ª –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞. –õ–µ—á–∞ –ø–æ–¥–æ–∑–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏ —Å—é–¥–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞, –ø–æ–∫–∞–∂–∏ –∑–Ω–∞—á–æ–∫ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ.
–ö–∞—Ä—Ç–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–ª–æ–∂–µ–Ω–∞ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–π –µ—ë —á–∞—Å—Ç–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –±—ã—Ç—å –≤–∏–¥–Ω—ã –∏ –°–∞–º–∞—à–∫–∏. –ù–æ –õ–µ—á–∞ –ª–∞–¥–æ–Ω—è–º–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –∏—Ö. –ü–æ—Ç–æ–º—É –æ–Ω –∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª—É –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –º–Ω–µ –∑–Ω–∞—á–æ–∫. –£ –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª—ã –∑–∞–≥–æ—Ä–µ–ª–∏—Å—å —É—à–∏. –û–Ω –ø–æ–Ω—è–ª —Å–≤–æ—é –æ—à–∏–±–∫—É, –Ω–æ –º–æ–ª—á–∞–ª.
— –î–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –≠—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–æ–∫ –±—Ä–æ–¥–∞. –í–æ—Ç –≤–∏–¥–∏—Ç–µ, –¥–æ—Ä–æ–≥–∞. –û–Ω–∞ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ—Ç—Å—è –∏ –∑–∞ —Ä–µ–∫–æ–π. –≠—Ç–æ —Ç–æ—á–Ω–æ –±—Ä–æ–¥. –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç–µ, –≤–¥–æ–ª—å —Ä–µ—á–∫–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã—Ç—å –µ—â—ë —Ç–∞–∫–∏–µ –∂–µ –∑–Ω–∞—á–∫–∏.
–õ–µ—á–∞ –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –æ—Ç –º–µ–Ω—è –∫–∞—Ä—Ç—É –∏ –ø–æ–∏—Å–∫–∞–ª –∑–Ω–∞—á–∫–∏ –±—Ä–æ–¥–æ–≤. –ù–∞—à—ë–ª.
— –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π! — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω. — –ò–¥–∏ —Å—é–¥–∞!
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∏, –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–µ–º—É.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, — –õ–µ—á–∞ —Ç–∞–∫ –∂–µ, –ª–∞–¥–æ–Ω—è–º–∏ –∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª –±–æ–ª—å—à—É—é —á–∞—Å—Ç—å –∫–∞—Ä—Ç—ã, — —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–∞ –∑–Ω–∞—á–æ–∫?
— –Ø –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—é—Å—å –≤ –∫–∞—Ä—Ç–∞—Ö, — –Ω–∞—á–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
— –Ø —Ç–µ–±—è –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—é, –∫–∞–∫–æ–π —Ç—ã –∑–Ω–∞—Ç–æ–∫ –∫–∞—Ä—Ç, — –∑–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–±–∏–ª –µ–≥–æ –õ–µ—á–∞. — –ß—Ç–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–µ—Ç «–±—Ä» —è —Ç–µ–±—è —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—é!
— –ù—É, –µ—Å–ª–∏ —É —Ä–µ—á–∫–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤, — —Ç–æ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –±—Ä–æ–¥.
— –ò–¥–∏ –æ—Ç—Å—é–¥–∞! — –±—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–º—É –õ–µ—á–∞.
–õ–µ—á–∞ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª—É –∏ —Ö–ª–æ–ø–Ω—É–ª –µ–≥–æ –∫–∞—Ä—Ç–æ–π –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ. –¢–æ—Ç —Ä–∞–∑–≤—ë–ª —Ä—É–∫–∞–º–∏, –∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏. –ú–Ω–µ –∂–µ –•—Ä–æ–º–æ–π –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–µ—Å—Ç–∏ –ø–∞–ª–∫—É. –ó–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –±—Ä–æ–¥—ã –Ω–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –±—É–Ω–∫–µ—Ä–∞–º–∏, —è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –ø–æ –º–∞–∫–æ–≤–∫–µ. –≠—Ç–æ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ —Ç–∞–∫ –±–æ–ª—å–Ω–æ, –∫–∞–∫ –ø–æ —É—Ö—É. –° —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è —Ä–∞–±–∞, –ø–æ—á—Ç–∏ –ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ.
–ö –ø–æ–∏—Å–∫–∞–º –±—É–Ω–∫–µ—Ä–∞ –õ–µ—á–∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ö–ª–∞–¥–µ–ª. –û–Ω –µ—â—ë –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –Ω–∞—Å –∫–æ–ø–∞—Ç—å —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç, –Ω–æ —Å–∞–º –≤—Å—ë —Ä–µ–∂–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª —Ç—É–¥–∞. –ß–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –¥–Ω—è —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –ª—é–∫ –∫–∞–Ω–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–∏ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º –õ–µ—á–µ.
— –Ø –¥—É–º–∞—é, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ —É–∂ –∑–¥–µ—Å—å –µ—Å—Ç—å –±—É–Ω–∫–µ—Ä, —Ç–æ –æ–Ω —Ç–æ–∂–µ –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω –∫–∞–Ω–∞–ª–∏–∑–∞—Ü–∏–µ–π.
–õ–µ—á–∞ –≤—Å—ë –ø–æ–Ω—è–ª –∏ –ø–æ–ª–µ–∑ –≤ –ª—é–∫. –ù–æ –±–æ–∫–æ–≤—ã–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–≤–ª–µ–Ω–∏—è –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞–≤–∞–ª–µ–Ω–Ω—ã–º–∏. –ë–æ–ª—å—à–µ –º—ã –Ω–µ –∏—Å–∫–∞–ª–∏ –ø–æ–¥–∑–µ–º–Ω—ã–π –±—É–Ω–∫–µ—Ä. –ò –ø–µ—á–∫—É –õ–µ—á–∞ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª. –û–Ω –Ω–∞—à—ë–ª –¥–ª—è –Ω–∞—Å –¥—Ä—É–≥—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É.
–í–µ—Å–Ω–æ–π –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ª–µ—Å –Ω–∞—Å–∫–≤–æ–∑—å –ø—Ä–æ–ø–∏—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —á–µ—Å–Ω–æ—á–Ω—ã–º –∑–∞–ø–∞—Ö–æ–º. –ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ —ç—Ç–æ –∑–∞–ø–∞—Ö —á–µ—Ä–µ–º—à–∏. –ß–µ—Ä–µ–º—à–∞ — —Ç—Ä–∞–≤–∞, –ª–∏—Å—Ç—å—è–º–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—â–∞—è –ª–∞–Ω–¥—ã—à. –Ý–∞—Å—Ç–µ—Ç –≤ —Å—ã—Ä—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –ø–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º —Ä–µ—á–µ–∫. –ú–æ–ª–æ–¥—ã–µ –ø–æ–±–µ–≥–∏ —Å—Ç–µ–±–ª—è –æ—Ç–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –∏ —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç—Å—è –ª–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ–º. –í —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–∏ –º–Ω–æ–≥–æ –≤–∏—Ç–∞–º–∏–Ω–æ–≤.
–õ–µ—á–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –Ω–∞—Å —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å —á–µ—Ä–µ–º—à—É. –ü–æ—Ç–æ–º –µ–µ –¥–æ–±–∞–≤–ª—è–ª–∏ –≤ –±–ª—é–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –¥–ª—è —Å–µ–±—è –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏. –ú—ã —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –¥–æ–±–∞–≤–ª—è—Ç—å —á–µ—Ä–µ–º—à—É –≤ –Ω–∞—à —Å–∫—É–¥–Ω—ã–π —Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω. –ß–µ—Ä–µ–º—à–∞, –±–µ–∑—É—Å–ª–æ–≤–Ω–æ, –¥–æ–±–∞–≤–ª—è–ª–∞ –≤–∫—É—Å—É –æ—Ç–≤–∞—Ä–Ω—ã–º –º–∞–∫–∞—Ä–æ–Ω–∞–º, –Ω–æ –º–æ–π –∂–µ–ª—É–¥–æ–∫ –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç–æ–≤–∞–ª —Å–∏–ª—å–Ω–µ–π—à–µ–π –∏–∑–∂–æ–≥–æ–π. –Ø –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω –±—ã–ª –æ—Ç–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç —á–µ—Ä–µ–º—à–∏. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ –¥–æ–±–∞–≤–ª—è–ª–∞ –µ–µ —Å–µ–±–µ –≤ —Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω. –ë–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ—Ö –ø—Ä–∏—Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç–∏–ª—Å—è –∫ —á–µ—Ä–µ–º—à–µ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π. –û–Ω –µ–µ –µ–ª –∏ –∏ –≤ —Å—ã—Ä–æ–º –≤–∏–¥–µ, –∏ –≤ –≤–∞—Ä–µ–Ω–æ–º. –î–æ–±–∞–≤–ª—è–ª –∏ –≤ –º–∞–∫–∞—Ä–æ–Ω—ã, –∏ –≤ –∫–∞—à—É. –°—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –ø–æ–Ω–æ—Å–æ–º –∏ –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –∂—Ä–∞–ª. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–æ –∂–µ–ª—É–¥–∫–∞ —É –Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–∏–≤–æ–¥–∏–ª–æ, –ø–∞—Ä–¥–æ–Ω, –∫ –ø–æ–≤—ã—à–µ–Ω–Ω–æ–º—É –≥–∞–∑–æ–≤—ã–¥–µ–ª–µ–Ω–∏—é, –∑–∞–ø–∞—Ö –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –≤–µ—Å—å–º–∞ –Ω–µ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª—Å—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –≥–∞–∑–æ–∏—Å–ø—É—Å–∫–∞–Ω–∏–µ, –¥–∞ –µ—â–µ –Ω–æ—á—å—é, –≤–æ —Å–Ω–µ, —Å–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å —Å –∫–∞–∂–¥—ã–º –∏–∑ –Ω–∞—Å, –Ω–æ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —Å—Ç—Ä–∞–¥–∞–ª —ç—Ç–∏–º –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —á–∞—â–µ. –ë–∏–ª–∏ –∂–µ –∑–∞ —ç—Ç–æ –≤—Å–µ—Ö —Ç—Ä–æ–∏—Ö. –ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –Ω–µ —Ä–∞–∑ –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–ª–∏ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å –≤ —Ç–∞–∫–∏—Ö –∫–æ–ª–∏—á–µ—Å—Ç–≤–∞—Ö –∂—Ä–∞—Ç—å —á–µ—Ä–µ–º—à—É. –¢—â–µ—Ç–Ω–æ.
— –Ø —Ö–æ—á—É –≤—ã–∂–∏—Ç—å, — –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–ª –æ–Ω. — –í –Ω–∞—à–∏—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö —á–µ—Ä–µ–º—à–∞ — –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –∏—Å—Ç–æ—á–Ω–∏–∫ –≤–∏—Ç–∞–º–∏–Ω–æ–≤.
–í–æ—Ç —Ç—É—Ç –æ–Ω –±—ã–ª –Ω–µ –ø—Ä–∞–≤. –ö—Ä–æ–º–µ —á–µ—Ä–µ–º—à–∏, –≤ –Ω–∞—à–µ–º —Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫, —è–≥–æ–¥—ã –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–º –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∏ –Ω–∞ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É –ø–µ—Ä–µ–¥ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º. –ú—ã —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª–∏ —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫ –∏ –µ–ª–∏. –≠—Ç–æ –Ω–µ –≤–æ–∑–±—Ä–∞–Ω—è–ª–æ—Å—å. –í–∏—Ç–∞–º–∏–Ω–∞ «–°» –≤ –Ω–µ–º –±—ã–ª–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ, –¥–∞ –∏ –Ω–µ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω—ã—Ö –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–π –≤ –∫–∏—à–µ—á–Ω–∏–∫–µ —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫ –Ω–µ –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª.
–°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ª–µ—Å — –ª–µ—Å —Ç—Ä–µ—Ö—ä—è—Ä—É—Å–Ω—ã–π. –≠—Ç–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ. –ù–∏–∂–Ω–∏–º —è—Ä—É—Å–æ–º –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–µ—Ç –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫ — –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫ –∏ —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫. –í—Ç–æ—Ä–æ–π —è—Ä—É—Å — –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è —Å—Ä–µ–¥–Ω–µ–π –≤—ã—Å–æ—Ç—ã: –ª–∏–ø—ã, –¥—É–±—ã, –≥—Ä–µ—Ü–∫–∏–π –æ—Ä–µ—Ö. –¢—Ä–µ—Ç–∏–π —è—Ä—É—Å –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Å–æ—Ä–æ–∫. –≠—Ç–æ –º–æ–≥—É—á–∏–µ –æ—Å–∏–Ω—ã, –±—É–∫–∏, —Å–æ—Å–Ω—ã.
–í—Ö–æ–¥ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –±—ã–ª –æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω –Ω–∞ —é–≥. –ê —Å–∞–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –≤—ã–∫–æ–ø–∞–Ω –Ω–∞ –Ω–µ–≤—ã—Å–æ–∫–æ–º –≤–∑–≥–æ—Ä–æ—á–∫–µ –∏ —Å —Å–µ–≤–µ—Ä–∞ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Ç—è–Ω—É–ª—Å—è –¥–æ —Å–∞–º–æ–π —Ä–µ—á–∫–∏. –î–æ –Ω–µ–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫ –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Å—Ç–æ.
–í–æ–∫—Ä—É–≥ –ª–∞–≥–µ—Ä—è —Ä–µ—á–∫–∞ –¥–µ–ª–∞–ª–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–µ—Ç–ª—é. –ö—É–¥–∞ –Ω–∏ –ø–æ–π–¥–∏, –≤–µ–∑–¥–µ —É–ø—Ä—ë—à—å—Å—è –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω. –£–∂–µ –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –¥–µ–Ω—å –•–∞—Å–∞–Ω –≤–æ–¥–∏–ª –Ω–∞—Å –Ω–∞ —Ä–µ—á–∫—É –ø–æ–º—ã—Ç—å—Å—è. –ù–æ –≤–æ–¥–∏–ª –Ω–µ —Ç—É–¥–∞, –≥–¥–µ –º—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤–æ–¥—É, –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–µ, –∞ –Ω–∞ —é–≥, —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–∞—Å–∫–æ–ø–∫–∏ –±—É–Ω–∫–µ—Ä–∞. –•–∞—Å–∞–Ω —Å–¥–µ–ª–∞–ª —ç—Ç–æ –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –º—ã –º—ã–ª–∏—Å—å –ø–æ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—é –Ω–∏–∂–µ –≤–æ–¥–æ–∑–∞–±–æ—Ä–∞. –£–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–ª–æ—Ö–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é—Ç —Å–µ–±–µ, –≥–¥–µ –Ω–∞—Ö–æ–¥—è—Ç—Å—è. –ú—ã –º—ã–ª–∏—Å—å –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –≤—ã—à–µ –ø–æ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—é.
–ü–æ–∫–∞ –º—ã–ª–∏—Å—å, –•–∞—Å–∞–Ω –ª–æ–≤–∏–ª —Ñ–æ—Ä–µ–ª—å. –î—Ä—É–≥–∞—è —Ä—ã–±–∞ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ –≤–æ–¥–∏—Ç—Å—è. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∏ —Ñ–æ—Ä–µ–ª—å –Ω–µ –ª–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å. –í —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω –º–æ—Å—Ç–∏–∫ –∏–∑ —Å—Ç–≤–æ–ª–∞ —É–ø–∞–≤—à–µ–≥–æ —Å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞.
–ú–µ—Å—Ç–æ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –±—ã–ª–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–æ –õ–µ—á–µ–π –µ—â—ë –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å. –û–Ω–æ —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–æ—Å—å –≤ –Ω–µ–≥–ª—É–±–æ–∫–æ–π –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–µ –æ—Ç –≤–∑—Ä—ã–≤–∞. –ì–ª—É–±–∏–Ω–∞ –µ—ë –Ω–µ –ø—Ä–µ–≤—ã—à–∞–ª–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–ú–µ–∂–¥—É –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º –∏ –Ω–∞—à–∏–º –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–º –ª–µ–∂–∞–ª–∞ –ø–æ–∫–∞—Ç–∞—è –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –ø–æ–ª—è–Ω–∞, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã—Ç–∞—è —Å–≤–µ—Ä—Ö—É —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–º. –¢—Ä–∞–≤–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª—è–Ω–µ –æ—Å–Ω–æ–≤–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã—Ç–æ–ø—Ç–∞–Ω–∞. –í–∏–¥–∏–º–æ, –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º –∏ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ–º –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ –æ–¥–∏–Ω –≥–æ–¥. –í–æ–∑–≤—ã—à–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –Ω–∞–¥ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º –ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç–æ–º –≤–µ—Å—å–º–∞ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª–∞ –º–µ–Ω—è. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–æ—á–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ë–∂–∫–∏. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å–ø–∞–ª–∏ –≤–Ω–∏–∑—É, –∞ –º—ã — –ø–æ–¥ —Å–∞–º—ã–º –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä—ã—Ç–∏–µ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ —Å–ª–æ—è –±—Ä—ë–≤–µ–Ω. –°–≤–µ—Ä—Ö—É –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç–µ–ª–µ–Ω–∞ —Ç–∫–∞–Ω—å-500 –∏ –Ω–∞—Å—ã–ø–∞–Ω–æ –æ–∫–æ–ª–æ –ø–æ–ª—É–º–µ—Ç—Ä–∞ –∑–µ–º–ª–∏.
–ù–∞ –∑–∞–ø–∞–¥ –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç–∏, –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω –Ω–∞–≤–µ—Å, —Å—Ç–æ–ª –∏ —Å–∫–∞–º–µ–π–∫–∏. –¢–∞–º –∂–µ — –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å–∞–º–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ —Å–µ–±–µ –µ–¥—É. –•–æ–∑—è–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –õ–µ—á–∞ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –¥–æ –∫—É—Ö–Ω–∏ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –ø–æ –æ–∫–æ–ø—É.
–û–∫–æ–ø –º—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –∫–æ–ø–∞—Ç—å –ø—Ä—è–º–æ –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –¢–æ–ª–∫—É –æ—Ç –Ω–∞—à–µ–≥–æ —Ç–æ–ª–∫–∞–Ω–∏—è –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –±—ã–ª–æ –º–∞–ª–æ, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –õ–µ—á–∞ –∑–∞–±—Ä–∞–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –∑–∞–≥–æ—Ç–∞–≤–ª–∏–≤–∞—Ç—å –≤–µ—Ç–∫–∏ –¥–ª—è –æ–ø–∞–ª—É–±–∫–∏ –æ–∫–æ–ø–∞. –ß–µ—Ä–µ–∑ –∫–∞–∂–¥—ã–µ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞ –≤–¥–æ–ª—å —Å—Ç–µ–Ω–∫–∏ –æ–∫–æ–ø–∞ –º—ã –≤–±–∏–≤–∞–ª–∏ —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–µ –∫–æ–ª—å—è, –≤—ã—Å—Ç—É–ø–∞–≤—à–∏–µ –∏–∑ –æ–∫–æ–ø–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª–º–µ—Ç—Ä–∞. –°–≤–µ—Ä—Ö—É –∫–æ–ª—å—è —Å–æ–µ–¥–∏–Ω—è–ª–∏—Å—å –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω–∞–º–∏ –¥–ª—è –∂—ë—Å—Ç–∫–æ—Å—Ç–∏. –ú–µ–∂–¥—É —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π –æ–∫–æ–ø–∞ –∏ –∫–æ–ª—å—è–º–∏ –ø–∞—Ä–∞–ª–ª–µ–ª—å–Ω–æ –∑–µ–º–ª–µ –ø—Ä–æ—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–µ –≤–µ—Ç–∫–∏ –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞. –í–µ—Ç–∫–∏ –ø–µ—Ä–µ–≤—è–∑—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥—Ä—É–≥ —Å –¥—Ä—É–≥–æ–º –≤–µ—Ä—ë–≤–∫–∞–º–∏, –∫–∞–∫ –±—ã –ø—Ä–æ—à–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –≤–Ω–∏–∑. –ü–æ–ª—É—á–∞–ª–∞—Å—å –æ–ø–∞–ª—É–±–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª–∞ –æ—Å—ã–ø–∞—Ç—å—Å—è —Å—Ç–µ–Ω–∫–∞–º –æ–∫–æ–ø–∞.
–ö–æ–≥–¥–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –¥–Ω—è –º—ã –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏ –±–ª–∞–≥–æ—É—Å—Ç—Ä–æ–π—Å—Ç–≤–æ —ç—Ç–æ–≥–æ —Ö–æ–¥–∞ –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω—é, –õ–µ—á–∞ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª —Å–ª–µ–¥—É—é—â—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –î–ª—è –Ω—É–∂–¥ –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ–π —ç–≤–∞–∫—É–∞—Ü–∏–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –Ω—É–∂–µ–Ω –±—ã–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω –æ–∫–æ–ø — –æ—Ç —É–∂–µ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ — –∫ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫—É –∑–∞ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º.
–ú—ã –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –∫–æ–ø–∞—Ç—å —Å –¥–≤—É—Ö —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω. –Ø — —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≥–æ—Ç–æ–≤–æ–≥–æ –æ–∫–æ–ø–∞, –∞ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π — —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –≤ –ª–µ—Å. –õ–µ—á–∞ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞–º–∏ –∑–∞–¥–∞—á—É –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏—Ç—å –∫–æ–ø–∞—Ç—å –∫ –æ–±–µ–¥—É. –ó–∞–¥–∞—á–∞ –≤–ø–æ–ª–Ω–µ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω–∏–º–∞—è. –ò–Ω–∞—á–µ — –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ. –ß–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ —è —Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, –º–Ω–æ–≥–æ –ª–∏ –Ω–∞–∫–æ–ø–∞–ª –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –∏ —É–∂–∞—Å–Ω—É–ª—Å—è. –û–Ω –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ —Å–∞—á–∫–æ–≤–∞–ª.
— –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è —è –∫ –Ω–µ–º—É, — –º—ã –±—É–¥–µ–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ –æ—Ç–≤–µ—á–∞—Ç—å –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ –≤—ã–∫–æ–ø–∞–ª–∏ –æ–∫–æ–ø –¥–æ –æ–±–µ–¥–∞. –õ–µ—á–∞ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç —Ä–∞–∑–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è, –∫—Ç–æ –∫–æ–ø–∞–ª, –∞ –∫—Ç–æ — –Ω–µ—Ç.
— –ù—É, —Ç–∞–∫, –∫–æ–ø–∞–π, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω –±–µ–∑—Ä–∞–∑–ª–∏—á–Ω–æ.
— –ê —Ç—ã?! — —è –ø–µ—Ä–µ—à—ë–ª –Ω–∞ «—Ç—ã».
— –ò —è –∫–æ–ø–∞—é, — –æ–Ω —Å–∫—Ä–∏–≤–∏–ª —É–ª—ã–±–∫—É. — –í –º–µ—Ä—É —Å–∏–ª.
— –Ø –∂–µ –≤–∏–∂—É, —á—Ç–æ —Ç—ã —Å–∞—á–∫—É–µ—à—å!
— –ê —Ç–µ–±–µ –∫—Ç–æ –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞–µ—Ç —Å–∞—á–∫–æ–≤–∞—Ç—å?
— –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, —Ç—ã —Å—á–∏—Ç–∞–µ—à—å, —á—Ç–æ –ª—É—á—à–µ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –ø–æ –±–∞—à–∫–µ –æ—Ç –õ–µ—á–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –∫–æ–ø–∞—Ç—å —Ç–æ—Ç –∂–µ –æ–∫–æ–ø –ø–æ–¥ –ø–∞–ª–∫–∞–º–∏? –û–Ω–∏ –∂–µ –≤—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤—è—Ç —Ç–µ–±—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å!
–í–¥—Ä—É–≥ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —Å –ª–æ–ø–∞—Ç–æ–π, –ø—Ä–∏–∂–∞–ª —á–µ—Ä–µ–Ω–∫–æ–º –∫ —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ –æ–∫–æ–ø–∞ –∏ –ø—Ä–æ—à–∏–ø–µ–ª:
— –¢—ã, —Å–æ–ø–ª—è–∫, –±—É–¥–µ—à—å –∑–∞ –º–µ–Ω—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å, — –æ–Ω –±—Ä—ã–∑–≥–∞–ª —Å–ª—é–Ω–æ–π –∏ –ø–æ–±–∞–≥—Ä–æ–≤–µ–ª. — –Ø —Ç–≤–æ–π –ø–∞—Ö–∞–Ω –∏ –ø–æ-–¥—Ä—É–≥–æ–º—É –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç.
–Ø –≤—ã–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∏ –æ–≥—Ä–µ–ª –µ–≥–æ —á–µ—Ä–µ–Ω–∫–æ–º —Å–≤–æ–µ–π –ª–æ–ø–∞—Ç—ã. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –µ—â—ë –¥–≤–∏–Ω—É–ª –∫—É–ª–∞–∫–æ–º –≤ —á–µ–ª—é—Å—Ç—å. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –æ–ø–µ—à–∏–ª. –û–Ω –Ω–µ –æ–∂–∏–¥–∞–ª —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Ç–ø–æ—Ä–∞, –æ—Ç—Å–∫–æ—á–∏–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –∞ —è –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ.
— –Ø —Ç–µ–±—è –ø—Ä–∏–±—å—é, –≥–∞–¥, –∑–∞ —Ç–∞–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞, — –ø–æ–ª—É—à—ë–ø–æ—Ç–æ–º —Ä—ã—á–∞–ª —è –µ–º—É.
— –ü–æ–¥–æ–∂–¥–∏, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Å—å, — –∑–∞—à–µ–ø—Ç–∞–ª –æ–Ω.
–ì–ª–∞–∑–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–µ–≥–∞–ª–∏. –û–Ω –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—é—Ç –ê—Å–ª–∞–Ω–±–µ–∫ –∏ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. –Ø —Å—Ç–æ—è–ª —Å–ø–∏–Ω–æ–π –∫ –Ω–∏–º, –∏ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –∏—Ö –Ω–µ –º–æ–≥.
— –î–∞–≤–∞–π, –≤–ø—Ä–∞–≤—å –µ–º—É –º–æ–∑–≥–∏, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –±–µ–∑ –ø–æ–¥–Ω–∞—á–∫–∏ –∏ –∑–ª–æ–±—ã –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –≠—Ç–æ—Ç —É–≥–æ–ª–æ–≤–Ω–∏–∫ –∑–∞—Ä–≤–∞–ª—Å—è. –ü–æ—Å—Ç–∞–≤—å –µ–≥–æ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ.
–ù–æ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞—á–∞–ª —Å—É–¥–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –∫–æ–ø–∞—Ç—å. –Ø —Ç–æ–∂–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ —Å–≤–æ—ë –º–µ—Å—Ç–æ. –ß–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –æ–∫–æ–ø –±—ã–ª –≥–æ—Ç–æ–≤. –ù–æ —Ç—É—Ç –ø—Ä–∏—à—ë–ª –õ–µ—á–∞.
— –Ø —Å–ª—ã—à–∞–ª, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, — —á—Ç–æ –≤—ã —Ç—É—Ç —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ–¥–µ–ª–∏–ª–∏?
–ú—ã –º–æ–ª—á–∞–ª–∏.
— –í—Å–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã, –æ—Ç–Ω—ã–Ω–µ, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –õ–µ—á–∞, — –≤—ã –±—É–¥–µ—Ç–µ —Ä–µ—à–∞—Ç—å –Ω–µ –º–µ–∂–¥—É —Å–æ–±–æ–π, –∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—Ä–µ–∑ –º–µ–Ω—è. –ê —Å–µ–π—á–∞—Å –±—É–¥–µ—Ç–µ –¥—Ä–∞—Ç—å—Å—è.
–ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –æ–∫—Ä—É–∂–∏–ª–∏ –Ω–∞—Å –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–¥–Ω–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å. –ò–º –±—ã–ª–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –¥—Ä–∞–∫—É –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤. –ê –º—ã —Å—Ç–æ—è–ª–∏ –¥—É—Ä–∞–∫–∏-–¥—É—Ä–∞–∫–∞–º–∏. –î—Ä–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ –∑–∞–∫–∞–∑—É –º—ã –Ω–µ —É–º–µ–ª–∏.
— –ï—Å–ª–∏ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç–µ –¥—Ä–∞—Ç—å—Å—è —Å–∞–º–∏, — –∑–Ω–∞–µ—Ç–µ, —á—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç, — —É–≥—Ä–æ–∂–∞–ª –õ–µ—á–∞. — –í–æ–Ω –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º —É–∂–µ –≥–æ—Ç–æ–≤—è—Ç –∫—É–ª–∞–∫–∏.
–°–ª–æ–≤–Ω–æ –≤ –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–µ–Ω–∏–µ —ç—Ç–∏—Ö —Å–ª–æ–≤ –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø–∏—Ö–∞–ª –º–µ–Ω—è —Å–≤–æ–∏–º–∏ –∫—É–ª–∞—á–∏—â–∞–º–∏.
— –î–∞–≤–∞–π –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–ª–∏–≤–æ –ø–æ–¥–Ω–∞—á–∏–≤–∞–ª –æ–Ω, — –Ω–∞–±–µ–π –º–æ—Ä–¥—É —ç—Ç–æ–º—É –µ–≤—Ä–µ—é.
— –ú–æ–∂–µ—Ç –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –ø–æ–¥–µ—Ä—ë–º—Å—è, –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ –∏ –ø–æ–Ω—è–ª –≤—Å—é –±–µ–∑–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏—è.
–ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ –∂–∞–ª–∫–æ —ç—Ç–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –û–Ω –±—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ, –∫–∞–∫ —è. –¢–∞–∫–æ–π –∂–µ –Ω–µ—Å—á–∞—Å—Ç–Ω—ã–π –∏ –æ–±–µ–∑–¥–æ–ª–µ–Ω–Ω—ã–π. –°–µ–π—á–∞—Å –æ–Ω –±—ã–ª –º–Ω–µ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ —Ä–æ–¥–Ω—ã–º. –Ý–∞–∑—ã–≥—Ä—ã–≤–∞—Ç—å –∫–ª–æ—É–Ω–æ–≤ –ø–µ—Ä–µ–¥ —ç—Ç–∏–º–∏ –≥–Ω—É—Å–Ω—ã–º–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—Å–∫–∏–º–∏ —Ä–æ–∂–∞–º–∏ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å.
–ù–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—é—é –º–æ—é —Ñ—Ä–∞–∑—É –≤—Å–µ –∑–∞—Ä–∂–∞–ª–∏. –°–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –≥–ª—É–ø–∞—è —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è. –£ –º–µ–Ω—è —É–∂–µ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –∏ –∫–∞–ø–ª–∏ –æ–±–∏–¥—ã –Ω–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ. –£ –Ω–µ–≥–æ — —Ç–æ–∂–µ. –Ø —á–∏—Ç–∞–ª —ç—Ç–æ –≤ –µ–≥–æ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö.
— –î—Ä–∞—Ç—å—Å—è — –¥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –∫—Ä–æ–≤–∏, — –æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞ –õ–µ—á–∞, — –∏–ª–∏ –¥–æ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –∫—Ç–æ-—Ç–æ —É–ø–∞–¥—ë—Ç.
–î–µ–ª–∞—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –ò–∑ –¥–≤—É—Ö –∑–æ–ª –º—ã –≤—ã–±—Ä–∞–ª–∏ —ç—Ç–æ—Ç —Ü–∏—Ä–∫. –ó–∞–Ω—è–ª–∏ –±–æ–µ–≤—ã–µ –±–æ–∫—Å—ë—Ä—Å–∫–∏–µ —Å—Ç–æ–π–∫–∏. –°—Ç–∞–ª–∏ –ª–µ–≥–æ–Ω—å–∫–æ –ø–æ—Å—Ç—É–∫–∏–≤–∞—Ç—å –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥–∞ —Ç–æ –ø–æ –ø–ª–µ—á—É, —Ç–æ –ø–æ —Ä—É–∫–∞–º. –ù–æ –õ–µ—á–∞ –∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Ç–∞–∫ –æ–≥—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞—Å –ø–∞–ª–∫–∞–º–∏ –ø–æ —Å–ø–∏–Ω–∞–º, —á—Ç–æ —è –ø–æ–Ω—è–ª — –Ω–∞–¥–æ –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞—Ç—å. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä—ã–≥–∞–ª –≤ —Å—Ç–æ–π–∫–µ –∏ –ø–∞—Ä—É —Ä–∞–∑ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –º–Ω–µ –¥–æ —É—Ö–∞. –Ø —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–ø–∞–ª –µ–º—É –≤ —Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω–æ–µ —Å–ø–ª–µ—Ç–µ–Ω–∏–µ, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –æ—Ç–∫—Ä—ã–ª—Å—è –∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π —É–¥–∞—Ä –≤ —á–µ–ª—é—Å—Ç—å. –í–æ—Ç —Ç—É—Ç-—Ç–æ —è –Ω–µ –ø—Ä–µ–º–∏–Ω—É–ª –≤–æ—Å–ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–ª—É—á–∞–µ–º –∏ —É–ø–∞–ª. –î–∞ —Ç–∞–∫ —É–¥–∞—á–Ω–æ, —á—Ç–æ –µ—â—ë –∏ –ø–µ—Ä–µ–∫–∞—Ç–∏–ª—Å—è —á–µ—Ä–µ–∑ –≥–æ–ª–æ–≤—É. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –≤—Å–∫–æ—á–∏—Ç—å –∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≤–∏–¥, —á—Ç–æ –ø–∞–¥–∞—é. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π, –∑–∞–∫–∞—Ç–∏–ª –≥–ª–∞–∑–∞. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –õ–µ—á–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª —ç–∫–∑–µ–∫—É—Ü–∏—é. –ü—Ä–∞–≤–∏–ª–æ –±—ã–ª–æ —Å–æ–±–ª—é–¥–µ–Ω–æ — –¥–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Å–±–∏—Ç–æ–≥–æ —Å –Ω–æ–≥. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –±—ã–ª–∏ —è–≤–Ω–æ –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω—ã –∏—Å—Ö–æ–¥–æ–º —Å—Ö–≤–∞—Ç–∫–∏. –û–Ω–∏ —Ö–æ—Ç–µ–ª–∏, —á—Ç–æ–±—ã —è –ø–æ–±–∏–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ.
–í –æ–±–µ–¥ –º–µ–∂–¥—É –Ω–∞–º–∏ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª—Å—è —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä, –∏ –º—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –Ω–µ –¥–æ–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ —Ç–∞–∫–∏—Ö —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏–π. –≠—Ç–æ –º–æ–≥–ª–æ –≤–æ–π—Ç–∏ –≤ —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –∏ –Ω–∏ –∫ —á–µ–º—É —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–º—É –Ω–µ –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–æ –±—ã.
–í –æ–±–µ–¥ –µ—â—ë —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–ª–æ—Å—å –ø–∏—Ç—å. –ü–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞ –∏ –¥–æ —É—Ç—Ä–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏—Ö —Å—É—Ç–æ–∫ — –Ω–∏ –∫–∞–ø–ª–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∞ —Ç–æ–∂–µ –∏–Ω–∏—Ü–∏–∞—Ç–∏–≤–∞ –õ–µ—á–∏. –ù–∞—Å –∑–∞–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Ä—ã –∏ –∑–∞–ø–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –æ–∫–æ–ª–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ —á–∞—Å–æ–≤ –≤–µ—á–µ—Ä–∞. –£–∂–∏–Ω–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –°—Ä–∞–∑—É –ø–æ—Å–ª–µ –∑–∞—Ö–æ–¥–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥—ã –º–æ–ª–∏–ª–∏—Å—å –∏ –ª–æ–∂–∏–ª–∏—Å—å —Å–ø–∞—Ç—å. –°–ø–∞–ª–∏ –¥–æ–ª–≥–æ, —á–∞—Å–æ–≤ –¥–æ –≤–æ—Å—å–º–∏ —É—Ç—Ä–∞. –í—Å—ë —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –º—ã –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ —Å–∏–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ –Ω–∞—Ä–∞—Ö. –í –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–Ω–∏ –Ω–∞—Å –µ—â—ë –≤—ã–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏ –Ω–æ—á—å—é –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç, –Ω–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º –±—ã–ª–æ –ª–µ–Ω—å –≤—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –∏ —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –¥–æ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç–∞. –í–æ—Ç –õ–µ—á–∞ –∏ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ—â–µ –Ω–∞–º –Ω–µ –¥–∞–≤–∞—Ç—å –≤–æ–¥—ã –ø–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞, –∞ –∑–∞–æ–¥–Ω–æ –∏ –Ω–µ –∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å —É–∂–∏–Ω–æ–º. –í—Ç–∏—Ö–∞—Ä—è –º—ã, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–∏–ª–∏, –Ω–æ –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å—Å—è –∑–∞ —ç—Ç–∏–º –±—ã–ª–æ —á—Ä–µ–≤–∞—Ç–æ –∏–∑–±–∏–µ–Ω–∏–µ–º.
–î–∞–∂–µ —Ç–∞–∫–∏–µ –º–µ—Ä—ã –Ω–µ —Å–ø–∞—Å–∞–ª–∏ –æ—Ç –º—É—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏—è –ø–æ–¥—ä—ë–º–∞. –î–≤–µ–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —á–∞—Å–æ–≤ –±–µ–∑ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç–∞ — —ç—Ç–æ —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω–æ. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–µ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ –ø–æ–¥—ä—ë–º–æ–º –º—ã —É–∂–µ –Ω–µ —Å–ø–∞–ª–∏, –∞ –º—É—á–∏–ª–∏—Å—å. –î–æ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç–∞ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –¥–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤ –ø–æ–ª—É—Å–æ–≥–Ω—É—Ç–æ–º —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏, —á—Ç–æ–±—ã –¥–æ–Ω–µ—Å—Ç–∏ —Ç–≤—ë—Ä–¥—ã–π, –∫–∞–∫ –∫–∞–º–µ–Ω—å, –º–æ—á–µ–≤–æ–π –ø—É–∑—ã—Ä—å.
–ü–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –º—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –≤—ã—Ä—ã–ª–∏ –≤—Å–µ –æ–∫–æ–ø—ã, –õ–µ—á–∞ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —è –¥–µ–ª–∞–ª –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–∏ –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö —É –ú—É—Å—ã.
–ü–æ—à–ª–∞ –≤—Ç–æ—Ä–∞—è –Ω–µ–¥–µ–ª—è –Ω–∞—à–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É. –í —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –Ω–µ –±—ã–ª –∑–∞–Ω—è—Ç —Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è–º–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–æ–π –∏ —Ä–∞—Å–ø–∏–ª–∫–æ–π –¥—Ä–æ–≤, —à–∏—Ç—å—ë–º –∏ –ø—Ä–æ—á–∏–º–∏ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–∏—è–º–∏ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–º–∏ –ø–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞–ª –∫—É—Ö–æ–Ω–Ω—ã–º –Ω–æ–∂–æ–º. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤ –º–æ—ë–º —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–æ–∂–Ω–∏—Ü—ã –¥–ª—è —Å–≤–µ—Ä–ª–µ–Ω–∏—è –∏ —Ä–∞–∑–≤–æ—Ä–æ—Ç–∞ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–π, –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∞ –¥–ª—è —Ç–µ—Ö –∂–µ —Ü–µ–ª–µ–π –∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –º–µ–ª–æ—á–∏, –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º—ã–µ –¥–ª—è –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—è –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–æ–≤. –ù–æ —Å–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — –≤ –º–æ—ë–º —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –≤—Ä–µ–º—è –¥–ª—è –Ω–∞–±–ª—é–¥–µ–Ω–∏—è –∑–∞ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ–º. –í —Ç–µ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–∏–µ –º–∏–Ω—É—Ç—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –∑–∞–Ω—è—Ç—ã —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π, –Ω–∞—Å –æ–±—è–∑—ã–≤–∞–ª–∏ —Å–∏–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–µ —É —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. –°–∏–¥–µ—Ç—å —Å–ø–∏–Ω–æ–π –∫ –ª–∞–≥–µ—Ä—é. –ì–æ–ª–æ–≤–∞ –æ–ø—É—â–µ–Ω–∞. –í–∑–≥–ª—è–¥ — –≤ –∑–µ–º–ª—é. –ú–Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–ª–æ—Å—å —Å–∏–¥–µ—Ç—å —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ –Ω–µ–æ–±—Ö–æ–¥–∏–º–æ –¥–ª—è —Ä–∞–±–æ—Ç—ã. –Ý–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å –º–µ–∂–¥—É —Å–æ–±–æ–π –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞–ª–æ—Å—å.
–ú–Ω–µ —É–∂–µ –±—ã–ª–æ —Ç–æ—á–Ω–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –≥–¥–µ –º—ã –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –ø–ª–∞–Ω –ø–æ–±–µ–≥–∞. –°—Ç–∞–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞—à–∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∞ –±–µ—Å—Å–∏—Å—Ç–µ–º–Ω–∞. –ó–∞ –Ω–∞–º–∏ —Å–ª–µ–¥–∏–ª–∏ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –õ–µ—á–µ–π –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã. –í –ª–∞–≥–µ—Ä–µ —á–∞—Å—Ç–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–µ –Ω–∞–º –ª—é–¥–∏. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∏—Ö, —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, –ª–µ—Ç —Å–æ—Ä–æ–∫–∞, —Å–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω–µ –∏ –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –Ω–∞—Å —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª. –í—Ç–æ—Ä–æ–π, –≤ —Ç–µ–ª—å–Ω—è—à–∫–µ, —á—É—Ç—å –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä—à–µ, —Ç–∞–∫ –∂–µ –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –≤ –Ω–∞—à—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ –∏, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä —ç—Ç–æ—Ç –∫–∞—Å–∞–ª—Å—è –Ω–∞—Å. –≠—Ç–∏ –¥–≤–æ–µ –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –ø–æ—Ö–æ–∂–∏ –Ω–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –≤–µ—Ä–Ω—É–≤—à–∏—Ö—Å—è —Å –≤–æ–π–Ω—ã. –£ –Ω–∞—Å, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–æ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø–æ—Å—Ä–µ–¥–Ω–∏–∫–∏ –≤ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–∞—Ö –ø–æ –Ω–∞—à–µ–º—É –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é.
–ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—Å –≤–¥—Ä—É–≥ –æ—Ç–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –ª–µ—Å, –≥–¥–µ –º—ã, –ø–æ–¥ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–æ–π, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–µ—Ä–µ–∂–∏–¥–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –Ω–µ–∫–∏—Ö –≥–æ—Å—Ç–µ–π. –ù–∞–º —ç—Ç–æ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å, –∏–±–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—É–∫–∞–ª –Ω–∞–º–∏ –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è, –Ω–µ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –Ω–∏—á–µ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å.
–ü–æ—Å–ª–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ —Ç–∞–∫–∏—Ö –≤–∏–∑–∏—Ç–æ–≤, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –¥–ª–∏–ª—Å—è –æ–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞, –º—ã –ø–æ—à–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±—ã–ª–∞ –≤—ã—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–Ω–∞ –Ω–µ–∫–∞—è —Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥–∏—è —Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è –∫ —Ä–µ—á–∫–µ. –ú—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –≤–µ—à–∞–ª–∏ –Ω–∞ —Ç–æ–ª—Å—Ç—É—é –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω—É –∞–ª—é–º–∏–Ω–∏–µ–≤—ã–π –±–∏–¥–æ–Ω. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —à–µ–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ —Å –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω–æ–π –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–µ –∏ –≤–µ–¥—Ä–æ–º. –Ø — –ø–æ–∑–∞–¥–∏, –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—è –±–∏–¥–æ–Ω –∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞—è—Å—å –∏–¥—Ç–∏ –≤ –Ω–æ–≥—É —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞—Å —à–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Å –¥–≤—É–º—è –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–∞—Å—å —ç—Ç–∞ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞. –í —Å–≤–æ–∏ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç —Ç—Ä–∏ –≥–æ–¥–∞ –æ–Ω–∞ –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª–∞ —Ö—Ä—É–ø–∫–∏–º –ø–æ–¥—Ä–æ—Å—Ç–∫–æ–º. –≠—Ç–æ –ø—Ä–∏—Ç–æ–º, —á—Ç–æ –º–µ–Ω–µ–µ –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ –Ω–∞ –ø—Ä–∏—ë–º–µ –≤ –ú–∞–≥–∞—Å–µ —É –ê—É—à–µ–≤–∞ —É –Ω–µ—ë —Ä–∞–∑–æ—à–ª–∞—Å—å –º–æ–ª–Ω–∏—è –Ω–∞ —é–±–∫–µ, –∏ –æ–Ω–∞ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∞, –∫–∞–∫ –≤—Å—Ç–∞—Ç—å –∏–∑-–∑–∞ —Å—Ç–æ–ª–∞. –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Ç–æ–≥–¥–∞, —á—Ç–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –≤ —Ç–µ–ª–µ.
–í —Ç–æ–º –æ–±—ã—á–Ω–æ–º –ø–æ—Ö–æ–¥–µ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–∏ –º–æ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –æ–ø—É—Å—Ç–æ—à–µ–Ω–∏—è –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –ú—ã –Ω–µ –ø—Ä–æ—à–ª–∏ –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã—Ö —Å—Ç–∞ —à–∞–≥–æ–≤ –∫ —Ä–µ–∫–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –ø–æ—Ç–∏—Ö–æ–Ω–µ—á–∫—É –∑–∞–≤—ã–ª. –Ø –¥–∞–∂–µ –æ–ø–µ—à–∏–ª, –Ω–æ, –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–≤—à–∏—Å—å, –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –æ–Ω —Ç–∞–∫ –ø–æ—ë—Ç. –Ý–∞–Ω—å—à–µ –∑–∞ –Ω–∏–º –ø–µ–Ω–∏—è –Ω–µ –∑–∞–º–µ—á–∞–ª–æ—Å—å. –ù–∞—Å —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞–ª–∏ –¥–≤–∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞–º–∏. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∏—Ö, –º—É–∂–∏–∫–æ–≤–∞—Ç–æ-—Å–µ–ª—å—Å–∫–∏–π –ê–¥–∞–º, —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —Å—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª.
— –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, –¥–∞—Ü, –æ—Ç—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –ø–µ—Å–Ω—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ.
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª –ê–¥–∞–º–∞. –¢–æ–≥–¥–∞ –ê–¥–∞–º —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª —Å –æ–±–æ—á–∏–Ω—ã –ª–µ—Å–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –ø–µ—Ä–≤—É—é –ø–æ–ø–∞–≤—à—É—é—Å—è –∫–æ—Ä—è–≥—É –∏ —à–≤—ã—Ä–Ω—É–ª –µ—ë –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ. –û—Ç —É–¥–∞—Ä–∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –ø—Ä–∏–≥–Ω—É–ª—Å—è –∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª –ø–µ–Ω–∏–µ.
–ù–∞ —Ä–µ—á–∫–µ –≤—Å—ë —Ç–æ–∂–µ –±—ã–ª–æ —Ä–∞—Å–ø–∏—Å–∞–Ω–æ. –Ø –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –ª–µ–∂–∞–ª–æ –≤ –≤–æ–¥–µ, –∏ –Ω–∞–±–∏—Ä–∞–ª –≤–æ–¥—É –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –¥–≤–∞ –≤–µ–¥—Ä–∞ –¥–ª—è –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ó–¥–µ—Å—å —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª—Å—è –æ—Å–æ–±–æ –¥–∏—Ñ—Ñ–µ—Ä–µ–Ω—Ü–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–π –ø–æ–¥—Ö–æ–¥. –ï—Å–ª–∏ —Å –Ω–∞–º–∏ –±—ã–ª –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π, —Ç–æ –≤—ë–¥—Ä–∞ –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏—Å—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –∏—Ö –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Å—Ç–∏, –Ω–µ —Ä–∞—Å–ø–ª—ë—Å–∫–∏–≤–∞—è. –ù–∞–±–∏—Ä–∞—Ç—å –ø–æ–º–µ–Ω—å—à–µ — –ª—É—á—à–µ –¥–ª—è –°–≤–µ—Ç—ã, –æ–Ω–∞ –µ—â—ë –±—ã–ª–∞ –æ—á–µ–Ω—å —Å–ª–∞–±–∞ –ø–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –∏–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è. –ù–æ — –Ω–µ–ª—å–∑—è! –õ–µ—á–∞ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —ç—Ç–æ –∑–∞–º–µ—á–∞–ª, –∏ —è –ø–æ–ª—É—á–∞–ª –ø–∞–ª–∫–æ–π –ø–æ –±–∞—à–∫–µ. –ï—Å–ª–∏ —Å –Ω–∞–º–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π —à—ë–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, —Ç–æ —Å–≤–µ—Ç–∏–Ω—ã –≤—ë–¥—Ä–∞ –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏—Å—å –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–∞–ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É. –ò —Ç–æ, —á–∞—Å—Ç—å –ø—É—Ç–∏ –æ–Ω —Å–∞–º –Ω—ë—Å –µ—ë –≤—ë–¥—Ä–∞. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ –Ω–∞—Å –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è. –ï—Å–ª–∏ –∂–µ –Ω–∞—Å –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º, –≤—ë–¥—Ä–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏—Å—å –≤—Å–∫–ª–µ–Ω—å, –¥–æ–≤–µ—Ä—Ö—É. –≠—Ç–∏–º –º–µ—Ä–∑–∞–≤—Ü–∞–º –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ —ç—Ç–∞ —Ö—Ä—É–ø–∫–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ —Å—Ç–∞—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å –Ω–µ–ø–æ—Å–∏–ª—å–Ω—É—é –¥–ª—è –Ω–µ—ë –Ω–æ—à—É, –∫–∞–∫ –∏–¥—ë—Ç, –∫–∞—á–∞—è—Å—å, –∫–∞–∫ –æ–±–ª–∏–≤–∞–µ—Ç –Ω–æ–≥–∏ –ø–ª–µ—â—É—â–µ–π—Å—è –∏–∑ –≤—ë–¥–µ—Ä –≤–æ–¥–æ–π.
–ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ –≤–º–µ—Å—Ç–µ, –≤ –∫–∞–∂–¥–æ–º –∏–∑ –Ω–∏—Ö –º–µ–ª—å–∫–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫–∏ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–∞. –ú–æ–≥–ª–æ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞—Ç—å –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–µ –º–Ω–µ: «–í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ç—ã —á—Ç–æ, —Ö–æ—á–µ—à—å —É–±–∏—Ç—å –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—É?» –ò –æ–Ω–∏ –ª–∏—á–Ω–æ –æ—Ç–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –∏–∑ –≤—ë–¥–µ—Ä –≤–æ–¥—É. –ù–æ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ–º —ç—Ç–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã —è –ø–æ—Å–º–µ–ª –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å –≤–µ–¥—Ä–æ –Ω–µ –¥–æ –≤–µ—Ä—Ö—É. –ó–∞ —ç—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –ø–∏–Ω–∫–∞, —É–ø–∞–ª –≤ –≤–æ–¥—É, –∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –Ω–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ–ª–Ω—ã–µ –≤—ë–¥—Ä–∞, –µ–¥–≤–∞ –ø–æ—Å–ø–µ–≤–∞—è –ø–æ–¥ –æ–∫—Ä–∏–∫–∞–º–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –æ—Ç –≤–æ–¥–æ–∑–∞–±–æ—Ä–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã –æ–±–µ—Å–ø–µ—á–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ —Ñ–æ—Ä—É. –ú—ã –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –±–∏–¥–æ–Ω, –≤–µ–¥—Ä–æ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –ü–æ –ø—É—Ç–∏, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –¥–æ–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –ö–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –Ω–µ—Å–ª–∞ –≤–æ–¥—É, –Ω–∞ –Ω–µ—ë –∂–∞–ª–∫–æ –±—ã–ª–æ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å. –ö–∞—Ä—Ç–∏–Ω—É –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã –±—ã–ª–æ –Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å «–ù–µ–ø–æ—Å–∏–ª—å–Ω—ã–π –¥–µ—Ç—Å–∫–∏–π —Ç—Ä—É–¥».
7 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞.¬Ý–û–∫–æ–ª–æ –æ–¥–∏–Ω–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ —á–∞—Å–æ–≤ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø—Ä–∏—à—ë–ª –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π. –û–Ω –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å —Ä–∞–±–æ—Ç—É –∏ –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ –Ω–∏–º. –ú—ã –ø–æ—à–ª–∏ –≤ –ª–µ—Å –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —é–≥–∞ –∏ —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã –Ý–æ—Å—Ç–æ–≤-–ë–∞–∫—É.
— –ò–¥–∏ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏, — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –õ–µ—á–∞, –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞—è –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –∏–∑ –∫–æ–±—É—Ä—ã.
–ó–∞ –ø–æ—è—Å–æ–º —É –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª –µ—â—ë –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä. –Ø —à—ë–ª, –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è—è –µ–≥–æ –∫–æ–º–∞–Ω–¥—ã: «–ø—Ä–∞–≤–µ–µ», «–ª–µ–≤–µ–µ» –∏ –ø—Ä–æ—á–∏–µ. –≠—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ–ø—Ä–∏—è—Ç–Ω–æ — –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ–¥ –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç–æ–º –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –∫—É–¥–∞ –∏ –∑–∞—á–µ–º. –ù–æ –º–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –õ–µ—á–∞ –¥–æ–≥–Ω–∞–ª –º–µ–Ω—è –∏ –ø–æ—à—ë–ª —Ä—è–¥–æ–º.
— –î–∞–≤–∞–π —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–º –∏–≥—Ä—É, — –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –æ–Ω. — –Ø –¥–∞—é —Ç–µ–±–µ –ø—è—Ç—å –º–∏–Ω—É—Ç, —á—Ç–æ–±—ã —É–±–µ–∂–∞—Ç—å, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –±—É–¥—É —Ç–µ–±—è –ª–æ–≤–∏—Ç—å. –ù–æ —É—á—Ç–∏, –±—É–¥—É —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å.
–Ø –º–æ–ª—á–∞–ª. –ò–≥—Ä–∞—Ç—å —Å –õ–µ—á–µ–π –≤ —Ç–∞–∫–∏–µ –∏–≥—Ä—ã –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å.
— –¢—ã —Ö–æ—á–µ—à—å –º–µ–Ω—è —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –¢–µ–±—è — –º–µ–Ω—å—à–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
— –¢–æ–≥–¥–∞ –∑–∞—á–µ–º –∂–µ –º–Ω–µ –±–µ–∂–∞—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è. — –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –ø–æ –Ω–∞—à–µ–º—É –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é —É–∂–µ –∏–¥—É—Ç?
— –ù–∏ —Ö—Ä–µ–Ω–∞ –≤—ã –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –Ω—É–∂–Ω—ã, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞. — –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–≤–æ—è –∂–µ–Ω–∞ –∏ —Ä–∞–∑–≤–∏–≤–∞–µ—Ç –±—É—Ä–Ω—É—é –¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å. –û–Ω–∞ –º–æ–ª–æ–¥–µ—Ü.
–ú—ã –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —É–∫–∞—Ç–∞–Ω–Ω–æ–π –ª–µ—Å–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ.
— –°—Ç–æ–π! — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –õ–µ—á–∞.
–û–Ω –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –∫—Ä–∞—é –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ –æ–±–µ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –∏ –º–∞—Ö–Ω—É–ª –º–Ω–µ —Ä—É–∫–æ–π.
— –ü–æ—à—ë–ª!
–Ø –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–µ—Ä–µ–±–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –∏ –º—ã –ø–æ—à–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ –Ω–∞ —é–≥. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏ –Ω–∞–º, —á—Ç–æ –≤–µ—Å—å –ª–µ—Å –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω. –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —ç—Ç–∏–º –æ–Ω–∏ –Ω–∞—Å –ø—É–≥–∞–ª–∏, –Ω–æ –≤ –ª–µ—Å—É –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –º–æ–≥–ª–∏ –±—ã—Ç—å –º–∏–Ω—ã. –í–æ–π–Ω–∞. –ó–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–æ — –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–æ. –ù–æ —è —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ —Ö–æ–¥—è—Ç –ø–æ –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω–æ–º—É –ª–µ—Å—É. –ú—ã —Å –õ–µ—á–µ–π —à–ª–∏ –Ω–µ —Ç–∞–∫. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –≤–∞–∂–Ω–æ. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –≤ —ç—Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –º–æ–∂–Ω–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å.
–õ–µ—Å –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ—Ä–µ–¥–µ–ª. –ù–∞—á–∞–ª–∏ –ø–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –±–æ–ª—å—à–∏–µ –ø–æ–ª—è–Ω—ã. –ú—ã —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ –≤–ª–µ–≤–æ, –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫, –ø–µ—Ä–µ–π–¥—è –µ—â—ë –æ–¥–Ω—É –¥–æ—Ä–æ–≥—É.
–ù–∞ –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –ø–æ–ª—è–Ω –õ–µ—á–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è, –æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—è—Å—å. –ü–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ —Ä–∞–∑–≤–µ—Å–∏—Å—Ç–æ–º—É –¥—É–±—É. –ó–¥–µ—Å—å –≤–∞–ª—è–ª—Å—è –±–µ–ª—ã–π —à—ë–ª–∫–æ–≤—ã–π –ª–µ–Ω—Ç–æ—á–Ω—ã–π –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç, –ø—Ä–∏–≤—è–∑–∞–Ω–Ω—ã–π –∫ –∫–æ–Ω—Ç–µ–π–Ω–µ—Ä—É.
— –≠—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ –∫–æ–Ω—Ç–µ–π–Ω–µ—Ä, — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è, — –∫–∞–∫ —Ç–æ—Ç, —á—Ç–æ –≤—ã–±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Å –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å?
— –≠—Ç–æ—Ç –º–µ–Ω—å—à–µ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –õ–µ—á–∞.
–û–Ω –æ—Ç—Ä–µ–∑–∞–ª —Å—Ç—Ä–æ–ø—ã –æ—Ç –∫–æ–Ω—Ç–µ–π–Ω–µ—Ä–∞ –∏, —É–∫–∞–∑—ã–≤–∞—è –Ω–∞ –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç, —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –°–≤–µ—Ä–Ω–∏ –∏ –∑–∞–±–∏—Ä–∞–π.
–ú–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Ç—Ä–µ—Ö—Å—Ç–∞—Ö, –º—ã –∑–∞–±—Ä–∞–ª–∏ –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç –¥–ª—è —Å–±—Ä–æ—Å–∞ –∫–∞—Å—Å–µ—Ç–Ω—ã—Ö –±–æ–º–±. –°–Ω–æ–≤–∞ –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫.
— –≠—Ç–æ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –±—Ä–æ—Å–∞–ª–∏ –±–æ–º–±—ã –≤–¥–æ–ª—å —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã, — —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –õ–µ—á–∞, — —á—Ç–æ–±—ã —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫-—Ç–æ –æ–±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–∏—Ç—å –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ —Å–≤–æ–∏—Ö –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω. –û–Ω–∏ –≤–µ—Å—å –ª–µ—Å –ø–æ–≤—ã—Ä—É–±–∏–ª–∏ –≤–¥–æ–ª—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –¥–∞ –µ—â—ë –∏ –∑–∞–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—ã –∫ –Ω–µ–π. –ë–µ–∑–¥–∞—Ä–∏. –ú—ã –∏—Ö –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–µ–º —Å–æ–≤—Å–µ–º –≤ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö.
–Ø –º–æ–ª—á–∞ —Å–ª—É—à–∞–ª. –¢–∞–∫–∏–µ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –º–Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ –∏–º–ø–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏. –õ–µ—á–∞ —è–≤–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ª–∏—à–Ω–µ–µ. –ú–Ω–µ –Ω–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–Ω–∞—Ç—å –Ω–∏ –æ –∫–∞–∫–æ–π —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ.
— –û–±—Ä–∞—Ç–∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ —ç—Ç—É –ø–æ–ª—è–Ω—É, — –õ–µ—á–∞ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª —Ä—É–∫–æ–π –Ω–∞–ª–µ–≤–æ.
–Ø –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª —Ç—É–¥–∞. –ü–æ–ª—è–Ω–∞ –∏–º–µ–ª–∞ –Ω–µ —Å–æ–≤—Å–µ–º –æ–±—ã—á–Ω—ã–π –≤–∏–¥. –í—Å—è –≤ –∫–æ–ª–¥–æ–±–∏–Ω–∞—Ö. –ë—ã–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫ –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–¥–µ—Å—å —Ä–æ—Å–ª–∏ –±–æ–ª—å—à–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è. –ù–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –∫–∞–∫ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –∏ –ø–µ–Ω—å–∫–æ–≤ –≤ –æ–±—ã—á–Ω–æ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Å–ø–∏–ª–∏–≤–∞—é—Ç. –ò–∑ –∑–µ–º–ª–∏ —Ç–æ—Ä—á–∞–ª–∏ –æ—Å—Ç—Ä—ã–µ —â–µ–ø—ã –æ–±–ª–æ–º–æ–≤. –°–ª–æ–≤–Ω–æ –Ω–µ–∫–∏–π –≤–µ–ª–∏–∫–∞–Ω –æ–±–ª–æ–º–∞–ª –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –∏ –æ—Ç–±—Ä–æ—Å–∏–ª –∏—Ö –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –í–æ–Ω –æ–Ω–∏ —ç—Ç–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è. –ï—â—ë –∏ –ª–∏—Å—Ç–≤–∞ –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª–∞ –ø–æ–∂—É—Ö–Ω—É—Ç—å. –û–¥–Ω–∏ –≤–∞–ª—è—é—Ç—Å—è –Ω–∞ –æ–ø—É—à–∫–µ, –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —É–ø–∞–ª–∏ –Ω–∞ –∫—Ä–æ–Ω—ã —É—Ü–µ–ª–µ–≤—à–∏—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤.
— –ë—É—Ä–∞—Ç–∏–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞.
— –ö–∞–∫–æ–π –ë—É—Ä–∞—Ç–∏–Ω–æ? — –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª —è.
— «–ë—É—Ä–∞—Ç–∏–Ω–æ». –¢–∞–∫ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —à–ª–∞–Ω–≥ –∏–∑ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è —Å —Å–∞–º–æ–ª—ë—Ç–∞ –∏–ª–∏ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–∞ –∏ –ø–æ–¥—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è.
— –≠—Ç–æ —Ç–æ—Ç, —á—Ç–æ –∏—Å–ø–æ–ª—å–∑—É–µ—Ç—Å—è –¥–ª—è —Ä–∞–∑–º–∏–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–∏—è –º–∏–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–ª–µ–π? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –¢–æ—á–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –õ–µ—á–∞. — –¢–æ–ª—å–∫–æ –∑–¥–µ—Å—å –æ–Ω —Å–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –ª—é–¥–µ–π. –í–µ—Ä–Ω–µ–µ, —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –¥—É–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –µ—Å—Ç—å –ª—é–¥–∏. –¢–æ–ª—â–∏–Ω–∞ —à–ª–∞–Ω–≥–∞ — —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤–æ—Å–µ–º—å-–¥–µ—Å—è—Ç—å. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —Å–µ–π—á–∞—Å —Å–∞–º —É–≤–∏–¥–∏—à—å.
— –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ —Ç–∞–∫–æ–π –≤–∑—Ä—ã–≤ –ª–æ–º–∞–µ—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è? — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —è.
— –ù–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –õ–µ—á–∞. — –°—Ä–µ–∑–∞–µ—Ç –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–µ —Å—Ç–æ–ª–±—ã –∏ –±–ª–æ–∫–∏.
–ú—ã –ø–æ—à–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ, –∑–∞–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—è –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É. –ü–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —É–≥–ª—É–±–∏–ª–∏—Å—å –≤ –ª–µ—Å. –ü—Ä–æ—à–ª–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞. –í–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –õ–µ—á–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è, –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª—Å—è –∏ —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–æ.
— –ò–¥–∏ —Å—é–¥–∞, — –ø–æ–∑–≤–∞–ª –æ–Ω.
–Ø –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –∫—Ä–∞—é —è–º—ã, –≥–¥–µ –æ–Ω —Å—Ç–æ—è–ª.
— –°–ø—É—Å—Ç–∏—Å—å —Ç—É–¥–∞ –∏ —Ä–∞–∑–≥—Ä–µ–±–∞–π –ª–∏—Å—Ç—å—è, — –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
–Ø–º–∞ –±—ã–ª–∞ –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–æ–π –∞–≤–∏–∞–±–æ–º–±—ã. –ì–ª—É–±–∏–Ω–∞ — –æ–∫–æ–ª–æ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –Ø —Ä–∞–∑–≥—Ä—ë–± –ª–∏—Å—Ç—å—è –∏ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –ø–æ–¥ –Ω–∏–º–∏ –∑–µ–ª—ë–Ω—É—é —Ç–∫–∞–Ω—å-500.
— –û—Ç–æ–¥–≤–∏–Ω—å —Ç–∫–∞–Ω—å, — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –õ–µ—á–∞.
–Ø —Ä–∞–∑–¥–≤–∏–Ω—É–ª –∫—Ä–∞—è —Ç–∫–∞–Ω–∏ –∏ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –ø–æ–¥ –Ω–µ–π —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–π –∏ —Ç–≤—ë—Ä–¥—ã–π —Å–µ—Ä–æ-–∑–µ–ª–µ–Ω—ã–π –ø–æ–∂–∞—Ä–Ω—ã–π —à–ª–∞–Ω–≥. –≠—Ç–æ –∏ –±—ã–ª «–ë—É—Ä–∞—Ç–∏–Ω–æ». –®–ª–∞–Ω–≥ —Å–≤—ë—Ä–Ω—É—Ç –≤ –±—É—Ö—Ç—É. –î–ª–∏–Ω–∞ — –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –û—Ç–∫—É–¥–∞ –æ–Ω —É –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤? –ò —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—á–∞—è –Ω–∞ –º–æ–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, –õ–µ—á–∞ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –û–Ω –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –≤–µ—Å—å –Ω–µ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –û—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –±–æ–ª—å—à–∏–µ –∫—É—Å–∫–∏. –ê —Ç–æ –∏ –≤–æ–≤—Å–µ, –≤–∑–æ—Ä–≤—ë—Ç—Å—è —Å –∫—Ä–∞—é, –∞ –≤—Å—ë –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–µ –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ.
–í–¥—Ä—É–≥ –õ–µ—á–∞ –Ω–∞—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–∏–ª—Å—è.
— –õ–æ–∂–∏—Å—å! — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –æ–Ω –∏ –ø—Ä–∏—Å–µ–ª —Å–∞–º.
–° –ø–æ–ª–º–∏–Ω—É—Ç—ã –æ–Ω –æ–∑–∏—Ä–∞–ª—Å—è –∏ –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª—Å—è. –ü–æ—Ç–æ–º —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –≤ —è–º—É, –∑–∞–∫—Ä—ã–ª —à–ª–∞–Ω–≥ —Ç–∫–∞–Ω—å—é –∏ –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –Ω–∞—Å—ã–ø–∞—Ç—å —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –ø–æ–±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ–∂—É—Ö–ª—ã—Ö –ª–∏—Å—Ç—å–µ–≤.
–ú—ã –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –Ω–∞ –¥—Ä—É–≥—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –ú–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –æ—Ç –Ω–µ—ë –±—ã–ª–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ –≤–æ—Ä–æ–Ω–∫–∞.
— –í–æ–∑—å–º—ë–º –æ—Ç—Å—é–¥–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞.
–ó–¥–µ—Å—å –±—ã–ª —Ç–æ—á–Ω–æ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ —Å—Ö—Ä–æ–Ω «–±—É—Ä–∞—Ç–∏–Ω–æ». –ü–æ–¥ –ª–∏—Å—Ç—å—è–º–∏ –∏ –≤–æ–¥–æ–Ω–µ–ø—Ä–æ–Ω–∏—Ü–∞–µ–º–æ–π —Ç–∫–∞–Ω—å—é –ª–µ–∂–∞–ª–∞ –±—É—Ö—Ç–∞ —à–ª–∞–Ω–≥–∞, —Å–æ—Å—Ç–æ—è—â–∞—è –∏–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –∫—É—Å–∫–æ–≤, –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø–æ –ø—è—Ç—å, —Å–µ–º—å. –õ–µ—á–∞ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä.
— –Ý—É–±–∏!
— –ß—Ç–æ —Ä—É–±–∏—Ç—å? — –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª —è.
— –®–ª–∞–Ω–≥ —Ä—É–±–∏!
— –ù–æ –æ–Ω –∂–µ –≤–∑–æ—Ä–≤—ë—Ç—Å—è! — —è –∏—Å–ø—É–≥–∞–ª—Å—è.
— –Ý—É–±–∏ –∑–¥–µ—Å—å, —è —Ç–µ–±–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª! — –õ–µ—á–∞ —É–∫–∞–∑–∞–ª –º–µ—Å—Ç–æ.
–Ø –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–∫–Ω—É–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º –ø–æ —à–ª–∞–Ω–≥—É, –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –Ω–∞ –Ω—ë–º –¥–∞–∂–µ —Å–ª–µ–¥–∞ –æ—Ç —É–¥–∞—Ä–∞.
— –î–∞–π —Å—é–¥–∞! — –õ–µ—á–∞ –æ—Ç–æ–±—Ä–∞–ª —É –º–µ–Ω—è —Ç–æ–ø–æ—Ä –∏, –∫–∞–∫ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç, —É–¥–∞—Ä–∏–ª –ø–æ —à–ª–∞–Ω–≥—É.
–Ø –æ—Ç–ø—Ä—è–Ω—É–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É.
— –ù–µ –±–æ–π—Å—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞. — –û–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫ –Ω–µ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è.
–õ–µ—á–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –Ω–∞–Ω–µ—Å—Ç–∏ —É–¥–∞—Ä–æ–≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å, –ø—Ä–µ–∂–¥–µ —á–µ–º –æ–Ω —Å–º–æ–≥ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ø–µ—Ä–µ—Ä—É–±–∏—Ç—å —à–ª–∞–Ω–≥. –ù–∞ —Å—Ä–µ–∑–µ, –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ, –≤—ã–¥–µ–ª—è–ª—Å—è —è—Ä–∫–∏–º –æ—Ä–∞–Ω–∂–µ–≤—ã–º —Ü–≤–µ—Ç–æ–º –¥–µ—Ç–æ–Ω–∏—Ä—É—é—â–∏–π —à–Ω—É—Ä, —Ç–æ–ª—â–∏–Ω–æ–π –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–µ–≥–æ — —Å–µ—Ä—ã–π –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–ª–∏–Ω –ø–ª–∞—Å—Ç–∏—Ç–∞.
— –ó–∞–±–∏—Ä–∞–π —ç—Ç–æ—Ç –∫—É—Å–æ–∫, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞.
–î–ª–∏–Ω–∞ —à–ª–∞–Ω–≥–∞ —Å–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∞ –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä—ë—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –õ–µ—á–∞ –æ—Ç—Ä—É–±–∏–ª –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ. –ú—ã –≤–º–µ—Å—Ç–µ –∑–∞–º–∞—Å–∫–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∏ —Å—Ö—Ä–æ–Ω –∏ —Å —ç—Ç–∏–º–∏ –¥–≤—É–º—è –∫—É—Å–∫–∞–º–∏ «–±—É—Ä–∞—Ç–∏–Ω–æ» –ø–æ—à–ª–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ.
–ß—Ç–æ–±—ã —É–¥–æ–±–Ω–µ–µ –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Å—Ç–∏ —à–ª–∞–Ω–≥, –õ–µ—á–∞ —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –µ–≥–æ –≤ –±—É—Ö—Ç—É –∏ –Ω–∞–¥–µ–ª —Å–µ–±–µ –Ω–∞ —à–µ—é. –Ø —Å–¥–µ–ª–∞–ª —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ. –®–ª–∞–Ω–≥ –≤–µ—Å–∏–ª –∫–∏–ª–æ–≥—Ä–∞–º–º–æ–≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å. –ü–∞—Ä–∞—à—é—Ç—ã —è –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–∏, —á—Ç–æ–±—ã —à–ª–∞–Ω–≥ –º–µ–Ω—å—à–µ —Ç—ë—Ä —à–µ—é. –õ–µ—á–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —ç—Ç–æ.
— –î–∞–π –º–Ω–µ –æ–¥–∏–Ω –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç, — –æ–Ω —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –µ–≥–æ –ø–æ–¥ —à–ª–∞–Ω–≥. — –ü–æ–∫–∞–∂–∏, –≤ –∫–∞–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –ª–∞–≥–µ—Ä—å?
–í–æ—Ç —É–∂ —ç—Ç–æ —è –∑–Ω–∞–ª —Ç–æ—á–Ω–æ. –û—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–µ –º–µ–Ω—è –Ω–∞—É—á–∏–ª–∞ –∞–≤–∏–∞—Ü–∏—è, –Ω–æ –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –Ω–µ —Å—Ç–æ–∏–ª–æ. –Ø –ø–æ–∫—Ä—É—Ç–∏–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏ —Ç–∫–Ω—É–ª –ø–∞–ª—å—Ü–µ–º –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∑–∞–ø–∞–¥–∞, —Ö–æ—Ç—è –ª–∞–≥–µ—Ä—å –±—ã–ª –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–µ.
— –•–æ—Ä–æ—à–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞.
–í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ—á—Ç–∏ —Ç–µ–º –∂–µ –ø—É—Ç—ë–º. –í–∏–¥–∏–º–æ, –õ–µ—á–∞ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–µ —à—ë–ª —Ç–æ—á–Ω–æ —Ç–∞–∫, –∫–∞–∫ –º—ã —à–ª–∏ –∫ —Å—Ö—Ä–æ–Ω–∞–º. –•–æ—Ç–µ–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞–ø—É—Ç–∞—Ç—å. –ò —ç—Ç–æ —Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–æ. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –µ—Å—Ç—å –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ –Ω–∞ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ. –í—Å–µ —Ç–∞–π–Ω—ã –≤—ã–¥–∞—é—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–±—Ä–µ—á—ë–Ω–Ω—ã–º.
–ü–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞ –º—ã –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª–∏ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—É—é –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω—É –≤–∞—Ä–≤–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –æ–±—Ä–∞—â–µ–Ω–∏—è —Å–æ –≤–∑—Ä—ã–≤—á–∞—Ç—ã–º –≤–µ—â–µ—Å—Ç–≤–æ–º. –õ–µ—á–∞ –Ω–∞–±–∏–≤–∞–ª –ø–ª–∞—Å—Ç–∏—Ç–æ–º –æ–±–æ–ª–æ—á–∫—É –≥–∞—É–±–∏—á–Ω–æ–≥–æ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–∞. –ê –ø–µ—Ä–µ–¥ —ç—Ç–∏–º –æ–Ω –≤—Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª –µ–≥–æ, –≤—ã—Ç–∞–ø–ª–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ –∫–æ—Å—Ç—Ä–µ —Ç—Ä–æ—Ç–∏–ª, –¥–∞ –µ—â—ë –∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –º–µ–Ω—è –∞—Å—Å–∏—Å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å.
–ê –Ω–∞–±–∏–≤–∞–ª –æ–Ω —Å–Ω–∞—Ä—è–¥ —Ç–∞–∫. –ù–∞–±—Ä–∞—Å—ã–≤–∞–ª –≤–Ω—É—Ç—Ä—å –∫—É—Å–∫–∏ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏—Ç–∞ –∏ —É—Ç—Ä–∞–º–±–æ–≤—ã–≤–∞–ª –∏—Ö –∂–µ–ª–µ–∑–∫–æ–π. –î–∞ –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫, –∞ –∏–∑–æ –≤—Å–µ—Ö —Å–∏–ª —É–¥–∞—Ä—è—è –ø–æ –Ω–µ–π –æ–±—É—Ö–æ–º —Ç–æ–ø–æ—Ä–∞. –ó–Ω–∞—Ç—å –±—ã –µ–º—É —Ç–æ–≥–¥–∞, —á—Ç–æ —ç—Ç–∞ –±–æ–º–±–∞ –∏ –≤–∑–æ—Ä–≤—ë—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂.
–û—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏—Ç–∞ –æ–Ω –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –ø—Ä–∏–∫–æ–ø–∞—Ç—å –∏ –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –≥–¥–µ.
— –í–æ–∑—å–º–∏ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–±–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –û—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —Ä–∞–∑–≤–æ–¥–∏—Ç—å –∫–æ—Å—Ç—ë—Ä.
–í —ç—Ç–æ–º —è —É–±–µ–¥–∏–ª—Å—è –≤ —Ç–æ—Ç –∂–µ –≤–µ—á–µ—Ä. –£–∂–∏–Ω —Å–µ–±–µ –º—ã, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –Ω–µ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏, –Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–æ–¥–∏—Ç—å –∫–æ—Å—Ç—ë—Ä –¥–ª—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —É–∂–µ –≤–æ—à–ª–æ –≤ –º–æ—é –æ–±—è–∑–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å. –ö –≤–µ—á–µ—Ä—É –ø–æ—à—ë–ª –¥–æ–∂–¥—å. –Ø –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Ä–∞–∑–≤–µ—Å—Ç–∏ –∫–æ—Å—Ç—ë—Ä –æ—Ç –±—É–º–∞–≥–∏, –Ω–æ –æ–Ω –Ω–µ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è. –¢–æ–≥–¥–∞ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –æ –ø–ª–∞—Å—Ç–∏—Ç–µ. –ü—Ä–∏–Ω—ë—Å –∫—É—Å–æ—á–µ–∫. –° –æ–ø–∞—Å–∫–æ–π –ø–æ–¥–∂—ë–≥. –û–Ω –≤—Å–ø—ã—Ö–Ω—É–ª —è—Ä—á–∞–π—à–∏–º –ø–ª–∞–º–µ–Ω–µ–º –∏ –∫–æ—Å—Ç—ë—Ä, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —Ä–∞–∑–≥–æ—Ä–µ–ª—Å—è. –° —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä —è –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è —Å –ø–ª–∞—Å—Ç–∏—Ç–æ–º, —Ç–∞—Å–∫–∞—è –∫—É—Å–æ—á–∫–∏ –≤ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–µ.
9 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞. –° —É—Ç—Ä–∞ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é—Ç —Å–∫–∞–ø–ª–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏. –í–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —Å 30 –º–∞—Ä—Ç–∞ –ø–æ—è–≤–ª—è—é—Ç—Å—è –Ý—É—Å–ª–∞–Ω –∏ –ú—É—Å–ª–∏–º –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤—ã. –õ–µ—á–∞ –ø–æ—Ç–∞—â–∏–ª –º–µ–Ω—è –ø–æ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞–º, –≥–¥–µ –º—ã –Ω–∞—à–ª–∏ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö –∑–∞–º—à–µ–ª—ã—Ö –±–∞—à–º–∞–∫–æ–≤. –í–µ–ª–µ–ª —Ä–∞—Å—à–∏—Ç—å –∏—Ö, –∏ –∏–∑ –∫–æ–∂–∏ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –Ω–æ–∂–Ω—ã –¥–ª—è –µ–≥–æ –∫–∏–Ω–∂–∞–ª–∞. –í –º–æ—ë–º –∞—Ä—Å–µ–Ω–∞–ª–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –Ω–∏—Ç–∫–∏, –∏–≥–ª—ã, —à–∏–ª–æ –∏ –ø—Ä–æ—á–∏–π —Å–∞–ø–æ–∂–Ω—ã–π —Å–∫–∞—Ä–±. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, —à–∏–ª–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –∏–∑ –≥–≤–æ–∑–¥—è, –Ω–æ –∑–∞—Ç–æ —è –∑–∞–∏–º–µ–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞–¥—Ñ–∏–ª–µ–π –∏ –Ω–∞–ø–∏–ª—å–Ω–∏–∫–æ–≤.
–í–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–∞—Å –∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∏—Å—å –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–µ –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã. –û–Ω–∏ –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∏ –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–≤. –ò–º –±—ã–ª–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ. –û–¥–∏–Ω, —Å–∞–º—ã–π –Ω–∞–≥–ª—ã–π, –∫—Ä–∞—Å—É—è—Å—å –ø–µ—Ä–µ–¥ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏, –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –Ω–∞–º –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∏ —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª:
— –í—Å—Ç–∞—Ç—å!
–ú—ã –≤—Å—Ç–∞–ª–∏. –Ø –≤—Å—Ç–∞–ª —á—É—Ç—å –ø–æ–∑–∂–µ, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –æ—Ç–ª–æ–∂–∏—Ç—å —à–∏—Ç—å—ë. –Æ–Ω—Ü—É —ç—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å. –û–Ω –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫–æ –º–Ω–µ.
— –¢—ã –ø–æ—á–µ–º—É –Ω–µ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω—è–µ—à—å –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É, —Ä—É—Å—Å–∫–∞—è –º–æ—Ä–¥–∞?!
–û–Ω –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ —Ç–∫–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è –≤ –∂–∏–≤–æ—Ç. –Ø —Å–æ–≥–Ω—É–ª—Å—è, –∑–∞–¥—ã—Ö–∞—è—Å—å. –í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç —é–Ω—Ü–∞ –æ–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª –õ–µ—á–∞. –ß—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –µ–º—É. –¢–æ—Ç –æ—Ç–æ—à—ë–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞.
–Æ–Ω–µ—Ü –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –∏ —Å—Ç–∞–ª –∏–∑–º—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞–¥ –Ω–∏–º. –û–Ω –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –µ–≥–æ –±–µ–≥–∞—Ç—å –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ, –æ—Ç–∂–∏–º–∞—Ç—å—Å—è, –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏—Ç—å –ø–∞–ª–∫—É, –∫–∞–∫ —Å–æ–±–∞–∫–∞. –°–≤–æ–ª–æ—á—å.
–≠—Ç–æ–≥–æ —é–Ω—Ü–∞ —Ç–æ–∂–µ –∑–≤–∞–ª–∏ –õ–µ—á–µ–π. –õ–µ—á–µ–π-–º–ª–∞–¥—à–∏–º. –°—Ç–∞—Ä—à–∏–µ –±—Ä–∞—Ç—å—è —É–∂–µ –≤–æ–µ–≤–∞–ª–∏, –∞ –µ–º—É –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å. –û–Ω –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞–≤–µ—Ä—Å—Ç–∞—Ç—å —ç—Ç–æ –∏–∑–¥–µ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞–º–∏ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏, –∏ –µ–º—É –æ—á–µ–Ω—å –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å.
–û–∫–æ–ª–æ –ø–æ–ª—É–¥–Ω—è –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤ — –∞–º–∏—Ä —Å–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –ú–∞—Å—Ö–∞–¥–æ–≤ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤—ë–ª –µ–≥–æ –≤ –±—Ä–∏–≥–∞–¥–Ω—ã–µ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—ã –∏ –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–∏–ª –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–∏–º —é–≥–æ-–∑–∞–ø–∞–¥–Ω—ã–º —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–º. –í—Å–µ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –∫–∞–∫-—Ç–æ –ø–æ–Ω–∏–∂–µ —Ä–æ—Å—Ç–æ–º –≤ –µ–≥–æ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–∏. –û–Ω –≤—Å–µ–º —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è, —à—É—Ç–∏–ª, –Ω–æ —Å—Ä–∞–∑—É —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –æ–Ω –∑–¥–µ—Å—å –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π.
–Ø –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –ö—é—Ä–∏ –º–µ–Ω—è –æ–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª –∏–∑ —Ç–æ–ª–ø—ã –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤.
— –ü—Ä–∏–≤–µ—Ç, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä! –°–ª—É—à–∞–π, —Ç–∞–º –≤–æ–∑–ª–µ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç–∞ —è –∑–∞–±—ã–ª —Å–≤–æ–π –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç. –ü—Ä–∏–Ω–µ—Å–∏ –µ–≥–æ, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞.
–í—Å–µ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø—Ä–∏—Ç–∏—Ö–ª–∏. –ö—Ä–∞–µ–º –≥–ª–∞–∑–∞ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∑–∞ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç. –ö–∞–∫ –Ω–∏ –≤ —á—ë–º –Ω–µ –±—ã–≤–∞–ª–æ, —è –ø–æ—à—ë–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Ç—É–∞–ª–µ—Ç–∞. –≠—Ç–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –≤–≥–ª—É–±—å –ª–µ—Å–∞. –Ø —É—Å–ª—ã—à–∞–ª, –∫–∞–∫ —â—ë–ª–∫–Ω—É–ª–∏ –¥–≤–∞ –ø—Ä–µ–¥–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—è –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–≤. –ë–æ—è—Ç—Å—è. –ß—Ç–æ —ç—Ç–æ? –ü—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏—è? –í—Ä—è–¥ –ª–∏. –ù–∞ –ö—é—Ä–∏ –Ω–µ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ.
–î–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω–∞—è –∫–æ–±—É—Ä–∞ –°—Ç–µ—á–∫–∏–Ω–∞ — –æ–Ω–∞ –∂–µ –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥ — –≤–∏—Å–µ–ª–∞ –Ω–∞ –≤–µ—Ç–∫–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å —Ç–æ–ª—á–∫–æ–º. –Ø –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ, –∑–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤—è–∑—å, —Å–Ω—è–ª –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç —Å –≤–µ—Ç–∫–∏ –∏ –Ω–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–π –≤–ø–µ—Ä—ë–¥ —Ä—É–∫–µ –ø–æ–Ω—ë—Å –ø–æ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ –∫ –ª–∞–≥–µ—Ä—é. –£—Å–ª—ã—à–∞–ª, –∫–∞–∫ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç—ä–µ—Ö–∞–ª –∏ –≤—Å—Ç–∞–ª –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –∑–∞—Ç–≤–æ—Ä –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–≤. –ë–æ—è—Ç—Å—è. –¢–∞–∫, –Ω–∞ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–π —Ä—É–∫–µ, —è –∏ –æ—Ç–¥–∞–ª –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –ö—é—Ä–∏.
— –°–ø–∞—Å–∏–±–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –∏ –æ–≥–ª—è–¥–µ–ª –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä—è –∏–º: «–í–æ—Ç –≤–∏–¥–∏—Ç–µ, —á—Ç–æ —è –≤–∞–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª!»
–ò–ª—å–º–∞–Ω –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–¥—ë—Ä–Ω—É–ª –∑–∞—Ç–≤–æ—Ä, –ø–æ–¥–Ω—è–ª —Å –∑–µ–º–ª–∏ –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–≤—à–∏–π –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω –∏ —Å—É–Ω—É–ª –µ–≥–æ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –≤ –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω. –ö—é—Ä–∏, —É—Å–º–µ—Ö–∞—è—Å—å, —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –µ–º—É. –¢–æ—Ç —Å—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª, –Ω–µ—Ä–≤–Ω–æ —à–≤—ã—Ä–Ω—É–≤ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç.
10 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞, –ø–æ–Ω–µ–¥–µ–ª—å–Ω–∏–∫.¬Ý–£—Ç—Ä–æ–º –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ø–µ—Ä–≤–∞—è —Å–º–µ–Ω–∞ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—ã — –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã. –≠—Ç–æ —Å–∞–º –ò–±—Ä–∞–≥–∏–º, –•–∞—Å–∞–Ω, –ò–ª—å–º–∞–Ω, –µ–≥–æ –º–ª–∞–¥—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä. –û–Ω–∏ –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å—è—Ç —Å —Å–æ–±–æ–π –∑–∞–ø–∞—Å —Ö–ª–µ–±–∞ –∏ –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã. –ú–Ω–µ –ª–∏—á–Ω–æ — –¥–µ—Å—è—Ç—å –ø–∞—á–µ–∫ «–ü—Ä–∏–º—ã». –õ–µ—á–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–∞–ª –∏—Ö, —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–µ—Ç –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã. –ù–∞–º — –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ, –ø–æ –Ω–æ—Ä–º–µ. –ú—ã —Å –∑–∞–≤–∏—Å—Ç—å—é —Å–º–æ—Ç—Ä–∏–º –Ω–∞ –±–∞–Ω–∫–∏ —Å–≥—É—â—ë–Ω–Ω–æ–≥–æ –º–æ–ª–æ–∫–∞ — –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –≤ —Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–µ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤. –ö—Ä–∞—Å–Ω—ã–µ –±—É—Ç—ã–ª–æ—á–∫–∏ —Å–æ—É—Å–∞ «–ß–∏–ª–∏». –°–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—ã «XXI –≤–µ–∫». –°–∞—Ö–∞—Ä –¥–ª—è –Ω–∞—Å –õ–µ—á–∞ –æ—Ç–º–µ—Ä—è–µ—Ç –ª–æ–∂–∫–∞–º–∏.
–ê–Ω–∑–æ—Ä —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç –æ–±—É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å —Å–µ–±–µ —Ç—É—Ä–Ω–∏–∫, –∑–∞–∫—Ä–µ–ø–∏–≤ –º–µ–∂–¥—É –¥–≤—É—Ö –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—É—é —Ç—Ä—É–±—É. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –¥—Ä–∞–∏–ª –µ—ë –Ω–æ–∂–æ–º –æ—Ç —Ä–∂–∞–≤—á–∏–Ω—ã. –Ý—è–¥–æ–º —Å —Ç—É—Ä–Ω–∏–∫–æ–º –æ–Ω–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏ —Å–∫–∞–º–µ–µ—á–∫–∏ –¥–ª—è –∫–∞—á–∞–Ω–∏—è –ø—Ä–µ—Å—Å–∞. –ó–∞ –¥–µ–Ω—å –ê–Ω–∑–æ—Ä —Ç—Ä–µ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª—Å—è —á–µ—Ç—ã—Ä–µ —Ä–∞–∑–∞. –ö–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –∫–∞–∂–¥–∞—è —Ç—Ä–µ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∫–∞ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –±–æ–∫—Å–æ–º —Å –∏–∑–±–∏–µ–Ω–∏–µ–º –º–µ–Ω—è –∏–ª–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞.
–ü–æ—Ö–æ–¥—ã –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –º—ã –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –±–µ–≥–æ–º. –ü–æ –∫—Ä–∞–π–Ω–µ–π –º–µ—Ä–µ, –¥–æ —Ä–µ–∫–∏ —Å –ø—É—Å—Ç—ã–º–∏ –≤—ë–¥—Ä–∞–º–∏ –∏ –±–∏–¥–æ–Ω–æ–º. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ —É–≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ –ª–µ—Å—É –ò–ª—å–º–∞–Ω. –ú—ã –≤—ã—à–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ—Ç–æ—à–ª–∏ –æ—Ç –ª–∞–≥–µ—Ä—è, –∫–∞–∫ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª:
— –°—Ç–æ–π!
–û–Ω —à—ë–ª —Å–∑–∞–¥–∏. –í –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ, —è –¥–∞–∂–µ –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å —ç—Ç–æ–≥–æ, –æ–Ω –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –Ω–∞—Å. –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–ª –∫ —É—à–∞–º –ª–∞–¥–æ–Ω–∏, —Å–¥–µ–ª–∞–≤ —Ç–∞–∫–∏–µ –ª–æ–∫–∞—Ç–æ—Ä—ã, –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–≤–æ–¥–∏–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏ —Ç–∏—Ö–æ —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª:
— –ü—Ä–∏—Å–µ—Å—Ç—å –≤—Å–µ–º. –ë–∏–¥–æ–Ω — –ø–æ–¥ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, —Å—è–¥—å –Ω–∞ –±–∏–¥–æ–Ω –∏ –ø—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω–∏—Å—å –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –í–æ—Ç —Ç–∞–∫. –í—ã — —Ç–æ–∂–µ, — –æ–Ω –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫ –Ω–∞–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, — –ø—Ä–∏—Å—è–¥—å—Ç–µ —É –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤.
–¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –≥—É–ª –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—è –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª—ë—Ç–∞. –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–∫—É–Ω–¥ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏ —Å —Ä—ë–≤–æ–º –ø—Ä–æ—à—ë–ª «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª». –°–ª–µ–¥–æ–º –∑–∞ –Ω–∏–º — –ú–∏-8 –∏ –µ—â—ë –æ–¥–∏–Ω –ú–∏-24. –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—Å—Ç–∞–ª –≤ —Å—Ç–æ–π–∫—É, –ø—Ä–æ—Å–ª—É—à–∏–≤–∞—è –ª–µ—Å, –ø–æ—Ç–æ–º —Å–∫–∞–∑–∞–ª: «–û—Ç–±–æ–π» –∏ –º—ã –ø–æ—à–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ.
–ë–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω –ª—é–±–∏–ª –∂—Ä–∞—Ç—å —Å–≥—É—â—ë–Ω–∫—É. –û–Ω —Å–æ—Å–∞–ª –µ—ë –∏–∑ –±–∞–Ω–∫–∏ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ. –ï–≥–æ —É–ø—Ä–µ–∫–∞–ª–∏ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤—Å–µ—Ö –æ–±—ä–µ–¥–∞–µ—Ç, –Ω–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ–º–æ–≥–∞–ª–æ.
–í–µ—á–µ—Ä–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞—Å –∑–∞–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Ä—ã –∏ –∑–∞–ø–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏, –ê–Ω–∑–æ—Ä –∑–∞—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª –º–æ–ª–∏—Ç–≤—É –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º.
–õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –Ω–∞ –Ω–æ—á—å –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è, –Ω–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –∫–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å. –ò–∑ –ª–µ–Ω—Ç–æ—á–Ω—ã—Ö –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç–æ–≤ –æ–Ω –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –º–µ–Ω—è —Å—à–∏—Ç—å –¥–≤–∞ –≥–∞–º–∞–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –º—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –ø–æ–≤–µ—Å–∏–ª–∏ –º–µ–∂–¥—É –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤. –ö–æ–≥–¥–∞ —É—Ç—Ä–æ–º –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –õ–µ—á–∞ –Ω–µ–∏–∑–º–µ–Ω–Ω–æ –ª–µ–∂–∞–ª –≤ –≥–∞–º–∞–∫–µ. –õ–µ–∂–∞–ª –¥–∞–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –ª–µ—Å –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –º–∏–Ω–æ–º—ë—Ç–∞–º–∏. –î–ª—è —Ç–æ–≥–æ —á—Ç–æ–±—ã —Ä–µ–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞—Ç—å –≤—Å–µ –µ–≥–æ –∑–∞–∫–∞–∑—ã –ø–æ —à–∏—Ç—å—é, —Å–∫–æ—Ä–Ω—è–∂–Ω—ã–º —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–º –∏ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –º—É–Ω–¥—à—Ç—É–∫–æ–≤, —É –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ –¥–Ω–µ–≤–Ω–æ–≥–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏. –¢–æ–≥–¥–∞ –õ–µ—á–∞ —Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å –º–µ–Ω—è –Ω–∞ —á–∞—Å —Ä–∞–Ω—å—à–µ. –≠—Ç–æ–º—É —è –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è. –Ø –º—É—á–∞–ª—Å—è —É–¥–µ—Ä–∂–∞–Ω–∏–µ–º –º–æ—á–∏ –Ω–∞ —á–∞—Å –º–µ–Ω—å—à–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö. –ö–æ–≥–¥–∞ –õ–µ—á–∞ –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª, —á–∞—Å–æ–≤–æ–π —É –≤—Ö–æ–¥–∞ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª—Å—è —Å–ø–∞—Ç—å. –ú—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å –õ–µ—á–µ–π –≤–¥–≤–æ—ë–º. –û–Ω –≤ –≥–∞–º–∞–∫–µ, —è — —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ—ë–º —Ä–∞–±–æ—á–µ–º –º–µ—Å—Ç–µ. –ú–Ω–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –õ–µ—á–∞ —Å–ø–∞–ª. –Ý—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ–π –ª–µ–∂–∞–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä–∏–∫. –ú—ã—Å–ª–∏ –º–æ–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –≤ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω–æ–º –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏. –õ–µ—á—É — —Ç–æ–ø–æ—Ä–∏–∫–æ–º –ø–æ –±–∞—à–∫–µ. –ó–∞–±–∏—Ä–∞—é –ø–∏—Å—Ç–æ–ª–µ—Ç –∏ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É, —á—Ç–æ —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞ –ø–æ—è—Å–µ. –Ý–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—é –≤—Å–µ—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ — –∏ —É—Ö–æ–¥–∏–º. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø—Ä–∏–∫–æ–≤–∞–Ω—ã –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∫ –±—Ä—ë–≤–Ω–∞–º, –Ω–æ —ç—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Ä–µ—à–∏—Ç—å. –¢–µ–º –∂–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä–∏–∫–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Ä—É–±–∏—Ç—å —Ç—Ä–æ—Å. –ù–∞–¥–æ –≤–∑—è—Ç—å —Å —Å–æ–±–æ–π —Ö–ª–µ–±–∞, –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç–æ–≤ –∏ –æ—Ä—É–∂–∏–µ. –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –æ—Ä—É–∂–∏–µ –¥–∞–≤–∞—Ç—å –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ù–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –ø–æ –∫–æ–º—É –æ–Ω –µ–≥–æ –±—É–¥–µ—Ç –ø—Ä–∏–º–µ–Ω—è—Ç—å. –ú–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —É–π—Ç–∏ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ. –ê –æ–Ω — –∫–∞–∫ —Ö–æ—á–µ—Ç.
–ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ –∫—Ä–µ–ø–∫–æ —Å–ø–∏—Ç –õ–µ—á–∞. –Ý–µ—à–∏–ª –ø—Ä–æ–≤–µ—Å—Ç–∏ –æ–ø—ã—Ç –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å. –ü–æ –ø—É—Ç–∏ –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –Ω–∞ —Å–≤–æ—ë –º–µ—Å—Ç–æ –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω–Ω–æ –æ–±—Ä–æ–Ω–∏–ª –Ω–æ–∂. –ú–∏–Ω—É—Ç –¥–µ—Å—è—Ç—å —è –±—ã–ª –∑–∞–Ω—è—Ç –ø—Ä–æ–∫–∞–ª—ã–≤–∞–Ω–∏–µ–º –¥—ã—Ä–æ–∫ –≤ –∫–æ–∂–µ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Ç–æ–º –ø—Ä–æ—à–∏—Ç—å –µ—ë –¥—Ä–∞—Ç–≤–æ–π. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –º–Ω–µ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–Ω–∞–¥–æ–±–∏–ª—Å—è –Ω–æ–∂, —è —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≤–∏–¥, —á—Ç–æ –∏—â—É –µ–≥–æ. –ü–æ—Ç–æ–º –æ—Ç—ã–≥—Ä–∞–ª —Å—Ü–µ–Ω—É: –º–Ω–µ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å —É –õ–µ—á–∏ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è –≤—Å—Ç–∞—Ç—å –∏ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å –Ω–æ–∂, –Ω–æ —è –Ω–µ —Ö–æ—á—É —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–∏—Ç—å –µ–≥–æ —Å–æ–Ω. –í—Å—ë. –°—ã–≥—Ä–∞–Ω–æ. –Ø –≤—Å—Ç–∞–ª –∏ –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –∑–∞ –Ω–æ–∂–æ–º.
— –¢—ã –∫—É–¥–∞? — –Ω–µ –æ—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞—è –≥–ª–∞–∑, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –õ–µ—á–∞.
— –ù–æ–∂ –æ–±—Ä–æ–Ω–∏–ª, — —è –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –Ω–æ–∂.
— –•–æ—Ä–æ—à–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞. — –¢–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞–¥–æ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ.
— –ù–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å —Ç–µ–±—è —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–∏—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –°–ø–∞—Å–∏–±–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –Ø –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Å–ø–ª—é.
–ü–æ—Å–ª–µ –æ–±—â–µ–≥–æ –ø–æ–¥—ä—ë–º–∞ –º–æ—ë —Ä—É–∫–æ–¥–µ–ª–∏–µ –Ω–∞ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞–ª–∞—Å—å. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, —Ä–∞–∑–∂–∏–≥–∞—Ç—å –¥–≤–∞ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞, –ø–æ–ª–∏–≤–∞—Ç—å –≤–æ–¥—É –∏–∑ –±—É—Ç—ã–ª–æ–∫ —É–º—ã–≤–∞—é—â–∏–º—Å—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º, –ø–∏–ª–∏—Ç—å –¥—Ä–æ–≤–∞ —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –∏ —à–∏–ø–µ—Ç—å –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —Å–∞—á–∫–æ–≤–∞–ª. –ï—Å–ª–∏ —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –º—ã –ø–∏–ª–∏–ª–∏ –¥—Ä–æ–≤–∞ –Ω–∞ –∫–æ–∑–ª–∞—Ö, —Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å — –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ. –¢–∞–∫ –ø–æ –ª–µ—Å—É –º–µ–Ω—å—à–µ —Ä–∞–∑–Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –∑–≤—É–∫–∏. –ú—ã –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω—ã –±—ã–ª–∏ —Å—Ç–æ—è—Ç—å –Ω–∞ –∫–æ–ª–µ–Ω—è—Ö. –î–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä —Å –∫–æ–ª–µ–Ω—è–º–∏ –º—É—á–∞—é—Å—å.
–ï—Å–ª–∏ –≤—ã–¥–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω—ã–µ –º–∏–Ω—É—Ç—ã, —è –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª—Å—è –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è—Ç—å –∑–∞–∫–∞–∑—ã, –∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –∫–∞—á–∞—Ç—å –≥–∞–º–∞–∫, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –≤–æ–∑–ª–µ–∂–∞–ª –∫—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤.
–í –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –¥–µ–Ω—å –¥–µ–∂—É—Ä—Å—Ç–≤–∞, –≤ –≤–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –õ–µ—á–∏ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ, –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –∏–≥—Ä—É. –û–Ω–∏ –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –≤ –≥–∞–º–∞–∫ –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∞–ª–∏ —Ç–∞–∫ —Å–∏–ª—å–Ω–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤—ã–ª–µ—Ç–µ–ª –æ—Ç—Ç—É–¥–∞. –û—á—É–º–µ–≤—à–∏–µ –æ—Ç —Å–≤–æ–µ–π –¥—É—Ä–∏, —ç—Ç–∏ –∏–∑–≤–µ—Ä–≥–∏ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–ø–∏—Ö–Ω—É–ª–∏ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤ –≥–∞–º–∞–∫ –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å –µ—â—ë —Å–∏–ª—å–Ω–µ–π. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Å —É–∂–∞—Å–æ–º –≤ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –≤—Ü–µ–ø–∏–ª—Å—è –≤ –≥–∞–º–∞–∫, —Å—Ç–∞—Ä–∞—è—Å—å —É–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å—Å—è. –Ø –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª –õ–µ—á—É –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω –¥–∞–ª –º–Ω–µ —Å—Ä–æ—á–Ω—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É –ø–æ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é –∫—É—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —Ç—Ä—É–±–∫–∏. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –º–µ–Ω—è –∏ –Ω–µ —Ç—Ä–æ–≥–∞–ª–∏. –í–¥—Ä—É–≥ –æ—Ç –≥–ª—É—Ö–æ–≥–æ —É–¥–∞—Ä–∞ —Å–æ–¥—Ä–æ–≥–Ω—É–ª–∞—Å—å –∑–µ–º–ª—è. –û–±–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å –æ–¥–Ω–∞ –∏–∑ –≤–µ—Ä—ë–≤–æ–∫ –≥–∞–º–∞–∫–∞. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Ä—É—Ö–Ω—É–ª –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é. –î–∏–∫–∏–π —Ö–æ—Ö–æ—Ç —Å–æ—Ç—Ä—è—Å–∞–ª –ª–µ—Å, –Ω–æ –≤–Ω–µ–∑–∞–ø–Ω–æ –∑–∞—Ç–∏—Ö. –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º –ø–æ–¥—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ –∫ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É. –¢–æ—Ç –Ω–µ —à–µ–≤–µ–ª–∏–ª—Å—è. –û–Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ—Ö–ª–æ–ø—ã–≤–∞—Ç—å –µ–≥–æ –ø–æ –ª–∏—Ü—É, –∞ –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ—Ç –æ—á–Ω—É–ª—Å—è, –ø–∏–Ω–∫–∞–º–∏ –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏ –µ–≥–æ. –û–Ω–∏ –µ–≥–æ —Ç–∞–∫ –∏ –ø–∏–Ω–∞–ª–∏, –ø–æ–∫–∞ –æ–Ω –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø–æ—á–∏–Ω–∏—Ç—å –≥–∞–º–∞–∫. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–æ–∑–≤–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è –ø–æ–º–æ—á—å –µ–º—É –∏ —Ç–æ–∂–µ –ø–∏–Ω–∞–ª–∏ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –≤–µ—Ä—ë–≤–∫–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ–π –∏ –ø–µ—Ä–µ—Ç—ë—Ä–ª–∞—Å—å –Ω–µ –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è. –£–≥–æ–º–æ–Ω–∏–ª –∏—Ö –ø—Ä–∏—à–µ–¥—à–∏–π –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ–Ω –º–æ–≥ —É–¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å —ç—Ç–∏—Ö –Ω–µ–≥–æ–¥—è–µ–≤. –•–∞—Å–∞–Ω –Ω–µ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª —É—á–∞—Å—Ç–∏—è –Ω–∏ –≤ –æ–¥–Ω–æ–π —ç–∫–∑–µ–∫—É—Ü–∏–∏ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏. –û–Ω —á–∞—Å—Ç–µ–Ω—å–∫–æ –ø—Ä–µ—Ä–µ–∫–∞–ª—Å—è –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏ —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º –∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω–æ–º. –ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º—ã –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏, –æ–Ω –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞–ª –∏—Ö –∫ –ø–æ—Ä—è–¥–∫—É. –ù–æ —Ç–æ–ª–∫—É –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
17 –∞–ø—Ä–µ–ª—è 2000 –≥–æ–¥–∞.¬Ý–Ý–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è —É—à–ª–∏ –Ω–∞—à–∏ –º—É—á–∏—Ç–µ–ª–∏ — –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã. –ù–∞ —Å–º–µ–Ω—É –∑–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∏ –ª—é–¥–∏ –õ–µ—á–∏ –•—Ä–æ–º–æ–≥–æ: –ê–¥–∞–º, –•–æ–¥–∂–∏, –ú—É—Å–ª–∏–º –∏ –õ—ë–º–∞. –õ–µ—á–∞ –æ—Ç–º–µ—Ä—è–ª –Ω–∞–º –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ç—ã –Ω–∞ –Ω–µ–¥–µ–ª—é. –ù–∞ —Ç–æ–π — —Å–∞—Ö–∞—Ä–∞ —Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–æ –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü—ã. –õ–µ—á–∞ –Ω–µ –Ω–∞—Å—ã–ø–∞–ª –Ω–∏ –ª–æ–∂–∫–∏ —Å–≤–µ—Ä—Ö —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –ø–æ –∏–º –∂–µ —É—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–π –Ω–æ—Ä–º–µ. –£—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π —á–∞–π —Å —Å–∞—Ö–∞—Ä–æ–º —É–∫—Ä–µ–ø–∏–ª –Ω–∞—à–∏ —Å–∏–ª—ã.
–í–æ–¥–∞, –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞ –¥—Ä–æ–≤. –í—Å—ë, –∫–∞–∫ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ. –õ–µ—á–∞ –ø—Ä–æ–±—É–µ—Ç —Ä–∞—Å–∫—É—Ä–∏—Ç—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–Ω—É—é –º–Ω–æ–π —Ç—Ä—É–±–∫—É. –≠—Ç–æ —Ç–∞–∫–∞—è –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–∞—è –ø—Ä—è–º–∞—è –∫–∞–ø–∏—Ç–∞–Ω—Å–∫–∞—è —Ç—Ä—É–±–∫–∞. –û—Å–Ω–æ–≤–∞ — –∏–∑ –±—É–∫–∞. –°–∞–º–∞ —Ç—Ä—É–±–∫–∞ — –∏–∑ —Å–∞–º –Ω–µ –∑–Ω–∞—é —á–µ–≥–æ, –Ω–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ –ø—Ä–æ—á–Ω–æ–µ, –∏, –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ —Ä—ã—Ö–ª–∞—è –æ—Å–Ω–æ–≤–∞. –ë–µ–∑ –Ω–µ—ë –º–Ω–µ –±—ã –Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–µ –¥–ª–∏–Ω–Ω–æ–µ –æ—Ç–≤–µ—Ä—Å—Ç–∏–µ. –°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –∑–∞–∫–∞–∑ — —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç–∞–∫—É—é –∂–µ, –Ω–æ —Å –∫–æ—Å–æ–π —Ç—Ä—É–±–∫–æ–π. –î–µ—Ä–∂–∞ –µ—ë –≤–æ —Ä—Ç—É, –æ—Å–Ω–æ–≤–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å –Ω–∏–∂–µ —É—Ä–æ–≤–Ω—è —Ä—Ç–∞. –ö—Ä–æ–º–µ —Ç–æ–≥–æ, —Ç—Ä—É–±–∫–∞ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å –≤ –¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞ –¥–ª–∏–Ω–Ω–µ–µ.
–î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª —Ä–∞–∑–¥–µ–ª–∏—Ç—å —Å–∞—Ö–∞—Ä –Ω–∞ —Ç—Ä–∏ —á–∞—Å—Ç–∏ –∏ –æ–¥–Ω—É — –æ—Ç–¥–∞—Ç—å –µ–º—É. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–ª–∞ –º–æ—Ä–∞–ª—å –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –ø–æ–≤–æ–¥—É. –Ø –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–µ –≤–º–µ—à–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ –∏—Ö –ø–µ—Ä–µ–ø–∞–ª–∫–∏, —Ö–æ—Ç—è –±—ã–ª, –≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, –Ω–∞ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ü–æ—á–µ–º—É «–≤ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º»? –ü–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –Ω–∞—á–∞–ª –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç—å –ø—Ä–µ–¥–≤–∑—è—Ç–æ—Å—Ç—å –µ—ë –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –∫ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É. –û–Ω–∞ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏–ª–∞ –¥–ª—è —Å–µ–±—è –≤—Ä–∞–≥–∞ –∏ –¥–æ–±—Ä–æ—Å–æ–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –≥–Ω–æ–∏–ª–∞ –µ–≥–æ. –Ø –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ —Å–æ–æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç—Å—è —Å–æ —Å–ø—Ä–∞–≤–µ–¥–ª–∏–≤–æ—Å—Ç—å—é, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –æ–Ω–∞ —Ç–∞–∫ —Ä–∞—Ç–æ–≤–∞–ª–∞.
–ü–æ—á—Ç–∏ –∫–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å –õ–µ—á–∞ –∑–∞–±–∏—Ä–∞–ª –Ω–∞—Å –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å —á–µ—Ä–µ–º—à—É. –ú—ã –≤—ã–±–∏—Ä–∞–ª–∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–ª–æ–¥—ã–µ –ø–æ–±–µ–≥–∏. –ß–µ—Å–Ω–æ—á–Ω—ã–º –∑–∞–ø–∞—Ö–æ–º –ø—Ä–æ–ø–∞—Ö –≤–µ—Å—å –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ª–µ—Å. –ú—ã –ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª–∏ –∏ —Å–∞–º–∏ –æ—Ç–≤–∞—Ä–∏—Ç—å —á–µ—Ä–µ–º—à–∏. –¢–∞–∫ —Å–µ–±–µ, –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–∫—É—Å–∞ — —Ç—Ä–∞–≤–∞ –∏ —Ç—Ä–∞–≤–∞. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –¥–æ–±–∞–≤–ª—è–ª —Å–≤–µ–∂—É—é —á–µ—Ä–µ–º—à—É –≤ –≤–µ—Ä–º–∏—à–µ–ª—å «–ú–∞–∫—Ñ–∞», –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –∑–ª–æ—É–ø–æ—Ç—Ä–µ–±–∏–ª –¥–æ –ø–æ–Ω–æ—Å–∞.
–° –Ω–æ–≤–æ–π —Å–º–µ–Ω–æ–π –±—ã–ª–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–µ–µ. –ú—É–∂–∏–∫–æ–≤–∞—Ç—ã–π –ê–¥–∞–º –±—ã–ª —Å—É—Ä–æ–≤ —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏, —Å–ø–æ–∫–æ–µ–Ω –∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–≤–∞—Ç. –ï–º—É —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å –ª–µ—Ç, –∂–µ–Ω–∞—Ç –∏ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç—Å—è –∑–∞–≤–µ—Å—Ç–∏ —Å–µ–±–µ –≤—Ç–æ—Ä—É—é –∂–µ–Ω—É. –•–æ–¥–∂–∏ 23 –≥–æ–¥–∞, –≤–æ–µ–≤–∞–ª –µ—â—ë –≤ –ø–µ—Ä–≤—É—é –≤–æ–π–Ω—É. –õ—é–±–∏—Ç —Ä–∞—Å—Å—É–∂–¥–∞—Ç—å –Ω–∞ —Ä–µ–ª–∏–≥–∏–æ–∑–Ω—ã–µ —Ç–µ–º—ã. –ú—É—Å–ª–∏–º—É —Ç–æ–ª—å–∫–æ 18 –ª–µ—Ç. –Ý–∞–Ω–µ–Ω –≤ —à–µ—é –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–º —É—â–µ–ª—å–µ. –°–º–µ—à–ª–∏–≤—ã–π, –Ω–æ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–µ—Ç –Ω–∞—Ä–∫–æ—Ç–∏–∫–∏, –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ — –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–∏–π —Å –Ω–∞–º–∏. –õ—ë–º–∞ — –º–ª–∞–¥—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç –ê—Å–ª–∞–Ω–∞ –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ. –ï–º—É —á—É—Ç—å –∑–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å, –Ω–æ –æ–Ω — —Å–∞–º—ã–π —Ç–∏—Ö–∏–π –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –õ—ë–º–∞ –∂–µ–Ω–∞—Ç –∏ –º–µ—á—Ç–∞–µ—Ç –æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∂–µ–Ω–µ. –ï–≥–æ –≤—Å–µ –ø–æ–¥–∫–∞–ª—ã–≤–∞—é—Ç –ø–æ —ç—Ç–æ–º—É –ø–æ–≤–æ–¥—É. –û–Ω –Ω–µ –æ–±–∏–∂–∞–µ—Ç—Å—è.
–ö–∞–∂–¥—ã–π –¥–µ–Ω—å –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –æ—Å—Ç–∞—ë—Ç—Å—è –Ω–∞ –Ω–æ—á—å. –ö—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–π —Ç–∞–∫–æ–π —Ç–∏–ø—á–∏–∫, –Ω–æ –∏–∑ —Ä–∞–Ω–Ω–∏—Ö. –í –≥—Ä—É–ø–ø—É –õ–µ—á–∏ —Ñ–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ –Ω–µ –≤—Ö–æ–¥–∏—Ç, –Ω–æ –Ω–∞—Ä–∞–≤–Ω–µ —Å–æ –≤—Å–µ–º–∏ –≤–æ–¥–∏—Ç –Ω–∞—Å –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏ –∏ –±—å—ë—Ç, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
–õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –≤–∑—è–ª —Å–µ–±–µ –≤ –ø—Ä–∏–≤—ã—á–∫—É –ø—Ä–∏–Ω–æ—Å–∏—Ç—å –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å —Å–±–æ—Ä–Ω–∏–∫–∏ –∫—Ä–æ—Å—Å–≤–æ—Ä–¥–æ–≤ –∏ —Ä–∞–∑–≥–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å –∏—Ö. –û–±—ã—á–Ω–æ –æ–Ω —Ä–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª—Å—è –≤ –≥–∞–º–∞–∫–µ –∏ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –∏–ª–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —Å–µ–±—è –∫–∞—á–∞—Ç—å. –ü–æ—Ç–æ–º –≤—Å–ª—É—Ö —á–∏—Ç–∞–ª –≤–æ–ø—Ä–æ—Å, –µ—Å–ª–∏ —Å–∞–º –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–π –æ—Ç–≤–µ—Ç. –ú—ã –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª–∏. –•–æ—Ç—å –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∞—Å, –∑–Ω–∞–ª –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω—ã–π –æ—Ç–≤–µ—Ç. –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π —Ä–µ—à–∏–ª —É—Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å. –ï—Å–ª–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –æ—Ç–≤–µ—á–∞–µ—à—å –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ, —Ç–µ–±–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç. –ï—Å–ª–∏ —Å –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–∞ –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª, 5 –ø–∞–ª–æ–∫. –ù–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —Å–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Ä–∞–∑–∞ — –¥–µ—Å—è—Ç—å, –Ω—É, –∏ —Ç–∞–∫ –¥–∞–ª–µ–µ. –û–Ω –ª–∏—á–Ω–æ —Å—Ç—É—á–∞–ª –ø–∞–ª–∫–æ–π –ø–æ –Ω–∞—à–∏–º –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º.
–õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Ç–∞–∫–æ–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ. –Ý–∞–∑–≥–∞–¥—ã–≤–∞–Ω–∏–µ –∫—Ä–æ—Å—Å–≤–æ—Ä–¥–æ–≤ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞–ª–æ—Å—å –≤ —ç–∫–∑–µ–∫—É—Ü–∏—é, –∞ –¥–ª—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ — –≤ —Ü–∏—Ä–∫. –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –∫—É–¥–∞ –±—ã –µ—â—ë –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏—Ç—å —Å–µ–±—è. –ü—Ä–∏ –ø–æ—Ö–æ–¥–∞—Ö –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –æ–Ω –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –º–µ–Ω—è –ø–µ—Ç—å «–°–∏—Ä–µ–Ω–µ–≤—ã–π —Ç—É–º–∞–Ω». –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –æ–Ω –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–¥—Å–∫–∞–∫–∏–≤–∞–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ —É–¥–∞—Ä—è–ª –ø–∞–ª–∫–æ–π –ø–æ —É—Ö—É —Å–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏ «–≥—Ä–æ–º—á–µ» –∏–ª–∏ «—á–µ–≥–æ –æ—Ä—ë—à—å!». –ü–æ –Ω–∞—É—â–µ–Ω–∏—é –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞, –æ–Ω –∫–∞–∫-—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –æ–±–µ–¥–æ–º –æ—Ç–≤–µ–ª –Ω–∞—Å —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –≤ –ª–µ—Å. –õ–∞–¥–Ω–æ, —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—à—ë–ª –µ—â—ë –∏ –•–æ–¥–∂–∏. –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π –Ω–∞—à—ë–ª —Ç–æ–ª—Å—Ç—É—é –ø–∞–ª–∫—É –∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –µ—ë –º–Ω–µ.
— –ù–∞, –±—É–¥–µ—à—å –Ω–∞–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ!
— –ó–∞ —á—Ç–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª —ç—Ç–æ–π –ø–∞–ª–∫–æ–π –ø–æ —Å–ø–∏–Ω–µ.
— –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π! — –∑–∞–æ—Ä–∞–ª –õ–µ—á–∞. — –í–æ–∑—å–º–∏ –ø–∞–ª–∫—É –∏ –Ω–∞–∫–∞–∂–∏ –í–∏–∫—Ç–æ—Ä–∞ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –∑–∞–¥–∞—ë—Ç –≤–æ–ø—Ä–æ—Å—ã.
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Å—Ç–æ—è–ª, –Ω–µ –¥–≤–∏–≥–∞—è—Å—å. –°–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—è –±—ã–ª–∞ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ —Ç–∞–∫–∞—è, —á—Ç–æ –∏ –ø—Ä–∏ –Ω–∞—à–µ–π –¥—Ä–∞–∫–µ. –ú—ã –æ–±—Å—É–∂–¥–∞–ª–∏ –µ—ë –∏ —Ä–µ—à–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –ø–æ–¥–¥–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Ç–∞–∫–∏–µ –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏–∏ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ù–æ —è –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –µ—â—ë —Ö—É–∂–µ, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞—Å –±—É–¥–µ—Ç –∏–∑–±–∏–≤–∞—Ç—å —Å–∞–º –õ–µ—á–∞ –º–ª–∞–¥—à–∏–π. –û–Ω –±—ã–ª —Å–ª–∏—à–∫–æ–º —Ä–∞—Å–ø–∞–ª—ë–Ω. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É —è —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, –±–µ–π—Ç–µ –º–µ–Ω—è. –í—Å—ë —Ä–∞–≤–Ω–æ –∂–µ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤—è—Ç.
–¢–æ—Ç –Ω–µ—Ö–æ—Ç—è –≤–∑—è–ª –ø–∞–ª–∫—É –∏ —É–¥–∞—Ä–∏–ª –µ—é –º–µ–Ω—è –ø–æ —Å–ø–∏–Ω–µ. –°–ª–∞–±–æ —É–¥–∞—Ä–∏–ª.
— –ï—â—ë –±–µ–π, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π! –°–∏–ª—å–Ω–µ–µ –±–µ–π! — –∫—Ä–∏—á–∞–ª –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π.
–î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —É–¥–∞—Ä–∏–ª –µ—â—ë —Ä–∞–∑. –Ø –Ω–∞–ø—Ä—è–≥ –º—ã—à—Ü—ã –≤ –º–µ—Å—Ç–µ —É–¥–∞—Ä–∞. –ù–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ. –¢–µ—Ä–ø–∏–º–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –õ–µ—á–∞ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª—Å—è. –ù–æ —Ç–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–≤–∏—Ä–µ–ø–µ–ª.
— –Ø —É–±—å—é —Ç–µ–±—è, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π! — –æ—Ä–∞–ª –æ–Ω, —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –µ—â—ë –æ–¥–Ω—É –ø–∞–ª–∫—É –∏ –±—Ä–æ—Å–∏–ª—Å—è –∏–∑–±–∏–≤–∞—Ç—å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ—à—ë–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –û–ø—è—Ç—å –Ω–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ. –£ —ç—Ç–æ–≥–æ –∑–º–µ—ë–Ω—ã—à–∞ –∏–∑–æ —Ä—Ç–∞ –±—Ä—ã–∑–≥–∞–ª–∞ –ø–µ–Ω–∞. –û–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –∫—Ä–∏—á–∞–ª. –•–æ–¥–∂–∏ —Å—Ç–∞–ª –æ—Ç—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—Ç—å –µ–≥–æ –æ—Ç –Ω–∞—Å, –Ω–æ —Ç–æ—Ç –Ω–µ —É–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ–∫—Ä–∏–∫ –ê–¥–∞–º–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –µ–≥–æ –ø—Ä–∏–π—Ç–∏ –≤ —Å–µ–±—è. –ú—ã –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø–æ–¥ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω—è–µ–º—ã–π –º–Ω–æ—é «–°–∏—Ä–µ–Ω–µ–≤—ã–π —Ç—É–º–∞–Ω». –ò–∑ –≥–ª–∞–∑ –Ω–µ–ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ç–µ–∫–ª–∏ —Å–ª—ë–∑—ã. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —É–∂–µ –ê–¥–∞–º –±—ã–ª –≤–∑–±–µ—à—ë–Ω —Ç–µ–º, —á—Ç–æ —è –ø–æ—é. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –∏–∑–±–∏–µ–Ω–∏–µ –ø–∞–ª–∫–∞–º–∏. –ë–∏–ª –ª–∏—á–Ω–æ –ê–¥–∞–º. –ü—Ä–∏—á—ë–º –≤—Å–µ—Ö –Ω–∞—Å, –≤–∫–ª—é—á–∞—è –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –ë–∏–ª —Å–∏–ª—å–Ω–æ –∏ –¥–æ–ª–≥–æ. –û–Ω –∏ —Å–∞–º, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –∑–∞ —á—Ç–æ –±—å—ë—Ç, –Ω–æ –≤–æ—à—ë–ª –≤ —Ä–∞–∂. –õ–µ—á–∞ –º–ª–∞–¥—à–∏–π –æ–ø—è—Ç—å –ø–æ–¥—Å–∫–æ—á–∏–ª –∏ —Ö–≤–∞—Ç–∞–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è –ø–æ —Å–ø–∏–Ω–µ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–π –¥—É–±–∏–Ω–æ–π. –Ø —É–ø–∞–ª. –° —Ç–µ–º –∂–µ —Ä–≤–µ–Ω–∏–µ–º –æ–Ω —Ö–≤–∞—Ç–∞–Ω—É–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ.
–ù–∞—Å –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –±–µ–∑ –æ–±–µ–¥–∞. –Ø –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –ø–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –î—Ä–æ–∂–∞–ª–∏ —Ä—É–∫–∏. –í–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø–µ—Ä–µ–¥ –æ—Ç–±–æ–µ–º –Ω–∞–º –æ–±—ä—è–≤–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –∑–∞ –ø–ª–æ—Ö–æ–µ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –º—ã –∑–∞—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏ –ø–∞–ª–∫–∏. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —É–¥–∞—Ä–æ–≤ –ø–∞–ª–∫–æ–π, —è — —Å–æ—Ä–æ–∫, –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ — –≤–æ—Å–µ–º—å–¥–µ—Å—è—Ç.
–û–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–µ –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ –ø–∞–ª–∫–∞–º–∏ –Ω–µ —Ç–∞–∫ —É–∂ –∏ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ. –ë—å—é—â–∏–π –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –æ—Ç—Ä—ã–≤–∞—Ç—å –ª–æ–∫—Ç—è —Ä—É–∫–∏, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –∑–∞–∂–∞—Ç–∞ –ø–∞–ª–∫–∞, –æ—Ç —Ç–µ–ª–∞. –£–¥–∞—Ä—ã –ø–æ–ª—É—á–∞—é—Ç—Å—è –Ω–µ —Å–∏–ª—å–Ω—ã–µ. –ü—Ä–∏ —ç—Ç–æ–º –Ω–µ–ª—å–∑—è –±–∏—Ç—å –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–º—É –º–µ—Å—Ç—É. –ù–∞–∫–∞–∑—É—é—â–∏–π —Ä–∞—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–µ—Ç —É–¥–∞—Ä—ã –ø–æ –≤—Å–µ–º—É —Ç–µ–ª—É –∏ –Ω–æ–≥–∞–º. –≠—Ç–æ –Ω–∞–∫–∞–∑–∞–Ω–∏–µ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –æ–±–∏–¥–Ω–æ–µ, —á–µ–º –±–æ–ª—å–Ω–æ–µ.
–ü–æ—Å–ª–µ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã —É–∂–µ –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç—ã–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏—Ö –Ω–∞—Ä–∞—Ö, –•–æ–¥–∂–∏ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª –ø–µ—Å–Ω—é. –Ø –ø–µ–ª «–≠—Ö, –¥–æ—Ä–æ–≥–∏!». –ü—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø–µ—Ç—å —Å —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–º. –ò–º —ç—Ç–æ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å, –Ω–æ, —Å–∞–º–æ–µ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, –ø–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–Ω–∏ —É—Å–ø–æ–∫–∞–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –Ω–∞—Å –≤ –ø–æ–∫–æ–µ.
–ù–æ—á—å—é –º—ã –ø—Ä–æ—Å—ã–ø–∞–ª–∏—Å—å –æ—Ç –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–æ–≤. –í–∑—Ä—ã–≤—ã —Å–æ—Ç—Ä—è—Å–∞–ª–∏ –∑–µ–º–ª—é, –¥–∞–∂–µ –µ—Å–ª–∏ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥—ã –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –û–±—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –±—ã–ª–∏ –ø–ª–∞–Ω–æ–≤—ã–º–∏. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–µ —á–∞—Å–æ–≤–æ–π —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª—Å—è –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –í–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–µ–µ. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞—à —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –ª–µ—Å–∞. –í–∑—Ä—ã–≤—ã –Ω–µ –±—ã–ª–∏ –≥—Ä–æ–º—á–µ, –æ–Ω–∏ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ä–µ–∑—á–µ. –ù–∞ –ø–æ–¥–ª—ë—Ç–µ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–∞ —è –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –º—ã—Å–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –∏ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –∫ –±–æ–≥—É — –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π –∏–Ω—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏–∏, –≤—ã—à–µ —É–∂–µ –Ω–µ–∫—É–¥–∞. –ü–æ–¥ —É—Ç—Ä–æ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è. –õ–µ—Å –Ω–µ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ä–µ–¥–∫–æ. –ü–æ–∂–∞–ª—É–π, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏—è –≤ –ª–µ—Å—É —Å–ø–µ—Ü–æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–π —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–º–∏ –≤–æ–π—Å–∫–∞–º–∏. –ó–∞ –≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É —Ç–∞–∫–∏—Ö –¥–Ω–µ–π –±—ã–ª–æ –ø—è—Ç—å. –ú—ã —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ —Å—á–∏—Ç–∞–ª–∏ –∏—Ö.
–í–æ–ª–∫ –∏–∑ —Å–≤–∏–Ω—å–∏ –∏ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª
–° —Ç—Ä—É–±–∫–æ–π –¥–ª—è –õ–µ—á–∏ —è –º—É—á–∏–ª—Å—è –Ω–µ –¥–æ–ª–≥–æ. –û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–¥–µ–ª–∞–Ω–∞ –≤ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–µ —Å—É—Ç–æ–∫. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ, –Ω–æ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Ä–∞–∑ —è –∑–∞–ø–æ—Ä–æ–ª —Å–∞–º—É —Ç—Ä—É–±–∫—É. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø–æ—Ç—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞ –¥–ª—è –ø—Ä–æ—Ç—ã–∫–∞–Ω–∏—è –¥—ã—Ä–∫–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–π –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–µ. –¢—Ä—É–±–∫–∞ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–∞—Å—å –õ–µ—á–µ. –ù–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º —ç–ø–æ–ø–µ—è –ø–æ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏—é —Ç—Ä—É–±–æ–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞—Å—å.
–û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —É–∂–µ –≤—ã—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏—Å—å –≤ –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –Ω–∞ –∏—Ö –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ. –ü–µ—Ä–≤—ã–º –±—ã–ª –•–æ–¥–∂–∏.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –∞ –º–æ–∂–µ—à—å —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç—Ä—É–±–∫—É –≤ –≤–∏–¥–µ –∞–∫—É–ª—ã? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –Ø –º–æ–≥—É –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –Ø –≤–∏–¥–µ–ª —Ç–∞–∫—É—é, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –æ–Ω. — –ú–æ–π —Å–≤–æ—è–∫ –ø—Ä–∏–≤–æ–∑–∏–ª –∏–∑ –ù–∞–ª—å—á–∏–∫–∞.
— –ê –ø–æ—á–µ–º—É –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –∞–∫—É–ª–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –û–Ω–∞ —Ç–∞–∫–∞—è –∂–µ –∞–≥—Ä–µ—Å—Å–∏–≤–Ω–∞—è, –∫–∞–∫ –≤–æ–ª–∫, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
–ò –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª–∏ –æ –≤–æ–ª–∫–µ, —Ç–∞–∫ —Å—Ä–∞–∑—É –ú—É—Å–ª–∏–º —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –í–æ—Ç-–≤–æ—Ç, –º–Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞–µ—à—å –≤–æ–ª–∫–∞.
— –¢–æ–≥–¥–∞ –∏ –º–Ω–µ –≤–æ–ª–∫–∞, — –ø–æ–º–µ–Ω—è–ª –∑–∞–∫–∞–∑ –•–æ–¥–∂–∏.
–í—Å–µ —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª–∏ –≤–æ–ª–∫–∞. –Ø –ø–æ–Ω—è—Ç–∏—è –Ω–µ –∏–º–µ–ª, –∫–∞–∫ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∫—É—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é —Ç—Ä—É–±–∫—É –∏–∑ —Ñ–∏–≥—É—Ä—ã —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ–Ω–æ–≥–æ–≥–æ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞—Ä–∏—Å–æ–≤–∞—Ç—å. –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å.
— –Ø –Ω–µ —Ö—É–¥–æ–∂–Ω–∏–∫, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — –æ—á–µ–Ω—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è.
— –ü–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è! — —É—Ç–≤–µ—Ä–∂–¥–∞–ª –•–æ–¥–∂–∏. — –£ —Ç–µ–±—è — –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è!
— –ê –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è, — –≤—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –õ–µ—á–∞ –º–ª–∞–¥—à–∏–π, — –ø–æ–ª—É—á–∏—à—å –≤ —Ä—ã–ª–æ!
— –Ø –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É—é, –Ω–æ –æ–±–µ—â–∞—Ç—å –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –Ω–µ –º–æ–≥—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –ü–æ–ø—Ä–æ–±—É–π –Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å! — –∑–∞—à–∏–ø–µ–ª –õ–µ—á–∞ –º–ª–∞–¥—à–∏–π –∏ –≤—Ä–µ–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ø–∏–Ω–∫–∞.
–Ø –±—ã –¥–æ–ª–≥–æ –º—É—á–∏–ª—Å—è —Å —ç—Ç–æ–π —Ç—Ä—É–±–∫–æ–π, –µ—Å–ª–∏ –±—ã –º–Ω–µ –Ω–µ –ø–æ–¥—Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ—ë–º–∞.
— –ù–µ –Ω–∞–¥–æ –≤—ã—Ä–µ–∑–∞—Ç—å —Ü–µ–ª–æ–≥–æ –≤–æ–ª–∫–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –Ø –≤–∏–¥–µ–ª —Ç–∞–∫–∏–µ —Ç—Ä—É–±–∫–∏. –¢–∞–º —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≥–æ–ª–æ–≤–∞.
— –ê –≥–¥–µ –∂–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –¥—ã—Ä–∫—É –¥–ª—è —Ç–∞–±–∞–∫–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ.
— –ü—Ä—è–º–æ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ, –≤–º–µ—Å—Ç–æ –º–æ–∑–≥–æ–≤, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –õ—ë–º–∞. — –ú–µ–∂–¥—É —É—à–∞–º–∏.
–Ø –≤–∑—è–ª—Å—è –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞–ª –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ –Ω–∞ –±–µ–∑—É—Å–ª–æ–≤–Ω—É—é –∞–≤–∞–Ω—Ç—é—Ä—É. –ù–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–æ–∂–∏–¥–∞–Ω–Ω–æ –Ω–∞ –ø–æ–º–æ—â—å –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. –£–≤–∏–¥–µ–≤ –º–æ–∏ —Å–æ–º–Ω–µ–Ω–∏—è –∏ —Ç—â–µ—Ç–Ω—ã–µ —É—Å–∏–ª–∏—è, –æ–Ω–∞ —Ç–∫–Ω—É–ª–∞ –º–µ–Ω—è –≤ –±–æ–∫.
— –î–∞–≤–∞–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞, — —è –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É—é —Ç–µ–±–µ –Ω–∞—Ä–∏—Å–æ–≤–∞—Ç—å –≤–æ–ª–∫–∞.
— –¢—ã —á—Ç–æ, —Ä–∏—Å–æ–≤–∞—Ç—å —É–º–µ–µ—à—å? — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —è.
— –î–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –ö–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –Ω–µ–ø–ª–æ—Ö–æ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å.
–°–≤–µ—Ç–∞ –Ω–∞—á–∞–ª–∞ —Ä–∏—Å–æ–≤–∞—Ç—å –º–æ—Ä–¥—É –≤–æ–ª–∫–∞. –Ý–∏—Å–æ–≤–∞–ª–∞ —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º. –ó—Ä–µ–Ω–∏–µ —É –Ω–µ—ë –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ, –∞ –æ—á–∫–æ–≤ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –æ–Ω–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ —à–∏–ª–∞. –í —Ä–µ–¥–∫–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö –ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –≤–¥–µ—Ç—å –Ω–∏—Ç–∫—É –≤ –∏–≥–æ–ª–∫—É, –Ω–æ –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–æ —à–∏—Ç—å—è –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–æ –∂–µ–ª–∞—Ç—å –ª—É—á—à–µ–≥–æ. –ù–µ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –Ω–µ —É–º–µ–ª–∞. –û–Ω–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —à–∏–ª–∞.
–®—Ç—Ä–∏—Ö –∑–∞ —à—Ç—Ä–∏—Ö–æ–º –Ω–∞ –æ–±—Ä—ã–≤–∫–µ –±—É–º–∞–≥–∏ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–æ—Å—å –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤—Å—ë –±—ã–ª–æ –≥–æ—Ç–æ–≤–æ, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–∞ –±—É–º–∞–≥–µ –º–æ—Ä–¥—É —Å–æ–±–∞–∫–∏. –ï—â—ë –æ–¥–∏–Ω —ç—Å–∫–∏–∑ — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–æ–±–∞–∫–∞. –•–æ—Ä–æ—à–∞—è, —É–º–Ω–∞—è, –¥–æ–±—Ä–∞—è –æ–≤—á–∞—Ä–∫–∞. –°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π —ç—Å–∫–∏–∑ — –∏ –æ–ø—è—Ç—å –æ–≤—á–∞—Ä–∫–∞.
— –ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –£ —Å–æ–±–∞–∫–∏ –º–æ—Ä–¥–∞ –ø—Ä—è–º–∞—è, –∞ —É –≤–æ–ª–∫–∞ –≤–æ—Ç —Ç—É—Ç –Ω–∞ –º–æ—Ä–¥–µ –≤–¥–æ–ª—å –Ω–æ—Å–∞ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —É—Ç–æ–ª—â–µ–Ω–∏–µ.
–°–¥–µ–ª–∞–ª–∏ —É—Ç–æ–ª—â–µ–Ω–∏–µ. –°–æ–±–∞–∫–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ —Å–º–∞—Ö–∏–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –≤–æ–ª–∫–∞. –ù–æ —è —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á–µ–º –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –≤–æ–ª–∫ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–µ—Ç—Å—è –æ—Ç —Å–æ–±–∞–∫–∏. –Ý–µ—à–∏–ª –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—Ç—å –≤–æ–ø–ª–æ—â–µ–Ω–∏–µ —Ä–∏—Å—É–Ω–∫–∞ –≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ.
–ü–æ–Ω–∞–¥–æ–±–∏–ª—Å—è –Ω–æ–≤—ã–π –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç. –Ý–µ–∑—Ü—ã –∏ –¥–æ–ª–æ—Ç–∞ —è –¥–µ–ª–∞–ª –∏–∑ –≥–≤–æ–∑–¥–µ–π. –ó–∞–∫–∞–ª—è–ª –Ω–∞ –∫–æ—Å—Ç—Ä–µ. –î–ª—è –≤—Å–µ–≥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –∞—Ä—Å–µ–Ω–∞–ª–∞ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª—Å—è –º–µ—à–æ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—à–∏–ª –∏–∑ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–æ–≤ –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç–Ω–æ–≥–æ —à—ë–ª–∫–∞.
–ß–µ—Ç—ã—Ä–µ —á–∞—Å–∞ –ø–æ—Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –º–Ω–µ, —á—Ç–æ–±—ã –∏–∑ –∫—É—Å–∫–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ—è–≤–ª—è—Ç—å—Å—è –≥–æ–ª–æ–≤–∞ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ. –û–Ω–∞ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤—Å—ë —è—Å–Ω–µ–µ –∏ —Ä–µ–ª—å–µ—Ñ–Ω–µ–µ, –Ω–æ —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–∞ –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–µ, —è –Ω–µ —Ä–µ—à–∏–ª—Å—è –±—ã —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –•–æ–¥–∂–∏ –ø–µ—Ä–∏–æ–¥–∏—á–µ—Å–∫–∏ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π. –û–Ω –ø–µ—Ä–≤—ã–º –∏ –Ω–∞–∑–≤–∞–ª –∂–∏–≤–æ—Ç–Ω–æ–µ.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ç—ã –∫–æ–≥–æ –≤—ã—Ä–µ–∑–∞–µ—à—å? — –≤–æ—Å–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω. — –≠—Ç–æ –∂–µ —Å–≤–∏–Ω—å—è!
–ù–µ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–º–µ—Ç—å –∏–∑—ã—Å–∫–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ —Ö—É–¥–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤–æ–æ–±—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è, —á—Ç–æ–±—ã —É–∑–Ω–∞—Ç—å —Å–≤–∏–Ω—å—é –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –∏–∑-–ø–æ–¥ –º–æ–µ–≥–æ –Ω–æ–∂–∞. –ü—Ä–∏—á—ë–º, –ø–æ–ª—É—á–∞–ª—Å—è –Ω–∞–≥–ª—ã–π —Ç–∞–∫–æ–π –±–æ—Ä–æ–≤. –ë–µ—Å—Å–æ–≤–µ—Å—Ç–Ω—ã–π –∏ –Ω–∞–≥–ª—ã–π. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –º–µ–Ω—è –≤—ã—Ä—É—á–∏–ª–∞.
— –≠—Ç–æ –∂–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –í–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –∑–¥–µ—Å—å —É–±—Ä–∞—Ç—å, —Ç—É—Ç –ø–æ–¥—Å—Ç—Ä–æ–≥–∞—Ç—å, –∏ –±—É–¥–µ—Ç –≤–æ–ª–∫.
— –ö–∞–∫ —ç—Ç–æ? –í–æ–ª–∫ –∏–∑ —Å–≤–∏–Ω—å–∏! — –≤–æ–∑–º—É—â–∞–ª—Å—è –•–æ–¥–∂–∏.
–û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ä–∂–∞–ª–∏. –£—á–∏—Ç—ã–≤–∞—è —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ë–Ω–Ω–æ–µ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω –∫ —Å–≤–∏–Ω—å–µ, –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥—Å—Ç–≤–æ –≤–æ–ª–∫–∞ –∏–∑ –Ω–µ—ë –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ—Å–∫–æ—Ä–±–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º –∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–º. –Ø –∏ —Å–∞–º –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –∫–∞–∫ –∏–∑ —ç—Ç–æ–π –æ—Ç–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π —Ä–æ–∂–∏ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—Å—è –ø–æ–ª–Ω–æ—Ü–µ–Ω–Ω—ã–π –≤–æ–ª–∫, –Ω–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–æ–¥—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –º–Ω–µ, —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å. –ò –≤—Å—ë –∂–µ, –∫–∞–∫ –º—ã –Ω–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å, –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–∞—Å—å —Å–æ–±–∞–∫–∞. –î–æ–±—Ä–∞—è —Å–æ–±–∞–∫–∞. –ù–æ –ø–æ–ª—É–∫—Ä–æ–≤–∫–∞. –ì–¥–µ-—Ç–æ –≤ –Ω–µ–¥—Ä–∞—Ö –µ—ë –≥–µ–Ω–µ–∞–ª–æ–≥–∏–∏ –±–µ–≥–∞–ª–∏ —Å–≤–∏–Ω—å–∏.
–¢–∞–∫ —ç—Ç—É —Ç—Ä—É–±–∫—É –Ω–∏–∫—Ç–æ –∏ –Ω–µ –≤–∑—è–ª. –ù–æ —É –º–µ–Ω—è –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –æ–ø—ã—Ç. –í—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç—Ä—É–±–∫–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å —á–∏—Å—Ç–æ–∫—Ä–æ–≤–Ω–æ–π –æ–≤—á–∞—Ä–∫–æ–π. –£ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–π —è —Å—Ç–∞–ª –¥–µ–ª–∞—Ç—å –º–æ—Ä–¥—É –ø–æ—à–∏—Ä–µ –∏ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ —Å—Ç–µ—Å–∞–ª –ª–æ–± —Å —É—à–∞–º–∏. –í–ø–æ—Ä—É –±—ã–ª–æ –≤—ã–∫–∏–Ω—É—Ç—å –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É, –Ω–æ —è –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —É—à–∏ –µ—â—ë –Ω–∏–∂–µ, –∞ –ª–æ–± –ø–æ—á—Ç–∏ —É–±—Ä–∞—Ç—å. –£–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ, –Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ–π —Ç–≤–∞—Ä–∏ –≤—Å–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–ª–∏ –≤–æ–ª–∫–∞. –û—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏–¥–∞—Ç—å –µ–º—É —Å–≤–∏—Ä–µ–ø—ã–π –≤–∏–¥.
— –ü–æ–ø—Ä–æ–±—É–π –µ–º—É —á—É—Ç—å –ø—Ä–∏–æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –ø–∞—Å—Ç—å –∏ –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å –∑—É–±—ã, — –ø–æ—Å–æ–≤–µ—Ç–æ–≤–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –ñ–µ–ª–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –∫–ª—ã–∫–∏.
–ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª—Å—è –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π –≤–æ–ª–∫. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –∏ —è –∑–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ –æ–Ω –≤—ã–≥–ª—è–¥–∏—Ç –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ. –¢—Ä—É–±–∫—É —è –æ–±–∂—ë–≥ –Ω–∞ –∫–æ—Å—Ç—Ä–µ –∏ –æ—Ç–ø–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª. –ü–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–µ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —É–∂–µ –∏ –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é, –∫–æ–º—É –¥–æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ—Ç –ø–µ—Ä–≤—ã–π –≤–æ–ª–∫.
–ù–µ –Ω–∞–¥–æ –¥—É–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –≤–æ–ª—á–∏–π –∫–æ–Ω–≤–µ–π–µ—Ä –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª –º–µ–Ω—è –æ—Ç –≤—Å—è–∫–æ–π –¥—Ä—É–≥–æ–π —Ä–∞–±–æ—Ç—ã. –ú—ã —Ç–∞–∫ –∂–µ —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –ø–æ —à–µ—Å—Ç—å —Ä–∞–∑ –≤ –¥–µ–Ω—å. –ù–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –µ—é –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–∫–æ–≤—ã–µ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏ –∏ –≥—Ä–µ–ª–∏ –∏—Ö –Ω–∞ –∫–æ—Å—Ç—Ä–µ, —á—Ç–æ–±—ã –¥–æ–±—Ä–æ–ø–æ—Ä—è–¥–æ—á–Ω—ã–µ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–µ –º–æ–≥–ª–∏ —É–º—ã—Ç—å—Å—è –∏ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –≤—ã–º—ã—Ç—å —Ä—É–∫–∏ –ø–æ –ª–æ–∫–æ—Ç—å, –∞ –Ω–æ–≥–∏ — –ø–æ –∫–æ–ª–µ–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –∫–∞–∂–¥–æ–π –º–æ–ª–∏—Ç–≤–æ–π. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –º–æ—é—Ç –Ω–æ–≥–∏. –û—á–µ–Ω—å –ª–æ–≤–∫–æ. –î–∞ –∏ –Ω–µ –º—É–¥—Ä–µ–Ω–æ, –≤–µ–¥—å —ç—Ç–æ–º—É –∏—Ö —É—á–∏–ª–∏ —Å –¥–µ—Ç—Å—Ç–≤–∞.
–ú—ã —Ç–∞–∫ –∂–µ —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤ –ª–µ—Å, –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Å—É—Ö–∏–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –∏ —Å–ø–∏–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –∏—Ö. –¢–∞—â–∏–ª–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –∏ –ø–∏–ª–∏–ª–∏ –Ω–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞.
–ù–∞ —Å–º–µ–Ω—É —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –º—É—á–∏—Ç–µ–ª–∏: –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–µ –∏—Ö –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–æ—Å—Ç–∏ –±—ã–ª–∏ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –õ–µ—á–∏ –•—Ä–æ–º–æ–≥–æ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ —Å–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª–æ –∏—Ö —Ñ–∞–Ω—Ç–∞–∑–∏–∏.
–£—Ç—Ä–æ–º –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–Ω–∏–∫, –ø–æ—Å–ª–µ –ø–æ—Ö–æ–¥–∞ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π, –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π –Ω–∞–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ù–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —É–≤–µ–ª–∏ –≤ –ª–µ—Å. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ. –£ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –æ—Å–æ–±–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ —É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –û–Ω –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –µ–≥–æ, –¥–∞–±—ã –ø–æ–º–µ–Ω—å—à–µ –ø—Ä–µ–ø–∏—Ä–∞–ª—Å—è —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –¢–∞–∫ –≤–æ—Ç, –æ–Ω —Ç–∞–∫ —Ç–∞–º –∏ —Å–∏–¥–µ–ª. –≠—Ç–æ –º—ã –≤–∏–¥–µ–ª–∏, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –•–∞—Å–∞–Ω —É–≤—ë–ª –Ω–∞—Å –≤—Å–µ–≥–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç. –¢–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è.
–ú—ã –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞.
— –ú–æ–∂–µ—à—å –æ–¥–∏–Ω –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å –¥—Ä–æ–≤–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π.
— –ú–æ–≥—É, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –í–ø–µ—Ä—ë–¥! — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –æ–Ω.
–ó–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏ —Å–æ –º–Ω–æ–π –ø–æ—à—ë–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. –û–Ω –∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –≤—Å—ë.
— –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, — —Å–∫–æ—Ä–æ –≤—ã —Å–æ –°–≤–µ—Ç–æ–π –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç–µ—Å—å –æ–¥–Ω–∏.
— –ü–æ—á–µ–º—É? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–¥–∞—ë–º, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
— –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã? — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è —è.
— –£–∂–µ —á–∞—Å—Ç—å –¥–µ–Ω–µ–≥ —Å–æ–±—Ä–∞–ª–∏ –∏ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑–ª–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –î–µ–Ω—å–≥–∏ –∑–∞–±–∞—à–ª—è–ª–∞ –µ–≥–æ –ø–æ–¥—Ä—É–≥–∞ –û–ª—å–≥–∞. –ù–æ –º–∞–ª–æ. –°–µ–π—á–∞—Å –æ–Ω–∞ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –±–∞–±–∫–∏.
–Ø –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –≤—ã—Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –ø–æ–ø–æ–¥—Ä–æ–±–Ω–µ–µ, –Ω–æ, –ø–æ—Ö–æ–∂–µ, –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ —Å–∞–º —Ç–æ–ª–∫–æ–º –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç. –ù–æ –∫–∞–∫ –æ–Ω –±—ã–ª –≤–æ–æ–¥—É—à–µ–≤–ª—ë–Ω! –û–Ω –±—ã–ª –≥–¥–µ-—Ç–æ –¥–∞–∂–µ –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–µ–Ω. –ò–ª—å–º–∞–Ω –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–º–æ–≥ –º–Ω–µ –Ω–µ—Å—Ç–∏ —Ç—è–∂–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–µ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ, –Ω–æ –∏ –ø–∏–ª–∏–ª –µ–≥–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –º–Ω–æ–π, –∏ –¥–∞–∂–µ –æ–¥–∏–Ω —Ä–∞—Å–∫–æ–ª–æ–ª –≤—Å–µ –Ω–∞–ø–∏–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –∫—Ä—É–≥–ª—è–∫–∏ –Ω–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞.
–î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —Å–∏–¥–µ–ª –ø–æ–¥ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ–º, –ø—Ä–∏—Å—Ç—ë–≥–Ω—É—Ç—ã–π –∫ –Ω–µ–º—É –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏. –ú—ã –µ–º—É –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –∑–∞–≤–∏–¥–æ–≤–∞–ª–∏.
–°–¥–µ–ª–∞—é –∑–∞–º–µ—á–∞–Ω–∏–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —Å—á–∏—Ç–∞—é –∫—Ä–∞–π–Ω–µ –≤–∞–∂–Ω—ã–º. –ß–µ–º –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–∞ –≤–æ–ª–µ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é—Ç –æ –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö, —Ç–µ–º –º–µ–Ω—å—à–µ –∏–º –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –º—É—á–∏—Ç—å—Å—è. –Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—é –∫–∞–Ω–∞–ª–æ–≤, –ø–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏—è –¥–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç –¥–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, –Ω–æ –æ–Ω–∞ –¥–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç. –ò –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑ —Å—Ä–µ–¥—Å—Ç–≤ –º–∞—Å—Å–æ–≤–æ–π –∏–Ω—Ñ–æ—Ä–º–∞—Ü–∏–∏. –Ø –æ—Å—É–∂–¥–∞—é –ø–æ–∑–∏—Ü–∏–∏ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —á–∏–Ω–æ–≤–Ω–∏–∫–æ–≤ –∏ —á–∏–Ω—É—à, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∑–∞—è–≤–ª—è–ª–∏, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –º–æ–µ–π –∂–µ–Ω–µ: «–ù–µ –Ω–∞–¥–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å. –í—ã —Å–¥–µ–ª–∞–µ—Ç–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ö—É–∂–µ –¥–ª—è –Ω–∏—Ö». –õ—É—á—à–µ –±—ã —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ —Å–∞–º–∏—Ö –ø–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö. –õ—é–±–æ–µ —É–ø–æ–º–∏–Ω–∞–Ω–∏–µ –æ –Ω–∏—Ö –≤ —Å–∞–º–æ–π —á—Ç–æ –Ω–∏ –Ω–∞ –µ—Å—Ç—å –ø—Ä–æ–≤–∏–Ω—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ–π –≥–∞–∑–µ—Ç–µ —Ç—É—Ç –∂–µ –¥–æ—Ö–æ–¥–∏—Ç –¥–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ò –æ–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–æ —Å–ø–∞—Å–∞–µ—Ç –ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç –≥–∏–±–µ–ª–∏. –ò–±–æ, —á—Ç–æ –µ–≥–æ –∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å, –µ—Å–ª–∏ –æ–Ω –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –Ω—É–∂–µ–Ω? –¢–∞–π–Ω–∞ — –æ—Ä—É–∂–∏–µ –ø—Ä–µ—Å—Ç—É–ø–Ω–∏–∫–æ–≤. –ù–∞—à–∞ —Å–∏–ª–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –≥–ª–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏.
–ú–Ω–µ –¥–∞–∂–µ –ø–æ–Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å —Å —Ç–∞–∫–∏–º –ò–ª—å–º–∞–Ω–æ–º. –ö–∞–∫ –º—ã —É–∂–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏, —è –∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞ –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤–∞. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞–ª –≥—Ä—É–ø–ø–µ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã. –ö–∞–∂–¥—ã–π –∏–∑ –Ω–∏—Ö –Ω–∞–¥–µ—è–ª—Å—è –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å —Å–≤–æ—é –¥–æ–ª—é –æ—Ç –µ–≥–æ –ø—Ä–æ–¥–∞–∂–∏. –ò–ª—å–º–∞–Ω — –≤ —Ç–æ–º —á–∏—Å–ª–µ.
–¢–∞–∫ –∂–µ, –ø–æ–¥ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ–º, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª –∏ –≤–µ—Å—å —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å. –í —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥ —è–≤–∏–ª—Å—è –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –∏ –≤—Å—ë –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–æ—Å—å –Ω–∞ –∫—Ä—É–≥–∏ —Å–≤–æ—è.
— –ù—É —á—Ç–æ, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π!? — –∫—Ä–∏—á–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –£–µ—Ö–∞–ª–∞ –Ω–∞ –º–æ—Ä–µ —Ç–≤–æ—è –ø–æ–¥—Ä—É–≥–∞! –ù–µ –Ω—É–∂–µ–Ω —Ç—ã –µ–π!
— –≠—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å! — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤.
— –ê—Ö —Ç—ã —Å–≤–æ–ª–æ—á—å! — –∫—Ä–∏—á–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –ù–µ –≤–µ—Ä–∏—à—å –º–Ω–µ?
–ò –ø–æ–Ω–µ—Å–ª–∞—Å—å –¥—É—à–∞ –≤ —Ä–∞–π…
–ú–µ–Ω—è –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –≤–æ–ª—á—å–∏—Ö —Ç—Ä—É–±–æ–∫, –∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –≤ –ª–µ—Å — –±–µ–≥–æ–º. –ü–∏–ª–∏—Ç—å — –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ, –∫–æ–ª–æ—Ç—å — —Å–∏–ª—å–Ω–µ–µ, –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π — –±–µ–≥–æ–º. –ë–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –æ–∑–≤–µ—Ä–µ–ª–∏.
–ö –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é, –∫–æ–≥–¥–∞ –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π —É—à—ë–ª, –ò–ª—å–º–∞–Ω —É–∫–æ–ª–æ–ª—Å—è –æ–ø–∏–µ–º –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –∫ –Ω–∞–º, —á—Ç–æ–±—ã –∏ –º—ã —É–∫–æ–ª–æ–ª–∏—Å—å. –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –æ–Ω–∏ —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º —Å–∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∏ –∏ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª–∏—Å—å –≤–≤–µ—Å—Ç–∏ –≤ –≤–µ–Ω—É –¥–∏–º–µ–¥—Ä–æ–ª. –ù–µ –∑–Ω–∞—é, —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ª–∏ –∏–º —ç—Ç–æ, –Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —Å—Ç–∞–ª —Ö–æ–¥–∏—Ç—å, –∫–∞–∫ —Å–æ–º–Ω–∞–º–±—É–ª–∞, –æ–Ω–∏ —Å–ª–µ–≥–∫–∞ –∏—Å–ø—É–≥–∞–ª–∏—Å—å. –ù–æ –Ω–µ–Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ.
— –ê –Ω—É, –∑–∞–∫–∞—Ç–∏ —Ä—É–∫–∞–≤! — –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ê–Ω–∑–æ—Ä.
–Ø –ø–æ–≤–∏–Ω–æ–≤–∞–ª—Å—è. –¢–æ—Ç –ø–µ—Ä–µ—Ç—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ —Ä—É–∫—É –∂–≥—É—Ç–æ–º –ø–æ–≤—ã—à–µ –ª–æ–∫—Ç—è –∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–∂–∏–º–∞—Ç—å –∏ —Ä–∞–∑–∂–∏–º–∞—Ç—å –∫—É–ª–∞–∫. –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å–æ —à–ø—Ä–∏—Ü–µ–º –±—ã–ª —É–∂–µ –Ω–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–µ. –ß—Ç–æ –∑–∞ –≥–∞–¥–æ—Å—Ç—å –±—ã–ª–∞ –≤ –Ω—ë–º, —è –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª. –ò —Ç—É—Ç —è –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞—é —Ç–µ—Ä—è—Ç—å —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ. –ò –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è —ç—Ç–æ–º—É. –ü–æ–º–Ω—é, –≤ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–µ –Ω–µ—Ñ—Ç—è–Ω–∏–∫–æ–≤ –º–Ω–µ –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –ø—É–Ω–∫—Ü–∏—é, –∏ –≤—Ä–∞—á —Å –º–µ–¥—Å–µ—Å—Ç—Ä–æ–π —Ç–∞–∫ —Ä—å—è–Ω–æ –ø—Ä–æ–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—é, —á—Ç–æ —Å–æ –º–Ω–æ—é –ø—Ä–æ–∏–∑–æ—à–ª–æ –ø–æ—á—Ç–∏ —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ. –û—Ö, –∫–∞–∫ –æ–Ω–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø—É–≥–∞–ª–∏—Å—å! –¢–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –≤—Ä–∞—á–∞ –¥–∞—Ç—å –º–Ω–µ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫-—Ç–æ –ø–æ—É—á–∞—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å –≤ –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏–∏. –ú–Ω–µ –¥–æ–≤–µ—Ä–∏–ª–∏ –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –±–ª—é–¥—Ü–µ –ø–æ–¥ —Å–≤–æ–∏–º –∂–µ –Ω–æ—Å–æ–º. –ò –≤—Å—ë –ø–æ—à–ª–æ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –∂–µ —è —Å–∞–º –Ω–µ –¥–µ–ª–∞–ª –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏ –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–Ω–æ —Ç–µ—Ä—è–ª —Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–∏–µ. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ—Ç–µ—Ä—è—Ç—å –µ–≥–æ –ø—Ä–µ–∂–¥–µ, —á–µ–º –≤ –≤–µ–Ω—É –ø–æ–ø–∞–¥—ë—Ç –∫–∞–∫–∞—è-–Ω–∏–±—É–¥—å –≥–∞–¥–æ—Å—Ç—å.
–ê–Ω–∑–æ—Ä –ø–µ—Ä–≤—ã–º –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –º–æ—é —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –±–ª–µ–¥–Ω–æ—Å—Ç—å. –û–Ω —Ç—É—Ç –∂–µ —Ä–∞–∑–≤—è–∑–∞–ª –º–Ω–µ –∂–≥—É—Ç –∏ —Å–∏–ª—å–Ω–æ —Å—Ç—É–∫–Ω—É–ª –∫—É–ª–∞–∫–æ–º –≤ —É—Ö–æ.
— –ß–µ–≥–æ –±–æ–∏—à—å—Å—è!? — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω. — –ú—ã –∂–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —à—É—Ç–∏–º!
–ò–ª—å–º–∞–Ω —Ç–æ–∂–µ –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–ª—Å—è —Å–≤–æ–µ–π –∫–ª–µ—à–Ω—ë–π –ø–æ –¥—Ä—É–≥–æ–º—É —É—Ö—É. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –≤—Å—ë –æ–±–æ—à–ª–æ—Å—å. –ò–≥—Ä–∞ —Å —É–∫–æ–ª–∞–º–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª–∞—Å—å –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø–æ—Å–ª–µ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã. –û–Ω–∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –º–µ–Ω—è —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è –≤–Ω–∏–∑ —Å –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏—Ö –Ω–∞—Ä –∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ —à–ø—Ä–∏—Ü. –Ø —Å–∏–ª–∏–ª—Å—è –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏—Ç—å –¥–Ω–µ–≤–Ω—É—é –∏—Å—Ç–æ—Ä–∏—é, –∏ —ç—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å. –£–∫–æ–ª–æ–≤ –≤ –≤–µ–Ω—É —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –∏–∑–±–µ–∂–∞—Ç—å, –Ω–æ –ø–æ–±–æ–µ–≤ — –Ω–µ—Ç. –¢—É—Ç —É–∂ –≤—Å—ë –±—ã–ª–æ –ø–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–µ. –ü—Ä–∏—á—ë–º —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–∑–∞–º—ã—Å–ª–æ–≤–∞—Ç–∞—è –∏ –∂–µ—Å—Ç–æ–∫–∞—è –∏–≥—Ä–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø–æ–¥—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –∑–æ–Ω–µ. –ù–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞—Å—å –æ–Ω–∞ —Å —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –º–Ω–µ:
— –õ–µ–∑—å –Ω–∞ –Ω–∞—Ä—ã!
–¢–æ–ª—å–∫–æ —è –∑–∞–Ω–æ—Å–∏–ª –Ω–æ–≥—É –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—É—é —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫—É –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü—ã, –∫–∞–∫ –ê–Ω–∑–æ—Ä –∫—Ä–∏—á–∞–ª:
— –°—Ç–æ–π! –û—Å—Ç–∞–≤–∞–π—Å—è –≤–Ω–∏–∑—É!
–Ø —É–±–∏—Ä–∞–ª –Ω–æ–≥—É —Å –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω—ã.
— –õ–µ–∑—å –Ω–∞ –Ω–∞—Ä—ã, —è —Å–∫–∞–∑–∞–ª! — –ø—Ä–∏–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
— –û—Å—Ç–∞–≤–∞–π—Å—è –≤–Ω–∏–∑—É! — —Å–æ —Å–º–µ—Ö–æ–º –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä.
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –±–∏–ª–∏ –º–µ–Ω—è –æ–±–∞ –∑–∞ –Ω–µ–≤—ã–ø–æ–ª–Ω–µ–Ω–∏–µ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è.
–î–∞–∂–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–≤—à–∏–π—Å—è –Ω–æ—á–Ω–æ–π –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª –≤ —ç—Ç—É —Å–º–µ–Ω—É –º—ã –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –∫–∞–∫ –∏–∑–±–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ—Ç –º—É–∫. –ò–∑–¥–µ–≤–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å. –í—Å–µ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ä–∞–≤–Ω—ã –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω–æ—Å—Ç—å—é. –°–º–µ—Ä—Ç—å –∏–≥—Ä–∞–ª–∞ —Å –Ω–∞–º–∏ –≤ –∫–æ—Å—Ç–∏. –ò –≥–µ–Ω–∏–π, –ø–∞—Ä–∞–¥–æ–∫—Å–æ–≤ –¥—Ä—É–≥, –∏ —Å–ª—É—á–∞–π — –±–æ–≥-–∏–∑–æ–±—Ä–µ—Ç–∞—Ç–µ–ª—å…
–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å –±—ã–ª–∞ –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞. –ú—ã —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –ø–æ –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞–º –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ –¥–µ–Ω—å –±–µ–∑ –ø–æ–±–æ–µ–≤. –ü—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞ —Å–≤—è—â–µ–Ω–Ω–∞ –¥–ª—è –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω. –í—ã—Ö–æ–¥–Ω–æ–π. –Ý–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å — –≥—Ä–µ—Ö. –≠—Ç–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, —á—Ç–æ –º—ã –Ω–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏. –ï—â—ë –∫–∞–∫ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª–∏, –∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –¥–µ–ª–∞–ª–∏ –≤—Å—ë –Ω–µ–ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ. –ù–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü—É –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å —Ç–æ–≥–æ –∂–µ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞: «–í –¥—Ä—É–≥–æ–π –¥–µ–Ω—å —è —É–±–∏–ª –±—ã —Ç–µ–±—è, –Ω–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞. –¢—ã –ø–æ–Ω—è–ª —ç—Ç–æ?»
–ü–æ –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –±–æ–ª–µ–µ —É—Å–µ—Ä–¥–Ω–æ –º–æ–ª–∏–ª–∏—Å—å –∏ –º—ã–ª–∏ –Ω–æ–≥–∏. –ü–æ –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞–º –æ–Ω–∏ –æ–±–∂–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å –≤ –æ–±–µ–¥, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è –Ω–∞ —Å—Ç–æ–ª–µ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—É –ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ. –° –±–∞—Ä—Å–∫–æ–≥–æ –ø–ª–µ—á–∞ –æ–Ω–∏ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–ª–∏ –Ω–∞–º —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å –æ–±—ä–µ–¥–∫–∏ –¥–ª—è —Å–µ–±—è. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, —Å—ä–µ—Å—Ç—å –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —É—Ç—Ä–æ. –ù–æ –º—ã –±—ã–ª–∏ —Ä–∞–¥—ã –∏ —ç—Ç–æ–º—É. –û–±—ã—á–Ω–æ —Å –∏—Ö —Å—Ç–æ–ª–∞ –Ω–∞–º –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ —Å–æ—É—Å–∞ «–ß–∏–ª–∏». –≠—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –æ—Å—Ç—Ä—ã–π —á–µ—Å–Ω–æ—á–Ω—ã–π —Å–æ—É—Å, –Ω–æ –¥–∞–∂–µ —Å –Ω–∏–º –Ω–µ–Ω–∞–≤–∏—Å—Ç–Ω—ã–µ –º–∞–∫–∞—Ä–æ–Ω—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª–∞, —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –ª–∞–∫–æ–º—Å—Ç–≤–æ–º. –°–æ—É—Å –º—ã –µ–ª–∏ —Å —Ö–ª–µ–±–æ–º –∏ —á–∞–µ–º. –ò–∑–∂–æ–≥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –º—É—á–∏–ª–∞ –º–µ–Ω—è –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å, –¥–∞–≤–Ω–æ –∑–∞–±—ã—Ç–∞. –ú—ã —è–≤–Ω–æ –Ω–µ–¥–æ–µ–¥–∞–ª–∏.
–ò–Ω–æ–≥–¥–∞, –æ—Ç –Ω–µ—á–µ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å, –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∫ –Ω–∞–º, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å. –û–±—ã—á–Ω–æ –æ–Ω–∏ –ø–æ—É—á–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å: –∫–æ–≥–¥–∞, –ø—Ä–µ–º—É–¥—Ä–æ—Å—Ç—è–º –∂–∏–∑–Ω–∏ –≤ –ª–µ—Å—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∂–∏–∑–Ω–∏. –ò –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–≥–æ —è –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –±–æ—è–ª—Å—è. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Å—Ç—Ä–∞—Å—Ç—å –ø–æ–¥–µ–ª–∏—Ç—å—Å—è —Å–≤–æ–∏–º–∏ —É–±–µ–∂–¥–µ–Ω–∏—è–º–∏ –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏—Å—É—â–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –û–Ω–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∞ –∂–∏—Ç—å –±–µ–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ. –¢–∞–∫–∏–µ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –∫–æ–Ω—á–∞–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–∏–º — —Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏–µ–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –Ω–µ –º–æ–≥–ª–∞ –Ω–µ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞—Ç—å –∏–º –º–æ—Ä–∞–ª—å. –ê —É–∂ –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∞ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤—Å—é –≤–ª–∞—Å—Ç—å –Ω–∞–¥–æ –æ—Ç–¥–∞—Ç—å –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞–º — –∂–¥–∏ –≥—Ä–æ–∑—ã.
–ù–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–µ –º–∞—è, –∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞ —Å–º–µ–Ω—É –∑–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –≥—Ä—É–ø–ø–∞ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã, –æ–Ω–∞ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª–∞ –æ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–µ. –û –¥–Ω–µ –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π —Å–æ–ª–∏–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ç—Ä—É–¥—è—â–∏—Ö—Å—è. –î–ª—è –Ω–∞—Å —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º —ç—Ç–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å –ø–ª–∞—á–µ–≤–Ω–æ. –ö—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –ø—Ä–æ —Å—É–±–±–æ—Ç–Ω–∏–∫, –∫—Ç–æ-—Ç–æ –æ –õ–µ–Ω–∏–Ω–µ, –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–∏–≤—à–µ–º –±—Ä–µ–≤–Ω–æ. –ò–¥–∏–æ—Ç—Å–∫–∏–π —Ö–æ–¥ –º—ã—Å–ª–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤—ë–ª –∫ —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ–±—ã —É—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å —Å–æ—Ä–µ–≤–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –ø–æ –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–∫–µ –±—Ä—ë–≤–µ–Ω. –°–æ—Ä–µ–≤–Ω–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã–ª–∏ –º—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º. –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –µ–≥–æ –º–ª–∞–¥—à–∏–π –±—Ä–∞—Ç –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –ø–æ–≤–µ–ª–∏ –Ω–∞—Å –≤ –ª–µ—Å –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏. –û—Ç —Ç–æ–ª—Å—Ç–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç–≤–æ–ª–∞ –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö —á–∞—Å–æ–≤ –æ—Ç–ø–∏–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –¥–≤–∞ –∫—Ä—É–≥–ª—è–∫–∞. –ú—ã –µ—â—ë –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏ –æ —Å–æ—Ä–µ–≤–Ω–æ–≤–∞–Ω–∏–∏ –∏ —É–¥–∏–≤–ª—è–ª–∏—Å—å, –∫–∞–∫ –∂–µ –ø–æ–Ω–µ—Å—ë–º –∏—Ö –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å.
— –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –æ—Ç–ø–∏–ª–∏–ª–∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≤—Ç–æ—Ä–æ–π –∫—Ä—É–≥–ª—è–∫, — –±–µ—Ä–∏ –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ—Ç.
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –≤—Å—Ç–∞–ª, –∫–∞–∫ –∫–æ–ª –ø—Ä–æ–≥–ª–æ—Ç–∏–ª. –≠—Ç–æ—Ç –∫—Ä—É–≥–ª—è–∫ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∏ –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å, –Ω–∏ –Ω–µ—Å—Ç–∏.
— –¢–∞–∫ –Ω–µ—á–µ—Å—Ç–Ω–æ, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫, — —Ç–æ—Ç –∫—Ä—É–≥–ª—è–∫ –º–µ–Ω—å—à–µ.
— –ù–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –ì—Ä—É–∑–∏ —Å–≤–æ–µ–≥–æ.
–Ø –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å –±—Ä–µ–≤–Ω–æ, –Ω–æ —Ç—â–µ—Ç–Ω–æ.
— –ü–æ–º–æ–≥–∏—Ç–µ –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥—É, –∫–æ–∑–ª—ã! — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –ø–æ–¥–¥–∞–ª –º–Ω–µ –ø–∏–Ω–∫–∞.
–Ø —Å—Ç–∞–ª –ø–æ–º–æ–≥–∞—Ç—å –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É. –° –±–æ–ª—å—à–∏–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤–∑–≤–∞–ª–∏—Ç—å –ø–µ–Ω—ë–∫ –µ–º—É –Ω–∞ –∑–∞–∫–æ—Ä–∫–∏. –û–Ω –≤–µ—Å—å —Å–∫—É–∫–æ–∂–∏–ª—Å—è –∏ —Ç—Ä–µ–ø–µ—Ç–∞–ª –ø–æ–¥ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ–º. –°–≤–æ—ë –±—Ä–µ–≤–Ω–æ —è —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø–æ–¥–Ω—è–ª –Ω–∞ –ª–µ–∂–∞—â–∏–π —Ä—è–¥–æ–º —Å—Ç–≤–æ–ª, –æ—Ç –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –º—ã –ø–∏–ª–∏–ª–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–¥–ª–µ–∑ –ø–æ–¥ –∫—Ä—É–≥–ª—è–∫ –∏ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –≤—Å—Ç–∞–ª —Å –Ω–∏–º. –ü–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è —è –Ω–µ –º–æ–≥, –≤–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, —Ç–∞–∫ –º–Ω–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å. –û–±–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–∞ –∏ —É –º–µ–Ω—è, –∏ —É –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ, –±—ã–ª–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–µ –∏ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏–µ. –û —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –≤–∑—è—Ç—å –∏—Ö –Ω–∞–ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Å, —Ä–µ—á–∏ –Ω–µ —à–ª–æ. –ë–∞–ª–∞–Ω—Å–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å –Ω–∏–º–∏ –º–æ–∂–Ω–æ, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞—è –±—Ä–µ–≤–Ω–æ —Ä—É–∫–∞–º–∏.
— –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤–ø–µ—Ä—ë–¥! — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
–ú—ã –ø–æ—à–ª–∏, –Ω–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –Ω–µ —É—Ä–æ–Ω–∏—Ç—å! –°–µ—Ä–¥—Ü–µ –≤—ã–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞–ª–æ –∏–∑ –≥—Ä—É–¥–∏. –ù–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ –≤–æ–∑–¥—É—Ö–∞. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø–æ—à–ª–∞ —á—É—Ç—å –≤ –≥–æ—Ä–∫—É, –∏ —è –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —É–∂–µ –Ω–µ –≤–∑–æ–π–¥—É –Ω–∞ –Ω–µ—ë. –í–æ–∫—Ä—É–≥ –±–µ—Å–Ω–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫–æ–º. –Ø —É–∂–µ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –≥–æ–Ω–∫–∞, –Ω–æ –±–æ—è–ª—Å—è –Ω–µ –ø–æ—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è, –∞ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å —É–º—Ä—É –æ—Ç –Ω–∞—Ç—É–≥–∏. –°–∏–ª —É–∂–µ –Ω–µ—Ç, –∞ –¥–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—è –Ω–µ –º–µ–Ω—å—à–µ —Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ò –∫–∞–∫–∏—Ö –º–µ—Ç—Ä–æ–≤! –ß–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫—É –ª–µ–∂–∞–ª–æ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ. –Ø —É–∂–µ –≤–∏–¥–µ–ª –µ–≥–æ –∏ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –∫–∞–∫ —Å —Ç–∞–∫–æ–π –Ω–æ—à–µ–π –ø–µ—Ä–µ–π–¥—É —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–≥–æ. –Ý–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–Ω–∏–º—É –∫—Ä—É–≥–ª—è–∫ —Å –ø–ª–µ—á –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ, –∞ –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤–æ–∑—å–º—É –Ω–∞ –∑–∞–∫–æ—Ä–∫–∏. –ù–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç–∞–ª –ø—Ä–∏–º–µ—Ä—è—Ç—å—Å—è, –∫–∞–∫ –µ–≥–æ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å, –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –∑–∞–æ—Ä–∞–ª:
— –ù–µ —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å –±—Ä–µ–≤–Ω–æ! –ò–¥—Ç–∏ —Ç–∞–∫!
–° –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–º —Ç—Ä—É–¥–æ–º —è –ø–µ—Ä–µ—à–∞–≥–∏–≤–∞–ª —á–µ—Ä–µ–∑ –ª–µ–∂–∞—â–µ–µ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –ø–æ–¥–±–µ–≥–∞–ª –ø–æ–¥ —Å–≤–æ–π –∫—Ä—É–≥–ª—è–∫, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –æ–Ω –Ω–æ—Ä–æ–≤–∏–ª —É–ø–∞—Å—Ç—å –≤–ø–µ—Ä—ë–¥. –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –±–µ–∂–∞–ª —Å–∑–∞–¥–∏ –∏ –æ—Ä–∞–ª –Ω–∞ –≤–µ—Å—å –ª–µ—Å:
— –ú–æ–ª–æ–¥–µ—Ü! –ù–∞—à–∞ –≤–∑—è–ª–∞!
–í –ª–∞–≥–µ—Ä—å –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –≤–æ–≥–Ω–∞–ª –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥ —É–ª—é–ª—é–∫–∞–Ω—å–µ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤. –Ø –±—Ä–æ—Å–∏–ª –±—Ä–µ–≤–Ω–æ –∫ –º–µ—Å—Ç—É —Ä–∞—Å–ø–∏–ª–∫–∏ –∏ —É–ø–∞–ª —Å–∞–º. –ù–µ –º–æ–≥ –æ—Ç–¥—ã—à–∞—Ç—å—Å—è. –ù–æ –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ:
— –ò–¥–∏, –ø–æ–º–æ–≥–ª–∏ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É!
–Ø –ø–æ—à—ë–ª –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å –ø–æ–¥—ä—ë–º–∞ –∏ —É–ø–∞–ª –ø–æ–¥ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ. –ü—Ä—è–º–æ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –µ–≥–æ –∏–∑–±–∏–≤–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. –ò–ª—å–º–∞–Ω –±—ã–ª —Å—Ç—Ä–∞—à–µ–Ω. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –∏–∑–≤–∏–≤–∞–ª—Å—è –∏ –∫—Ä—è—Ö—Ç–µ–ª. –ò–ª—å–º–∞–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –∫—Ä–∏—á–∞–ª –∏ –∏–∑–±–∏–≤–∞–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏, –∏ –Ω–æ–≥–∞–º–∏, –∑–∞–≥–Ω–∞–ª –≤ –∫–æ—Ä–Ω–∏ –ª–µ–∂–∞—â–µ–≥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –≤ –Ω–∏—Ö –∑–∞–ø—É—Ç–∞–ª—Å—è, –∞ –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ —Ç–∞–º –µ–≥–æ –±–∏–ª. –ü–æ—Ç–æ–º –æ–Ω —É–≤–∏–¥–µ–ª –º–µ–Ω—è –∏ —Ç–æ–∂–µ —Å—Ç–∞–ª –∏–∑–±–∏–≤–∞—Ç—å. –õ–∏—Ü–æ –µ–≥–æ –±—ã–ª–æ –ø–µ—Ä–µ–∫–æ—à–µ–Ω–æ. –í –ø—É—Å—Ç—ã—Ö –±–µ–ª–µ—Å—ã—Ö –≥–ª–∞–∑–∞—Ö — –±–µ—à–µ–Ω—Å—Ç–≤–æ. –û–Ω –±—ã–ª —Å—Ç—Ä–∞—à–µ–Ω. –ö–æ–≥–¥–∞ —è —É–ø–∞–ª –∑–∞ –æ–¥–Ω–æ –∏–∑ –±—Ä—ë–≤–µ–Ω –∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –ª–µ–≥–∫–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å —É–¥–∞—Ä–∞–º–∏, –æ–Ω —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–±—Ä–æ—Å–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ. –Ø –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª –∏ —É–∂–µ –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é, –∫–∞–∫ –≤–∑–≤–∞–ª–∏–ª –±—Ä–µ–≤–Ω–æ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ —Å–µ–±–µ –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–æ –∏ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –∫ –ª–∞–≥–µ—Ä—é.
–í–æ—Ç —Ç–∞–∫ –º—ã –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏ –¥–µ–Ω—å –º–µ–∂–¥—É–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–π —Å–æ–ª–∏–¥–∞—Ä–Ω–æ—Å—Ç–∏ —Ç—Ä—É–¥—è—â–∏—Ö—Å—è.
–ö–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, —Ç–∞–∫–∏–µ –≤–µ—â–∏, –µ—Å–ª–∏ —É–∂ –æ–Ω–∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∏—Å—å —Å —É—Ç—Ä–∞, –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏—Å—å —Ü–µ–ª—ã–π –¥–µ–Ω—å. –ü–æ—Å–ª–µ –ø–∏–ª–∫–∏ –¥—Ä–æ–≤ –ê–Ω–∑–æ—Ä –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –Ω–∞—Å –∫–∞—á–∞—Ç—å –ø—Ä–µ—Å—Å. –Ø –¥–æ–∫–∞—á–∞–ª—Å—è –¥–æ –¥—Ä–æ–∂–∏ –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö. –¢—É—Ç –æ–Ω –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ —è –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞—é —Ç—Ä—É–±–∫—É —Å –º–æ—Ä–¥–æ–π –≤–æ–ª–∫–∞ –∏ –ø–æ–≥–Ω–∞–ª –º–µ–Ω—è –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—á–µ–µ –º–µ—Å—Ç–æ. –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –º—É—á–∏—Ç—å –Ω–∞ —Å–ø–æ—Ä—Ç–ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ.
–ü–æ –æ–ø—ã—Ç—É —è —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø–æ–±–∏–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ, —Ç–æ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –¥–æ–±–µ—Ä—ë—Ç—Å—è –∏ –¥–æ –º–µ–Ω—è. –¢–æ, —á—Ç–æ –º–Ω–µ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —É–∂–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å, –≤ —Å—á—ë—Ç –Ω–µ —à–ª–æ. –≠—Ç–æ –±—ã–ª–∏ —Ü–≤–µ—Ç–æ—á–∫–∏ –ø–æ —Å—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–∏—é —Å —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É. –£ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª–æ —Ä–∞–∑–æ—Ä–≤–∞–Ω–æ —É—Ö–æ, —Ä–∞–∑–±–∏—Ç –Ω–æ—Å, —Å–ª–æ–º–∞–Ω –º–∏–∑–∏–Ω–µ—Ü, —Å–∏–Ω—è–∫–∏ –ø–æ–¥ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏. –ù–∞ –≥–æ–ª–æ–≤–µ — –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å—Å–∞–¥–∏–Ω—ã. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø—ã—Ç–∞–ª–∞—Å—å –∏—Ö –ø—Ä–æ–º—ã—Ç—å –∏ —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫-—Ç–æ –æ–±—Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å. –ò–ª—å–º–∞–Ω, –æ—á—É—Ö–∞–≤—à–∏—Å—å –æ—Ç –±–µ—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞, –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –∑–µ–ª—ë–Ω–∫—É –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –∏ –æ—á–µ–Ω—å –∑–ª–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª.
— –¢—ã –∫–æ–º—É –¥–µ–ª–∞–µ—à—å —Ç—Ä—É–±–∫—É? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –ê–Ω–∑–æ—Ä—É, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ù–µ –≤—Ä—ë—à—å? — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω. — –ú–æ–∂–µ—Ç, —Ç—ã –∫–æ–º—É –∏–∑ —Ç–æ–π —Å–º–µ–Ω—ã –¥–µ–ª–∞–µ—à—å?
— –ù–µ—Ç, –ê–Ω–∑–æ—Ä—É, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
–ò–ª—å–º–∞–Ω –ø–ª—é–Ω—É–ª –∏ –æ—Ç–æ—à—ë–ª. –ù–∏ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã, –Ω–∏ –õ–µ—á–∏ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –Ø –æ–∂–∏–¥–∞–ª —Ö—É–¥—à–µ–≥–æ. –ò –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –æ–∂–∏–¥–∞–ª.
–ü–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –±—ã–ª –ª–∏—à—ë–Ω, –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º –≤–æ–∑–∏–ª–∏—Å—å —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º –∏ –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Å. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω, — –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ.
— –ó–∞ —á—Ç–æ –µ–≥–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è, –ø–æ–Ω–∏–º–∞—è, —á—Ç–æ –≤–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –∏ –Ω–∞—á–Ω—ë—Ç—Å—è –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ.
— –ó–∞ —Ç–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä, — —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–æ–º—É –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –æ–Ω –Ω–µ –Ω—É–∂–µ–Ω. –ó–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –∏ –∑–¥–µ—Å—å –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ —Ç–æ–ª–∫—É –Ω–µ—Ç.
–Ø –º–æ–ª—á–∞–ª –∏ –∂–¥–∞–ª, —á—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –¥–∞–ª—å—à–µ.
— –ó–∞–±–∏—Ä–∞–π –∏—Ö –∏ –ø–æ—à–ª–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –ê–Ω–∑–æ—Ä—É.
— –ò–¥–∏ —Ç—É–¥–∞, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –ê–Ω–∑–æ—Ä –∏ —Å—Ç–∞–ª —Å–Ω–∏–º–∞—Ç—å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ —Å –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ. –ú—ã –ø–æ—à–ª–∏ –∑–∞ –ò–ª—å–º–∞–Ω–æ–º. –û—Ç–æ—à–ª–∏ –æ—Ç –ª–∞–≥–µ—Ä—è –≤—Å–µ–≥–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å, –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –ê–Ω–∑–æ—Ä –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞, –∞ –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø–æ–¥–æ–∑–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è –∫ —Å–µ–±–µ.
— –° –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º –æ–±—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è —É–º–µ–µ—à—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –£–º–µ—é, —Å–ª—É–∂–∏–ª, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ù–∞, — –æ–Ω –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç. — –¢–µ–±–µ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ.
–Ø –Ω–µ –¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è.
— –ï—Å–ª–∏ –Ω–µ –±—É–¥–µ—à—å —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä, — —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞—é —è —Å–∞–º, –Ω–æ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º –±—É–¥–µ—à—å —Ç—ã.
— –¢—ã –ø–æ–π–º–∏, — –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω, — —Ç–∞–∫ –Ω–∞–¥–æ! –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ —Ç—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, —á—Ç–æ –º—ã –¥–∞–∂–µ –∑–∞ –≤—ã–∫—É–ø –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–º —Ç–µ–±—è –æ—Ç—Å—é–¥–∞? –î–∞ —Ç—ã –∂–µ –≤—Å–µ—Ö –∑–∞–ª–æ–∂–∏—à—å! –ù–µ—Ç! –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫ —ç—Ç–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–π–¥—ë—Ç!
— –¢—ã –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å –ø–æ–≤—è–∑–∞–Ω, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä! — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä –µ–≥–æ –º—ã—Å–ª—å. — –ï—Å–ª–∏ —Ç—ã –Ω–∞—Å –∑–∞–ª–æ–∂–∏—à—å, –Ω–∞–º —Ç–æ–∂–µ –±—É–¥–µ—Ç, —á—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –¢–µ–±—è –≤–µ–¥—å –Ω–µ –ø–æ–≥–ª–∞–¥—è—Ç –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ —Ç—ã —É–±–∏–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ. –ê –ø–æ–∫–∞ –±—É–¥–µ—à—å –º–æ–ª—á–∞—Ç—å, –∏ –º—ã —Ç–µ–±—è –Ω–µ —Å–¥–∞–¥–∏–º.
— –¢—ã –Ω–µ –¥—É–º–∞–π, — —ç—Ç–æ —É–∂–µ –ò–ª—å–º–∞–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, — —á–µ—Ä–µ–∑ —ç—Ç–æ –≤—Å–µ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥—è—Ç, –∫—Ç–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è –¥–æ–º–æ–π –∏–∑ –ø–ª–µ–Ω–∞.
–≠—Ç–∏ —Å–ª–æ–≤–∞ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —á—É–¥–æ–≤–∏—â–Ω–æ–µ –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ. –õ–æ–≥–∏–∫–∞ –∏ –º–æ—Ç–∏–≤–∏—Ä–æ–≤–∫–∞ –±—ã–ª–∏ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–µ. –ß—Ç–æ –∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è? –û—Ç—Å—é–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω –ø—É—Ç—å? –ó–µ–º–ª—è —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∏–∑-–ø–æ–¥ –Ω–æ–≥. –Ø –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –≤—Å—ë —ç—Ç–æ –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, —Ç–æ —è –Ω–µ –∂–∏–ª–µ—Ü. –Ø –Ω–µ —Å–º–æ–≥—É –Ω–∏ —É–±–∏—Ç—å –≤–æ—Ç —Ç–∞–∫ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞, –Ω–∏ –∂–∏—Ç—å –ø–æ—Ç–æ–º —Å —ç—Ç–∏–º –≥—Ä—É–∑–æ–º.
— –ú—ã –≤—ã–±—Ä–∞–ª–∏ —Ç–µ–±—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —Ç–µ–±–µ —É–∂–µ —Å–∫–æ—Ä–æ –¥–æ–º–æ–π, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ç–æ–∂–µ —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è–µ—Ç –∫–∞–∫–æ–≥–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞, –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—Ç–æ–º –µ—ë –æ—Ç–ø—É—Å—Ç—è—Ç –¥–æ–º–æ–π.
— –¢—ã –ø–æ–π–º–∏, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä, — –º—ã –Ω–µ –∏–∑–≤–µ—Ä–≥–∏. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –∏ –Ω–µ –Ω–∞–º –º–µ–Ω—è—Ç—å –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∞. –ù–∞, –¥–µ—Ä–∂–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç.
–Ø —Ç–∞–∫ –∏ —Å—Ç–æ—è–ª, –Ω–µ —à–µ–ª–æ—Ö–Ω—É–≤—à–∏—Å—å. –ò –æ–∂–∏–¥–∞–ª, —á—Ç–æ –≤–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –º–µ–Ω—è –Ω–∞—á–Ω—É—Ç –±–∏—Ç—å. –ù–æ, –Ω–µ—Ç.
— –ß—Ç–æ –∂–µ, — —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω, — –∞ –≤–æ—Ç –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ –æ—Ç–∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è —Ç–µ–±—è —Ä–∞—Å—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å. –¢—ã –≤—Å—ë —Å–ª—ã—à–∞–ª, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π?
–¢–æ—Ç –∫–∏–≤–Ω—É–ª.
–ò–ª—å–º–∞–Ω –æ—Ç–ª–æ–∂–∏–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –Ω–∞ –æ–±–æ—á–∏–Ω—É. –ü–æ—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ –º–µ–Ω—è –∏ —É–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –ª–∏—Ü–æ–º –≤–Ω–∏–∑ –≤ –∫–æ–ª–µ—é –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –Ý—É–∫–∏ –∑–∞ —Å–ø–∏–Ω–æ–π –∑–∞—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏.
— –¢–∞–∫ —Ç–µ–±—è –ª–µ–≥—á–µ –±—É–¥–µ—Ç —Ç–∞—â–∏—Ç—å –º—ë—Ä—Ç–≤–µ–Ω—å–∫–æ–≥–æ, — –ø—Ä–æ–∫–æ–º–º–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, –∏–¥–∏ —Å—é–¥–∞!
–Ø –∫—Ä–∞–µ–º –≥–ª–∞–∑–∞ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª, –∫–∞–∫ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω –Ω–∞—á–∞–ª –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å –µ–º—É, –Ω–µ —Å–ª—É–∂–∏–≤—à–µ–º—É, –∫–∞–∫ —Ü–µ–ª–∏—Ç—å—Å—è –∏ –∫—É–¥–∞ –Ω–∞–∂–∏–º–∞—Ç—å.
–ü–æ—á–µ–º—É-—Ç–æ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–º–µ—Ä—Ç—å—é –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã –ø—Ä–æ–º–µ–ª—å–∫–Ω—É—Ç—å –≤ –º—ã—Å–ª—è—Ö –≤—Å—è –ø—Ä–æ–∂–∏—Ç–∞—è –∂–∏–∑–Ω—å. –ù–∏—á–µ–≥–æ —Ç–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –º–µ–ª—å–∫–∞–ª–æ. –Ø –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –µ—â—ë –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö –≤—Å—é —Å–≤–æ—é –∂–∏–∑–Ω—å —Ä–∞–∑–ª–æ–∂–∏–ª –ø–æ –ø–æ–ª–æ—á–∫–∞–º. –ò –¥–∞–∂–µ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –¥–æ–≤–æ–ª–µ–Ω. –û—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞–ª–æ —á—É—Ç—å –ª–µ–≥—á–µ.
— –¶–µ–ª—å—Å—è –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É, — –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –í –≥–æ–ª–æ–≤—É —Ü–µ–ª—å—Å—è!
–ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π —è –∑–∞–∂–º—É—Ä–∏–ª—Å—è. –ó–∞—á–µ–º? –ù–µ –∑–Ω–∞—é. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, –∏—Å–ø—É–≥–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–µ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –º–æ–≥—É—Ç –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏—Ç—å –≥–ª–∞–∑–∞. –ê –º–Ω–µ –Ω–µ –≤—Å—ë –ª–∏ –±—É–¥–µ—Ç —Ä–∞–≤–Ω–æ?
–ü—Ä–æ–≥—Ä–µ–º–µ–ª –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª. –û–±–æ–∂–≥–ª–æ –≥–æ–ª–æ–≤—É –∏ –ø–ª–µ—á–∏. –Ø –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∑–∏—Ç—å –∫—É–¥–∞ –ø–æ–ø–∞–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –ù–æ —Ç—É—Ç –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥–Ω—è–ª–∏ –∏ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —Å —É–∂–∞—Å–æ–º –≤ –≥–ª–∞–∑–∞—Ö –ø–æ–ø—è—Ç–∏–ª—Å—è –æ—Ç –º–µ–Ω—è. –Ø –µ—â—ë –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª, –Ω–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º —Ö–æ—Ö–æ—á—É—Ç. –ï–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω –≤ —Å—Ç–≤–æ–ª–µ –±—ã–ª —Ö–æ–ª–æ—Å—Ç—ã–º. –Ø –∑–∞—Å–º–µ—è–ª—Å—è –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º–∏. –û–Ω–∏ —Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–≤–æ–µ–π –Ω–µ–≤–∏–Ω–Ω–æ–π —à–∞–ª–æ—Å—Ç–∏, –∞ —è —Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ –µ—â—ë –ø–æ–º—É—á–∞—é—Å—å –∏ —Å–±–µ–≥—É, –µ—Å–ª–∏ –±–æ–≥ –¥–∞—Å—Ç —Ç–∞–∫–æ–π —Å–ª—É—á–∞–π.
–Ø –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–æ–¥–∏–ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω—É—é –º–æ—Ä–¥—É –∑–ª–æ–±–Ω–æ–≥–æ –≤–æ–ª–∫–∞ –∏ —Ä–∞–∑–º—ã—à–ª—è–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–º–µ—Ä—Ç—å—é. –í–µ–¥—å —ç—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–∏—Ç—Ä—ã–π, –ø—Ä—è–º–æ–π –∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —Ö–æ–¥ — –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —É–±–∏—Ç—å —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∂–µ. –≠—Ç–æ –ø–æ–¥–≤–µ—Å–∏—Ç –µ–≥–æ –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–π –∫—Ä—é—á–æ–∫, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –Ω–µ —Å–æ—Ä–≤—ë—à—å—Å—è. –¢–∞–∫–æ–µ –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –≤ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ê –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ — –Ω–µ—Å–±—ã—Ç–æ—á–Ω–∞—è –º–µ—á—Ç–∞. –ù–∞ —Ç–∞–∫–∏—Ö —É—Å–ª–æ–≤–∏—è—Ö –Ω–∏ —Å–≤–æ–±–æ–¥–∞, –Ω–∏ –∂–∏–∑–Ω—å –º–Ω–µ –Ω–µ –Ω—É–∂–Ω—ã. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –æ–∫–æ–Ω—á–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω—ã–π —Å–ø–æ—Å–æ–± –æ–±—Ä–µ—Å—Ç–∏ —Å–≤–æ–±–æ–¥—É — —ç—Ç–æ –ø–æ–±–µ–≥. –ü—Ä–∏—á—ë–º, –ø–æ–±–µ–≥ –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è. –ù–µ–ª—å–∑—è –¥–æ–≤–æ–¥–∏—Ç—å —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é –¥–æ —Ç–æ–π, —á—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–∞—Å—å —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ø–æ–Ω–∞—Ä–æ—à–∫—É. –û–Ω–∞ –º–æ–∂–µ—Ç —Å—Ç–∞—Ç—å —Ä–µ–∞–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∏ —Ç–æ–≥–¥–∞ — —Å–º–µ—Ä—Ç—å. –°–∞–º–æ–µ –æ–±–∏–¥–Ω–æ–µ, —ç—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç –º–æ–π –ª–∏—á–Ω—ã–π, –æ—Å–æ–∑–Ω–∞–Ω–Ω—ã–π –≤—ã–±–æ—Ä. –í—ã–±–æ—Ä, –ø—Ä–∏—Ä–∞–≤–Ω–µ–Ω–Ω—ã–π –∫ —Å–∞–º–æ—É–±–∏–π—Å—Ç–≤—É, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å. –ù–∞–¥–æ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è. –ù–∞–¥–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å!
–ê –Ω–µ–≥–æ–¥—è–∏ –ø—Ä–∏–¥—É–º—ã–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞–º –Ω–æ–≤—ã–µ –º—É—á–µ–Ω–∏—è. –í —Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å –ò–ª—å–º–∞–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª, –∏ —Ñ–∞–Ω—Ç–∞–∑–∏—è –µ–≥–æ —Ä–∞–∑—ã–≥—Ä–∞–ª–∞—Å—å. –û–Ω —Ä–µ—à–∏–ª –Ω–∞–ø–æ–∏—Ç—å –Ω–∞—Å —Å–ø–∏—Ä—Ç–æ–º. –ü–æ —Å—Ç–∞–∫–∞–Ω—É –∫–∞–∂–¥–æ–º—É. –¢–æ–ª—å–∫–æ –º–æ–∏ –ø—Ä–æ—Ç–µ—Å—Ç—ã –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–º—è–≥—á–∏–ª–∏ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é. –Ø —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –æ—Ç —Å—Ç–∞–∫–∞–Ω–∞ —Å–ø–∏—Ä—Ç–∞ –º–æ–∂–Ω–æ —É–º–µ—Ä–µ—Ç—å. –ü—Ä–∏ –Ω–∞—à–µ–º —Ç–æ–≥–¥–∞ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ —è –±—ã–ª –Ω–µ –¥–∞–ª–µ–∫ –æ—Ç –∏—Å—Ç–∏–Ω—ã. –°–ø–∏—Ä—Ç —Ä–∞–∑–≤–µ–ª–∏ –ø–æ–ø–æ–ª–∞–º —Å –≤–æ–¥–æ–π. –ë–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–º —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Å, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ —Å—Ç–∞–∫–∞–Ω –ª–∞–¥–æ—à–∫–æ–π –ø–æ—Å–ª–µ –¥–æ–±–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –≤ —Å–ø–∏—Ä—Ç –≤–æ–¥—ã. –ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞—á–µ–º. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –ø–æ–π–ª–æ —Å—Ç–∞–ª–æ —Ç—ë–ø–ª—ã–º. –Ø –≤—ã–ø–∏–ª –ø–µ—Ä–≤—ã–º –∏ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª—Å—è —Å–Ω–æ–≤–∞ –º–∞—Å—Ç–µ—Ä–∏—Ç—å —Ç—Ä—É–±–∫—É. –í –∂–µ–ª—É–¥–∫–µ –ø—Ä–æ–∂–≥–ª–æ. –£–¥–∞—Ä–∏–ª–æ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É. –ù–æ –∂–∏—Ç—å –º–æ–∂–Ω–æ. –Ø —É–∂–µ –Ω–∞—á–∞–ª –¥–æ–≥–∞–¥—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ –¥–∞–ª–µ–µ –ø—Ä–æ–∏–∑–æ–π–¥–µ—Ç. –ò –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –ø–æ—á–µ–º—É –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –æ—á–µ–Ω—å –æ–±—Ä–∞—â–∞—é—Ç –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ. –£–∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–∑ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∏–∑ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ —è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∏–∑–Ω–∞—Å–∏–ª–æ–≤–∞—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –ö–æ–≥–¥–∞ —É–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Å—Ç–∏ –≤—Å–µ –≤ —à—É—Ç–∫—É, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª –ø–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–µ, –Ω–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —è –∏–º–ø–æ—Ç–µ–Ω—Ç. –Ø –∏ –Ω–µ –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–¥–µ—Ç –≤–ø–µ—á–∞—Ç–ª–µ–Ω–∏–µ. –ü—Ä–æ–∏–∑–≤–µ–ª–æ. –°–ª—É—Ö —Ä–∞–∑–Ω–µ—Å –•–æ–¥–∂–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ—Ö –±—ã–ª —Å–µ–∫—Å—É–∞–ª—å–Ω–æ –æ–∑–∞–±–æ—á–µ–Ω. –ö–æ –º–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª–∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å —Å —ç—Ç–∏–º, –Ω–æ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –æ—Ç–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏ –≤ –º–æ–π –∞–¥—Ä–µ—Å —Å–∞–ª—å–Ω—ã–µ —à—É—Ç–æ—á–∫–∏. –í–æ—Ç –∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –æ—Ç –º–µ–Ω—è –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∂–¥—É—Ç, –ø–æ–Ω—è–ª —Å–µ–∫—Å—É–∞–ª—å–Ω—É—é –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å —Å–ø–∏—Ä—Ç–æ–≤–æ–≥–æ —ç–∫—Å–ø–µ—Ä–∏–º–µ–Ω—Ç–∞.
–° —Ç—Ä—É–¥–æ–º, –≤ –¥–≤–∞ –ø—Ä–∏–µ–º–∞, –≤—ã–ø–∏–ª–∞ —Å–≤–æ—é –¥–æ–∑—É –°–≤–µ—Ç–∞. –í –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –≤–ª–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–ø–∏—Ä—Ç –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ —Å–∏–ª–æ–π. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Å –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–æ–º —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –Ω–∞—Å.
— –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, — —Å –µ—Ö–∏–¥—Å—Ç–≤–æ–º –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä, — —Å–º–æ—Ç—Ä–∏, –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç–æ–±–æ–π –ø—å—è–Ω–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞! –î–∞–≤–∞–π! –î–µ–π—Å—Ç–≤—É–π!
–ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á —Å–∏–¥–µ–ª –∏ –¥–∞–≤–∏–ª—Å—è —Å–ª—é–Ω–æ–π. –°–ø–∏—Ä—Ç —Å —Ç—Ä—É–¥–æ–º –ø—Ä–∏–∂–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤ –∏–∑–º—É—á–µ–Ω–Ω–æ–º –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–º–µ.
— –¢—ã —á–µ–≥–æ —Å–∏–¥–∏—à—å, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π? — –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –ê –Ω—É –ø–æ—à–ª–∏ —Å–æ –º–Ω–æ–π –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂! –ò —Ç—ã, —Å—É—á–∫–∞, —Ç–æ–∂–µ –ø–æ—à–ª–∏!
–ò–ª—å–º–∞–Ω –∑–∞—Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª –æ–±–æ–∏—Ö –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –∏ –ø–æ–ª–µ–∑ —Ç—É–¥–∞ —Å–∞–º. –ê–Ω–∑–æ—Ä —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç–Ω–æ –ø–æ—Ç–∏—Ä–∞–ª —Ä—É–∫–∏ –∏ —Ö–æ–¥–∏–ª –ø–µ—Ä–µ–¥ –≤—Ö–æ–¥–æ–º.
–ß—Ç–æ —Ç–∞–º –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –≤ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–µ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ —è –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, –Ω–æ —Ç—É—Ç –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –∏ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞. –û–Ω–∏ –∏ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏ —ç—Ç–æ—Ç –≥–Ω—É—Å–Ω—ã–π —Ç–µ–∞—Ç—Ä. –°–≤–µ—Ç–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –≤—Å—è –≤ —Å–ª–µ–∑–∞—Ö. –ê –±—ã–ª–æ –≤–æ—Ç —á—Ç–æ. –í –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –∏–∑–Ω–∞—Å–∏–ª–æ–≤–∞—Ç—å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É. –ß—Ç–æ–±—ã —É—Å–∫–æ—Ä–∏—Ç—å –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å, –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∏—Ö —Ä–∞–∑–¥–µ—Ç—å—Å—è –¥–æ–≥–æ–ª–∞, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º —Ç–æ–ª–∫–∞–ª –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É. –ù—É –∏ –∏–∑–±–∏–≤–∞–ª, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
— –û–Ω –∏ –≤–ø—Ä–∞–≤–¥—É –ø–æ–ª–µ–∑ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è, — —Å–∫–≤–æ–∑—å —Å–ª–µ–∑—ã —à–µ–ø—Ç–∞–ª–∞ –º–Ω–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –°–≤–æ–ª–æ—á—å –ø–æ–∑–æ—Ä–Ω–∞—è! –°–ø–∞—Å–∏–±–æ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω—É, –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è –ø—Ä–∏—à–µ–ª.
–Ø –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –∂–¥–∞–ª–∏ –æ—Ç –Ω–∞—Å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã. –û–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø—å—è–Ω—ã–µ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –∫ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–µ, –∞ –ø—å—è–Ω–∞—è –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞ –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–¥–∞—Å—Ç—Å—è –ø–µ—Ä–≤–æ–º—É –≤—Å—Ç—Ä–µ—á–Ω–æ–º—É. –ü–æ–∑–∂–µ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏—Ç –º–æ–∏ –¥–æ–º—ã—Å–ª—ã.
–ú–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, —Å—Ç–∞–∫–∞–Ω –ø–æ–π–ª–∞ –¥–∞–≤–∞–ª –æ —Å–µ–±–µ –∑–Ω–∞—Ç—å. –ß—Ç–æ–±—ã —É–≤–µ—Å—Ç–∏ –æ—Ç –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞, –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –≤–µ–ª–µ–ª –Ω–∞–º –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –ú—ã —à–ª–∏, –ø–æ–∫–∞—á–∏–≤–∞—è—Å—å. –ù–µ –∑–Ω–∞—é, –∫–∞–∫ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, –∞ –º–Ω–µ –Ω–µ—Å—Ç–µ—Ä–ø–∏–º–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å —Å–ø–∞—Ç—å.
–ë–∏—Å–ª–∞–Ω —Å–∞–º –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–∏–ª –±–∏–¥–æ–Ω –≤–æ–¥–æ–π. –î–∞–ª –Ω–∞–º –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ—Å–∏–¥–µ—Ç—å. –°–≤–µ—Ç–µ —Ç–æ–∂–µ –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω–∏–ª –≤–µ–¥—Ä–∞, –Ω–æ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é –Ω–µ –æ–±—Å—É–∂–¥–∞–ª–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å, —è –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞, —á—Ç–æ–±—ã –º–Ω–µ –¥–∞–ª–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ—Å–ø–∞—Ç—å. –í –ø–µ—Ä–≤—ã–π –∏ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π —Ä–∞–∑ —è –ø–æ—Å–ø–∞–ª –¥–Ω–µ–º. –¶–µ–ª—ã–π —á–∞—Å, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –∏ –º–µ–Ω—è –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –Ω–∞ —Ä–∞—Å–ø–∏–ª–∫—É –¥—Ä–æ–≤. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–µ –∞–ª–∫–æ–≥–æ–ª—è –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å –±–µ–∑ –ø–æ—Å–ª–µ–¥—Å—Ç–≤–∏–π, –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞—Ç—å –≥–æ–ª–æ–¥–∞ –∏ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ª–µ–≥–∫–æ—Å—Ç–∏. –í—Å–µ –∂–µ, —Å–ø–∏—Ä—Ç–Ω–æ–µ —Å–Ω–∏–º–∞–µ—Ç —Å—Ç—Ä–µ—Å—Å—ã.
–ü–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–≤–æ–≥–æ –º–∞—è –ò–ª—å–º–∞–Ω –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª, —á—Ç–æ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ 9 –º–∞—è, –î–µ–Ω—å –ü–æ–±–µ–¥—ã. –í–µ–ª–µ–ª –∑–∞–ø–µ–≤–∞—Ç—å –ø–µ—Å–Ω—é «–î–µ–Ω—å –ü–æ–±–µ–¥—ã» –¢—É—Ö–º–∞–Ω–æ–≤–∞. –Ø —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –∑–∞–ø–µ–ª, –Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–æ–ø–µ–ª –¥–æ —Å–ª–æ–≤ «–ø–æ–ª-–ï–≤—Ä–æ–ø—ã –ø—Ä–æ—à–∞–≥–∞–ª–∏, –ø–æ–ª–∑–µ–º–ª–∏», –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –∑–∞—Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª–∏—Å—å, —Ç–∞–∫ –ª–∏ –Ω–∞–¥–æ –ø–µ—Ç—å –≤ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏—Ö –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞—Ö. –Ý–µ—à–∏–ª–∏, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ç–∞–∫, –∞ –≤–æ—Ç –∫–∞–∫ — –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª–∏. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –∏–º –±—ã–ª–æ —É–∂–µ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —è —É–º–µ—é —Ä–∏—Ñ–º–æ–≤–∞—Ç—å —Å–ª–æ–≤–∞. –ú–Ω–µ –±—ã–ª–æ –ø–æ—Ä—É—á–µ–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Å–ª–æ–≤–∞ –ø–µ—Å–Ω–∏ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–∞ –ø–µ—Å–Ω—è –æ –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–∞—Ö. –ü–æ –ø–æ–≤–æ–¥—É —Ç–æ–π —Å—Ç—Ä–æ—á–∫–∏, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –æ–Ω–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏ –º–æ—ë –ø–µ–Ω–∏–µ, –æ–Ω–∏ –∂–µ –∏ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞–ª–∏ –∑–∞–º–µ–Ω—É. –°–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –ø–µ—Ç—å: «–ü–æ–ª-–Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –ø—Ä–æ—à–∞–≥–∞–ª–∏, –ø–æ–ª–∑–µ–º–ª–∏». –í –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω–æ–º —Å–ª–æ–≤–∞ –ø–µ—Å–Ω–∏ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∏ –¥–ª—è –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤, –Ω–æ –Ω–µ —Ç—É—Ç-—Ç–æ –±—ã–ª–æ.
–í —Å—Ç—Ä–æ—á–∫–µ «–∑–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π, –º–∞–º–∞, –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –º—ã –Ω–µ –≤—Å–µ» —Å–ª–æ–≤–æ «–º–∞–º–∞» –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∑–≤—É—á–∞—Ç—å –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏. –ú–µ–Ω—è –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –∏—Å–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–º –≤–∏–¥–µ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å —Ç–µ–∫—Å—Ç –∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –µ–≥–æ –Ω–∞ –æ–±—Å—É–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å —è —Ç–∞–∫ –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª. –ü–æ—Ç–æ–º, –æ–¥–∏–Ω –∑–∞ –¥—Ä—É–≥–∏–º, –∫–æ –º–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–∏ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã, –∏ –∫–∞–∂–¥—ã–π –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª —Å–≤–æ–∏ –∏–∑–º–µ–Ω–µ–Ω–∏—è –≤ —Ç–µ–∫—Å—Ç. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã —Å–ª–æ–≤–∞: –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥, –¥–∂–∏—Ö–∞–¥, —à–∞—Ö–∏–¥, –∏–Ω—à-–∞–ª–∞, –ê–ª–ª–∞—Ö, –º–æ–ª–∏—Ç–≤–∞ –∏ —Å–ª–æ–≤–æ—Å–æ—á–µ—Ç–∞–Ω–∏–µ «—Ä—É—Å—Å–∫–∞—è —Å–≤–∏–Ω—å—è» –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ–∑–≤—É—á–∞–ª–∏ –≤ –ø–µ—Å–Ω–µ.
–û—Ç «—Ä—É—Å—Å–∫–æ–π —Å–≤–∏–Ω—å–∏» —è –∏—Ö –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω–æ –æ—Ç–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –≤–µ—Å–∫–∏–º –¥–æ–≤–æ–¥–æ–º: «–Ý–∞–∑–≤–µ –≤ –∏—Å—Ö–æ–¥–Ω–æ–º —Ç–µ–∫—Å—Ç–µ —Ö–æ—Ç—å —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å —Å–∫–∞–∑–∞–Ω–æ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–µ–º—Ü—ã —Å–≤–æ–ª–æ—á–∏? –ù–µ—Ç. –≠—Ç–æ –±—ã –ø—Ä–∏–Ω–∏–∑–∏–ª–æ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏–µ —Å–ª–æ–≤. –î–∞–≤–∞–π—Ç–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–º –ø–µ—Å–Ω—é –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥–Ω–æ–π». –£–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª. –ê –≤–æ—Ç —Å –±–ª–∞–≥–æ—Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–º —è–≤–Ω–æ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å. –ï—Å–ª–∏ –±—ã —è —á–∏—Ç–∞–ª —Å–ª–æ–≤–∞ –≥—Ä–∞–º–æ—Ç–Ω–æ–º—É —Ä—É—Å—Å–∫–æ–º—É —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫—É, —Ç–æ –æ–Ω, —Å—Ä–∞–≤–Ω–∏–≤–∞—è –∏—Ö —Å —Ç–µ–∫—Å—Ç–æ–º «–î–Ω—è –ü–æ–±–µ–¥—ã», –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –±—ã —Ä–∞—Å—Å–º–µ—è–ª—Å—è. –í–º–µ—Å—Ç–æ –≥–∏–º–Ω–∞ –¥–ª—è –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤ —É –º–µ–Ω—è –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–∏—Å—å –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ —á–∞—Å—Ç—É—à–∫–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª —ç—Ç–æ, —Ç–æ –¥–∞–∂–µ –∏—Å–ø—É–≥–∞–ª—Å—è. –ó–∞ —Ç–∞–∫–æ–µ –¥–µ–ª–æ –º–µ–Ω—è –º–æ–≥–ª–∏ —Å–µ—Ä—å—ë–∑–Ω–æ –ø–æ–∫–∞–ª–µ—á–∏—Ç—å. –°—Ç–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–¥–µ–ª—ã–≤–∞—Ç—å —Ç–µ–∫—Å—Ç, –Ω–æ –ø–æ-–¥—Ä—É–≥–æ–º—É –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å. –î–µ–ª–æ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –±—ã–ª–æ –≤–æ –º–Ω–µ —Å–∞–º–æ–º. –Ø –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª —ç—Ç–æ, –Ω–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥. –î–∞–∂–µ –∫–æ–≥–¥–∞ —è, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±—ã, –∏–¥–µ–∞–ª—å–Ω–æ «–ø—Ä–∏—á–µ—Å–∞–ª» —Å—Ç–∏—Ö–∏, –æ—Ç–ª–æ–∂–∏–ª –∏ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ —á–∞—Å–∞ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–ª –∑–∞–Ω–æ–≤–æ, —Ç–æ –ø–æ–Ω—è–ª — –ø–æ–±—å—é—Ç. –ú–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, –ø—Ä–æ–¥—É–∫—Ü–∏—é –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Å–¥–∞–≤–∞—Ç—å –∑–∞–∫–∞–∑—á–∏–∫—É.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –ø–æ–∑–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è –ê–Ω–∑–æ—Ä, — —á—Ç–æ —Ç–∞–º —É —Ç–µ–±—è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å? –î–∞–≤–∞–π, –ø–æ–π!
–Ø –∑–∞–ø–µ–ª –∏ —É–∂–µ –±—ã–ª –≥–æ—Ç–æ–≤ –≤ –ª—é–±—É—é —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç—å –ø–∞–ª–∫–æ–π –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ. –ù–æ –≤–æ—Ç –ø—Ä–æ–ø–µ–ª –¥–≤–∞ –∫—É–ø–ª–µ—Ç–∞, —Ç—Ä–∏, —á–µ—Ç—ã—Ä–µ, –ø—è—Ç—å — –∏—Ö —Å—Ç–∞–ª–æ —É–∂–µ –ø—è—Ç—å — –∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ! –°–ª—É—à–∞—é—Ç! –ö–æ–≥–¥–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª –ø–µ—Ç—å, –≤—Å–µ –æ–¥–æ–±—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∑–∞–∫–∏–≤–∞–ª–∏. –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –∏—Ä–æ–Ω–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø—Ä–æ–Ω–∏–∑—ã–≤–∞–ª–∞ –≤–µ—Å—å —Ç–µ–∫—Å—Ç. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –≤–∑—è–ª —É –º–µ–Ω—è –±—É–º–∞–∂–∫—É, –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–ª, –ø–æ–∫—Ä—É—Ç–∏–ª –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –∏ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª.
— –ü–µ—Ä–µ–ø–∏—à–µ—à—å –≤ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ —ç–∫–∑–µ–º–ø–ª—è—Ä–∞—Ö –∏ –æ—Ç–¥–∞—à—å –º–Ω–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å, –∫—Ç–æ –±—ã –Ω–∏ –ø—Ä–∏—à—ë–ª –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å, –º–µ–Ω—è –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –ø—Ä–æ–ø–µ—Ç—å –Ω–æ–≤—É—é —Ä–µ–¥–∞–∫—Ü–∏—é «–î–Ω—è –ü–æ–±–µ–¥—ã». –ï–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –≤—Å—ë –ø–æ–Ω—è–ª, –±—ã–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ò–±—Ä–∞–≥–∏–º–æ–≤. –û–Ω –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–ª –º–æ—ë –ø–µ–Ω–∏–µ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤—ã–º, –Ω–æ –∏ –≥–ª–∞–∑–æ–º –Ω–µ –º–æ—Ä–≥–Ω—É–ª. –¢–æ–ª—å–∫–æ —è –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –æ–Ω –≤—Å—ë –ø–æ–Ω—è–ª. –ò –æ–Ω –≤—ã—Å–∫–∞–∂–µ—Ç —ç—Ç–æ –º–Ω–µ.
–ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ —Å–º–µ–Ω–æ–π –õ–µ—á–∏ –•—Ä–æ–º–æ–≥–æ. –û–Ω –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é —Ç—è–∂—ë–ª—ã–π —Ä—é–∫–∑–∞–∫ —Å —Ö–ª–µ–±–æ–º –∏ –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫–æ –º–Ω–µ.
— –ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –º–Ω–µ —Ä—É–∫—É.
–≠—Ç–æ –±—ã–ª–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –Ω–æ–≤–µ–Ω—å–∫–æ–µ. –û—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è –º–µ–∂–¥—É –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º–∏ –∏ –∏—Ö –ø–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª–∏ –¥—Ä—É–∂–µ—Å–∫–∏—Ö —Ä—É–∫–æ–ø–æ–∂–∞—Ç–∏–π. –ù–æ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω—É —è –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª —Ä—É–∫—É –∏ –ø–æ–∂–∞–ª –µ—ë.
— –ï—Å—Ç—å –∫–∞–∫–∏–µ-–Ω–∏–±—É–¥—å –Ω–æ–≤–æ—Å—Ç–∏, –ë–∏—Å–ª–∞–Ω? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –¢—ã –∏–º–µ–µ—à—å –≤ –≤–∏–¥—É –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –æ –≤—ã–∫—É–ø–µ? — —É—Ç–æ—á–Ω–∏–ª –æ–Ω.
— –î–∞.
— –ü–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –Ω–æ –≤–æ—Ç —É–∂–µ –¥–≤–µ –Ω–µ–¥–µ–ª–∏ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –Ω–∏ —Å–ª—É—Ö—É, –Ω–∏ –¥—É—Ö—É, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω.
–Ø –≥–æ—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.
— –ö–∞–∫ —Ç—É—Ç —É –≤–∞—Å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –ë—å—é—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.
— –Ý–∞–Ω—å—à–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ —á–∞—Å –¥–æ –æ–±—â–µ–≥–æ –ø–æ–¥—ä—ë–º–∞. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –µ–≥–æ –Ω–µ—Ç. –ß—Ç–æ —Å–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å?
— –õ–µ—á–∞ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ, — —Ç–∏—Ö–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ù–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º –ø—Ä–æ—à—É —Ç–µ–±—è –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å.
–Ø –∫–∏–≤–Ω—É–ª. –ü–æ—Ç–æ–º —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª:
— –ù–µ –ø–æ –Ω–∞—à–∏–º –ª–∏ –¥–µ–ª–∞–º?
— –ù–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –¢–∞–º —É –Ω–µ–≥–æ –µ—Å—Ç—å —Å–≤–æ–∏ –∑–∞–º–æ—Ä–æ—á–∫–∏. –ê –º–Ω–µ –≤–æ—Ç –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ–∏—Ç –ø–æ–µ—Ö–∞—Ç—å –≤ –õ–æ–Ω–¥–æ–Ω. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, –∏ –ø–æ —Ç–≤–æ–∏–º –¥–µ–ª–∞–º —Ç–æ–∂–µ.
–Ø –Ω–µ –ø–æ–Ω—è–ª –æ —á—ë–º –æ–Ω. –£ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –±—ã–ª–æ –¥–µ–ª –≤ –õ–æ–Ω–¥–æ–Ω–µ.
— –Ø –∏–º–µ—é –≤ –≤–∏–¥—É —Ç–≤–æ—é —Ñ–∏–∑–∏–∫—É, — —É—Ç–æ—á–Ω–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ë—É–¥–µ—Ç —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, –µ—Å–ª–∏ —Ç—ã –µ—â—ë —Ä–∞–∑ –Ω–∞–ø–æ–º–Ω–∏—à—å –º–Ω–µ –µ—ë.
— –•–æ—Ä–æ—à–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –ú–æ–≥—É –¥–∞–∂–µ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å.
— –ù–µ—Ç-–Ω–µ—Ç, — –∑–∞–º–æ—Ç–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º–∏. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, —Ç—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–π —è–∑—ã–∫?
— –ü–æ–∂–∞–ª—É–π, —á—Ç–æ — –¥–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ê –º–æ–≥ –±—ã –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–æ–≤–∞—Ç—å –º–Ω–µ —á—Ç–æ-—Ç–æ, –≤—Ä–æ–¥–µ –∫—É—Ä—Å–æ–≤?
— –ú–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞—Ç—å, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –¢–æ–≥–¥–∞ –¥–∞–≤–∞–π —Å –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞—à–Ω–µ–≥–æ –¥–Ω—è, –∏ –Ω–∞—á–Ω—ë–º, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, — —Ä–∞–∑ —É–∂ —Ç—ã –ø—Ä–∏–≤—ã–∫ –≤—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —á–∞—Å —Ä–∞–Ω—å—à–µ, —è –±—É–¥—É –¥–µ–∂—É—Ä–∏—Ç—å –ø–æ —É—Ç—Ä–∞–º, –∞ –∑–∞–æ–¥–Ω–æ –∏ –ø–æ–∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ–º—Å—è.
–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —É—Ç—Ä–æ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–¥–Ω—è–ª –º–µ–Ω—è –Ω–∞ —á–∞—Å —Ä–∞–Ω—å—à–µ. –ó–∞–æ–¥–Ω–æ –æ–Ω –≤—ã–≤–µ–ª –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç –∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º. –ú—ã —É—à–ª–∏ –∑–∞–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏–º –Ω–∞ –∫—É—Ö–Ω—é, –≥–¥–µ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –±—ã–ª —Å—Ç–æ–ª –∏ –ª–∞–≤–∫–∏.
–í—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –∏–º–µ–µ—Ç –∫—Ä–∞–π–Ω–µ —Å–ª–∞–±–æ–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –æ –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω—ã—Ö —è–∑—ã–∫–∞—Ö. –ò —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏–π, –∏ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π —è–∑—ã–∫–∏ –æ–Ω —Å—á–∏—Ç–∞–ª —Ä–æ–¥–Ω—ã–º–∏. –ù–∞—á–∞–ª–∏ —Å —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –∑–∞–¥–∞—Ç—å –≤–æ–ø—Ä–æ—Å –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ: –∫–∞–∫ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —á–∞—Å, –∫–∞–∫ –≤–∞—Å –∑–æ–≤—É—Ç.
–ó–∞–Ω—è—Ç–∏–µ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –ø—Ä–æ–≤–∞–ª—å–Ω–æ. –ë–∏—Å–ª–∞–Ω —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–ª—É—à–∞–ª –∏ –∫–∏–≤–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –ö–∞–∫ —è –Ω–∏ —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –µ–≥–æ –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—Ç—å —Å–ª–æ–≤–∞ –∑–∞ –º–Ω–æ–π, –æ–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ –º—è–º–ª–∏–ª —Å–µ–±–µ –ø–æ–¥ –Ω–æ—Å –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–¥—É–º–∞—Ç—å —Å–∏—Å—Ç–µ–º—É –æ–±—É—á–µ–Ω–∏—è. –Ø –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ–≥–æ –Ω–∞ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å—Ç–∏ —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥–∫—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –ø–æ–ª—É—á–∏–ª —É–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —á–∞—Å–∞. –í –Ω–µ–π —è —Ä–∞–∑—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π —Å–ª–æ–≤–∞—Ä—å, –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è, —Ç–µ–º—ã: –∞—ç—Ä–æ–ø–æ—Ä—Ç, –≤–æ–∫–∑–∞–ª, —É–ª–∏—Ü–∞, –º–∞–≥–∞–∑–∏–Ω, —Ä–µ—Å—Ç–æ—Ä–∞–Ω, –≥–æ—Å—Ç–∏–Ω–∏—Ü–∞.
–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —É—Ç—Ä–æ –¥–µ–ª–∞ –ø–æ—à–ª–∏ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ª—É—á—à–µ. –Ø –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ —Å–ª–æ–≤–æ –∏ –∑–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å –µ–≥–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–æ—à–µ–Ω–∏–µ, –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è—è –µ–≥–æ –≤—Å–ª—É—Ö –ø–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫—É —Ä–∞–∑. –û–Ω –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ –º–æ–≥ –ø–æ–Ω—è—Ç—å, –ø–æ—á–µ–º—É, –≥–ª—è–¥—è –Ω–∞ —Å–ª–æ–≤–æ «departure», –Ω—É–∂–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å «–¥–∏–ø–∞—á–∞». –ü–æ–ø—ã—Ç–∫–∏ –æ–±—ä—è—Å–Ω–∏—Ç—å –µ–º—É —ç—Ç–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å —Ñ–∏–∞—Å–∫–æ. –°–ª–∏—à–∫–æ–º –±–æ–ª—å—à–æ–π –ø–ª–∞—Å—Ç –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –±—ã –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å, –∞ —É –Ω–∞—Å –≤ –∑–∞–ø–∞—Å–µ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–≤–µ –Ω–µ–¥–µ–ª–∏. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –Ω–µ–¥–µ–ª—è –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –∫ –∫–æ–Ω—Ü—É, —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Ç–æ–ª–∫—É –æ—Ç –Ω–∞—à–∏—Ö –∑–∞–Ω—è—Ç–∏–π –º–∞–ª–æ. –ò —Ä–µ—à–∏–ª –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –µ–≥–æ –≤—ã—É—á–∏—Ç—å –Ω–∞–∏–∑—É—Å—Ç—å –ø–µ—Å–µ–Ω–∫—É «–ü–æ–µ–∑–¥ –Ω–∞ –ß–∞—Ç—Ç–∞–Ω—É–≥—É». –¢–∞–º —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–ª–µ–∑–Ω—ã—Ö —Å–ª–æ–≤ –∏ –≤–æ–∫–∑–∞–ª—å–Ω—ã—Ö, –∏ –¥–æ—Ä–æ–∂–Ω—ã—Ö, –∏ –æ–±—â–∏—Ö. –£ –º–µ–Ω—è –±—ã–ª —Ç–∞–∫–æ–π —Å–ª—É—á–∞–π. –í –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω—ã—Ö –∑–∞—Ö–æ–¥–æ–≤ –Ω–∞ –∫—É—Ä—Å—ã –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ —è–∑—ã–∫–∞ –æ–ø—ã—Ç–Ω—ã–π –ø–µ–¥–∞–≥–æ–≥, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—Ä–æ–∂–∏–ª –≤ –®—Ç–∞—Ç–∞—Ö 20 –ª–µ—Ç, –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –Ω–∞—Å –≤—ã—É—á–∏—Ç—å —ç—Ç—É –ø–µ—Å–µ–Ω–∫—É. –Ø –±—ã–ª –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–µ–Ω –µ–º—É –≤—Å—è–∫–∏–π —Ä–∞–∑, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –æ–±—â–∞—Ç—å—Å—è —Å –∏–Ω–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Ü–∞–º–∏.
–í —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º 11 –º–∞—è —è –∑–∞–ø–∏—Å–∞–ª —Ç–µ–∫—Å—Ç —Å—Ç–∏—Ö–æ–≤ –ø–æ-–∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–∏ –∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –ø–æ–¥—Å—Ç—Ä–æ—á–Ω—ã–π –ø–µ—Ä–µ–≤–æ–¥. –û—Ç–¥–∞–ª —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥—å –ë–∏—Å–ª–∞–Ω—É, —á—Ç–æ–±—ã –æ–Ω –≤–∑—è–ª –µ—ë —Å —Å–æ–±–æ–π, –∞ —Ä–∞–Ω–æ —É—Ç—Ä–æ–º –º—ã —Å–µ–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –ø–µ—Ä–µ–¥ –¥—Ä—É–≥–æ–º –∑–∞ –∫—É—Ö–æ–Ω–Ω—ã–º —Å—Ç–æ–ª–æ–º.
— –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, — –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è —è –∫ –Ω–µ–º—É, — –¥–∞–≤–∞–π –ø–æ–ø—Ä–æ–±—É–µ–º –≤—ã—É—á–∏—Ç—å –æ–¥–Ω—É –æ—á–µ–Ω—å –ø–æ–ª–µ–∑–Ω—É—é –ø–µ—Å–µ–Ω–∫—É.
— –î–∞–≤–∞–π, — —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª—Å—è –æ–Ω.
— –û—Ç–∫—Ä—ã–≤–∞–π —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –°–∞–º-—Ç–æ —è —ç—Ç–æ—Ç —Ç–µ–∫—Å—Ç –∑–Ω–∞—é –Ω–∞–∏–∑—É—Å—Ç—å.
–û–Ω —Ä–∞—Å—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω–æ –ø–æ–≥–ª—è–¥–µ–ª –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º.
— –í–æ—Ç –≤–µ–¥—å, —Ä–∞—Å—Ç—è–ø–∞, — –æ–Ω —Ö–ª–æ–ø–Ω—É–ª —Å–µ–±—è –ª–∞–¥–æ–Ω—å—é –ø–æ –≥–æ–ª–æ–≤–µ, — —è –Ω–µ –≤–∑—è–ª —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥—å. –ü–æ–¥–æ–∂–¥–∏, —Å–µ–π—á–∞—Å —è —Å–±–µ–≥–∞—é –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂.
–û–Ω, –Ω–µ —Ç–æ—Ä–æ–ø—è—Å—å, –ø–æ—à—ë–ª –∑–∞ —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥—å—é. –ê —É –º–µ–Ω—è –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥ –Ω–æ—Å–æ–º, –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –≤—ã—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–π —Ä—É–∫–∏, –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –µ–≥–æ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç.
–ú—ã—Å–ª–∏ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∞–ª–∏—Å—å —Å –∫–æ—Å–º–∏—á–µ—Å–∫–∏–º–∏ —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—è–º–∏. –°—Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç—å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç. –î–≤–∞ —Ä–æ–∂–∫–∞, —Å—Ç—è–Ω—É—Ç—ã–µ –º–µ–∂–¥—É —Å–æ–±–æ–π –∏–∑–æ–ª–µ–Ω—Ç–æ–π, —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ, —Ö–≤–∞—Ç–∏—Ç –∑–∞ –≥–ª–∞–∑–∞, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –≤—Å–µ—Ö –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –≤—Ä–µ–º—è —Å–µ–π—á–∞—Å —Ç–∞–∫–æ–µ, —á—Ç–æ –º–æ–≥—É—Ç –ø—Ä–∏–π—Ç–∏ –¥—Ä—É–≥–∏–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –∏–∑ –°–∞–º–∞—à–µ–∫. –≠—Ç–æ –ø–ª–æ—Ö–æ. –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–π–¥—ë—Ç –Ω–∞–≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É. –û—á–µ—Ä–µ–¥—å –ø–æ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω—É… –¢—É—Ç —è –∑–∞–ø–Ω—É–ª—Å—è. –Ø –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —Å–µ–±–µ, –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏—Ç—å –≤ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞. –≠—Ç–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ü–æ—á—Ç–∏ –¥—Ä—É–≥ –º–Ω–µ. –î—Ä—É–≥? –Ý–∞–∑–≤–µ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å –¥—Ä—É–≥–æ–º? –ê –µ—Å–ª–∏ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –µ–≥–æ –±–µ–∂–∞—Ç—å –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è? –ù–µ—Ç. –£—Ç–æ–ø–∏—è. –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –Ω–µ –ø–æ–±–µ–∂–∏—Ç. –í—Å—ë —Å—Ä—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑-–∑–∞ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ —è –Ω–µ –º–æ–≥—É —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –≤ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞? –ù–µ—Ç. –ë—ã–ª–æ –µ—â—ë –º–Ω–æ–≥–æ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –ø—Ä–∏—á–∏–Ω. –≠—Ç–æ –º–æ–≥–ª–æ –±—ã—Ç—å –ø—Ä–æ–≤–æ–∫–∞—Ü–∏–µ–π, –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, —á—Ç–æ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞ –º–∞–ª–æ–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ. –ù–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ —è –Ω–µ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—é –≤ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞, –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–≤–∏–¥–Ω–æ. –í–æ—Ç –æ–Ω —É–∂–µ –∏–¥—ë—Ç —Å —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥–∫–æ–π.
— –¢—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –º–µ–Ω—è –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å —Å–≤–æ—ë –æ—Ä—É–∂–∏–µ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ–≥–æ —Å –∏—Ä–æ–Ω–∏–µ–π.
— –ê —á—Ç–æ –±—ã —Ç—ã —Å—Ç–∞–ª –¥–µ–ª–∞—Ç—å —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –≤ —Å–≤–æ—é –æ—á–µ—Ä–µ–¥—å –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –°—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å? –ê –µ—Å–ª–∏ –Ω–µ –ø–æ–ø–∞–¥—ë—à—å? –î–∞ —Ç—ã –∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏—Ç—å –±—ã –Ω–µ —Å–º–æ–≥.
— –ü–æ—á–µ–º—É —Ç—ã —Ç–∞–∫ –¥—É–º–∞–µ—à—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ü–æ—Ç–æ–º—É, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–Ω–æ –Ω–∞ —Ç–≤–æ—ë–º –ª–∏—Ü–µ, –≤ —Ç–≤–æ–∏—Ö –≥–ª–∞–∑–∞—Ö, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω.
— –í —Ç–µ–±—è –±—ã —è —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª —è.
— –ê –≤ –•–æ–¥–∂–∏ –∏–ª–∏ –õ—ë–º—É —Å—Ç–∞–ª –±—ã —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω —Å –ø–æ–¥–Ω–∞—á–∫–æ–π.
–û–± —ç—Ç–æ–º —è –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞–ª—Å—è. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ–π –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–∞–ª–∏ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω—ã–µ –æ–±—Ä–∞–∑—ã –•–æ–¥–∂–∏ –∏ –õ–µ–º—ã, –º—ã—Å–ª—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –≤ –Ω–∏—Ö –Ω–∞–¥–æ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ–ª–∞ –Ω–µ–ª–µ–ø–æ–π. –ê –≤–µ–¥—å —è —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –≤—Å–µ—Ö –∏—Ö –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ.
— –ü–æ–∂–∞–ª—É–π, —á—Ç–æ –Ω–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –í–æ—Ç –≤–∏–¥–∏—à—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, — —É —Ç–µ–±—è –Ω–µ—Ç –ø–æ–±—É–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–π –ø—Ä–∏—á–∏–Ω—ã —É–±–∏–≤–∞—Ç—å.
— –ê —É —Ç–µ–±—è –µ—Å—Ç—å?
— –ï—Å—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ö–æ –º–Ω–µ –≤ –¥–æ–º —Å –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º –ø—Ä–∏—à–ª–∏ —á—É–∂–∏–µ –ª—é–¥–∏. –ê —è —Ö–æ—á—É –±—ã—Ç—å —Ö–æ–∑—è–∏–Ω–æ–º –≤ —Å–≤–æ—ë–º –¥–æ–º–µ.
— –ù–æ –≤–µ–¥—å —Å–∏–ª—ã –Ω–µ —Ä–∞–≤–Ω—ã, –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —è. — –£ –≤–∞—Å, –∫—Ä–æ–º–µ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–≤ –∏ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç–æ–≤ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ—Ç. –ê —è –≤–∏–¥–µ–ª –µ—â—ë –≤ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–º —É—â–µ–ª—å–µ, —á—Ç–æ –¥–µ–≤—è–Ω–æ—Å—Ç–æ –ø—Ä–æ—Ü–µ–Ω—Ç–æ–≤ –≤–æ–π–Ω—ã –¥–µ–ª–∞–µ—Ç –∞–≤–∏–∞—Ü–∏—è. –ê —Ç–∞–Ω–∫–∏? –ö—É–¥–∞ —Ç—ã —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ç–∞–Ω–∫–∞?
— –ù—É, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —Ç–∞–Ω–∫–∞, –¥–æ–ø—É—Å—Ç–∏–º, –µ—Å—Ç—å –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–º—ë—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ê –∞–≤–∏–∞—Ü–∏—è… –ê–≤–∏–∞—Ü–∏—è –≥–æ—Ä–æ–¥–∞ –Ω–µ –±–µ—Ä—ë—Ç. –ò—Ö –±–µ—Ä—ë—Ç –ø–µ—Ö–æ—Ç–∞. –í–æ—Ç –º—ã —Å–µ–π—á–∞—Å —Å —Ç–æ–±–æ–π –Ω–∞ –∑–∞–Ω—è—Ç–æ–π —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º–∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏. –ì–¥–µ –æ–Ω–∏? –ù–∏ –æ–¥–∏–Ω —Å–æ–ª–¥–∞—Ç –Ω–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ —Å—É–Ω–µ—Ç—Å—è –≤ –ª–µ—Å. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –≤—Å–µ –ª–µ—Å–∞ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É—é—Ç—Å—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏.
— –õ–µ—Å–∞ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è.
— –ù—É –∏ —á—Ç–æ? — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –æ–Ω. — –í–æ—Ç —Ç–µ–±—è –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—é—Ç —É–∂–µ —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ?
— –ü–æ—á—Ç–∏ –≥–æ–¥, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –ê —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –ø–æ–ø–∞–ª–∏?
— –ù–∏ —Ä–∞–∑—É.
— –í–æ—Ç –∏ –≤—Å—è –∞—Ä–∏—Ñ–º–µ—Ç–∏–∫–∞, — –∑–∞–∫–ª—é—á–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ú—ã —Å–∞–º–∏ –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å —Å–≤–æ–∏ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –∏ –±—É–¥–µ–º –µ—â—ë –¥–æ–ª–≥–æ –¥–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —ç—Ç–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º.
— –ö–∞–∫ –¥–æ–ª–≥–æ, –ë–∏—Å–ª–∞–Ω?
— –ü–æ–∫–∞ –Ω–µ –ø–æ–±–µ–¥–∏–º, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ. — –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –Ý—É—Å—å –±—ã–ª–∞ –ø–æ–¥ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–∞–º–∏?
— –¢—ã –∏–º–µ–µ—à—å –≤ –≤–∏–¥—É —Ç–∞—Ç–∞—Ä–æ-–º–æ–Ω–≥–æ–ª—å—Å–∫–æ–µ –∏–≥–æ? — —É—Ç–æ—á–Ω–∏–ª —è.
— –î–∞. –¢—Ä–∏—Å—Ç–∞ –ª–µ—Ç, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω –∑–∞ –º–µ–Ω—è. — –Ý—É—Å—Å–∫–∏–º —Å—Ç–∞–ª–æ –ª—É—á—à–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω–∏ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏–ª–∏—Å—å?
— –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
— –í–æ—Ç –∏ –º—ã —Ö–æ—Ç–∏–º –Ω–µ–∑–∞–≤–∏—Å–∏–º–æ—Å—Ç–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –Ø –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é: –∫–æ–Ω—Å—Ç–∏—Ç—É—Ü–∏—è, –Ω–µ—Ä—É—à–∏–º–æ—Å—Ç—å –≥—Ä–∞–Ω–∏—Ü… –ê –∫—É–¥–∞ –¥–µ–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø—Ä–∞–≤–æ –Ω–∞—Ü–∏–π –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–∏–µ?
— –Ø —Ç–æ–∂–µ —Å—á–∏—Ç–∞—é, —á—Ç–æ —ç—Ç–∏ –ø—É–Ω–∫—Ç—ã –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ—Ä–µ—á–∞—Ç –¥—Ä—É–≥ –¥—Ä—É–≥—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –í–æ—Ç –ª–∏—á–Ω–æ —Ç–µ–±–µ –Ω—É–∂–Ω–∞ –ß–µ—á–Ω—è? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω.
— –õ–∏—á–Ω–æ –º–Ω–µ — –Ω–µ—Ç.
— –ê –∑–∞—á–µ–º –æ–Ω–∞ –ú–æ—Å–∫–≤–µ? — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –ò–º–ø–µ—Ä—Å–∫–∏–µ –∞–º–±–∏—Ü–∏–∏, —Ç—ã —Ö–æ—á–µ—à—å —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å?
— –ù–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –∞–º–±–∏—Ü–∏–π, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –ù–µ—Ñ—Ç—å. –ö–∞—á–∞—Ç—å –µ—ë –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –∏ –ø—Ä–æ–¥–∞–≤–∞—Ç—å. –¢–µ–±–µ –ª–∏—á–Ω–æ –æ—Ç —ç—Ç–∏—Ö –¥–µ–Ω–µ–≥ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–ø–∞–¥—ë—Ç –Ω–∏ –∫–æ–ø–µ–π–∫–∏. –ñ–∞–ª–∫–æ —Ä–µ–±—è—Ç, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≥–æ–Ω—è—Ç —Å—é–¥–∞ –Ω–∞ —É–±–æ–π. –Ø –¥–æ —Å–∏—Ö –ø–æ—Ä —Å —Å–æ–¥—Ä–æ–≥–∞–Ω–∏–µ–º –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—é —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª –Ω–∞ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–µ —É –í–æ–ª—á—å–∏—Ö –≤–æ—Ä–æ—Ç. –ü–æ–º–Ω–∏—à—å?
— –ü–æ–º–Ω—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –≠—Ç–æ –≤ –®–∞—Ç–æ–µ. –¢–æ–≥–æ, —Ç—Ä—É–ø –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –º–Ω–µ –≤–µ–ª–µ–ª–∏ –∑–∞—Ö–æ—Ä–æ–Ω–∏—Ç—å, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–±–º–µ–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥ –≤–∞—à–∏—Ö –º–æ–¥–∂–∞—Ö–µ–¥–æ–≤ –∏–∑ –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è.
— –ù–µ—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –¢–æ–≥–æ —É–ª–æ–∂–∏–ª –õ–µ—á–∞. –ê –≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —è –ø–∞–ª—å–Ω—É–ª –∏–∑ –ø–æ–¥—Å—Ç–≤–æ–ª—å–Ω–∏–∫–∞. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –æ–Ω –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è –≤ –∂–∏–≤—ã—Ö. –ù–æ –≤–µ–¥—å —Å—Ç–∞–ª –∫–∞–ª–µ–∫–æ–π. –ó–∞ —á—Ç–æ –æ–Ω –≤–æ–µ–≤–∞–ª? –ó–∞ –Ý–æ–¥–∏–Ω—É? –ù–∏–∫–æ–≥–¥–∞ –µ–º—É –ß–µ—á–Ω—è —Ä–æ–¥–∏–Ω–æ–π –Ω–µ –±—ã–ª–∞. –ò–ª–∏ –æ–Ω —Ö–æ—Ç–µ–ª –ø–æ–∂–∏–≤–∏—Ç—å—Å—è –Ω–µ—Ñ—Ç—å—é? –ù–∏ –∫–∞–ø–ª–∏ –µ–º—É –Ω–µ –¥–∞–¥—É—Ç, –¥–∞–∂–µ –Ω–∞ –∏–Ω–≤–∞–ª–∏–¥–Ω—É—é –∫–æ–ª—è—Å–∫—É. –í–æ—Ç –Ω–∞—Å –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º–∏. –û–Ω–∏ –µ—Å—Ç—å –∏ –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ. –í—Å—è –ú–æ—Å–∫–≤–∞ –ø–æ–¥–µ–ª–µ–Ω–∞ –Ω–∞ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É—é—Ç –±–∞–Ω–¥—ã. –ï—Å—Ç—å —Ç–∞–º, –∫—Å—Ç–∞—Ç–∏, –∏ —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∞—è —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—è.
— –í —Å–º—ã—Å–ª–µ, –µ—ë –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É–µ—Ç —á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∞—è –≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–∫–∞? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –î–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è –∑–∞–¥–∞—é —Å–µ–±–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å: «–ê —á–µ–º –Ω—ã–Ω–µ—à–Ω—è—è –≤–ª–∞—Å—Ç—å –æ—Ç–ª–∏—á–∞–µ—Ç—Å—è –æ—Ç –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤?» –ò –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–º. –û–Ω–∞ —Ç–∞–∫ –∂–µ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É–µ—Ç —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—é. –¢–∞–∫ –∂–µ, –∫–∞–∫ –∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç –¥–∞–Ω—å, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç –µ—ë –Ω–∞–ª–æ–≥–∞–º–∏. –ò —Ç–∞–∫ –∂–µ –∂–∏—Ä—É–µ—Ç.
— –ù–æ –≤–µ–¥—å, –æ–Ω–∞ –µ—â—ë –∏ –∑–∞—â–∏—â–∞–µ—Ç —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏—é, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è.
— –ê —Ç—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –Ω–µ –∑–∞—â–∏—â–∞—é—Ç? –£–∂ –µ—Å–ª–∏ –ø–æ–ø–∞–ª –ø–æ–¥ «–∫—Ä—ã—à—É», –Ω–∏ –æ–¥–∏–Ω –±–∞–Ω–¥–∏—Ç –±–æ–ª—å—à–µ –∫ —Ç–µ–±–µ –Ω–µ —Å—É–Ω–µ—Ç—Å—è. –° —ç—Ç–∏–º — —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ø–ª–∞—Ç–∏. –í–æ—Ç —è, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä, –Ω–µ —Ö–æ—á—É –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –¥–∞–Ω—å –ú–æ—Å–∫–≤–µ –∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ—à—É –µ—ë –º–µ–Ω—è –∑–∞—â–∏—â–∞—Ç—å.
— –£–π–¥—ë—Ç –ú–æ—Å–∫–≤–∞, –ø—Ä–∏–¥—É—Ç –¥—Ä—É–≥–∏–µ, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è.
— –ï—Å–ª–∏ –º—ã –∏—Ö —Å—é–¥–∞ –ø—É—Å—Ç–∏–º, — –ø–∞—Ä–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ê —Å –ú–æ—Å–∫–≤–æ–π —É –ß–µ—á–Ω–∏ —Å—á—ë—Ç—ã –¥–∞–≤–Ω–∏–µ. –ï—â—ë —Å–æ –≤—Ä–µ–º—ë–Ω –®–∞–º–∏–ª—è –∏ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–∞ –ï—Ä–º–æ–ª–æ–≤–∞. –¢—ã –ø–æ–º–Ω–∏—à—å, –∫–æ–º—É –ø—Ä–∏–Ω–∞–¥–ª–µ–∂–∞—Ç —Ç–∞–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞: «–£–≤–∏–¥–µ–ª —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞ — —É–±–µ–π –µ–≥–æ, –∏–ª–∏ –æ–Ω —É–±—å—ë—Ç —Ç–µ–±—è».
— –≠—Ç–æ —Å–ª–æ–≤–∞ –ï—Ä–º–æ–ª–æ–≤–∞, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª —è.
— –ù—É –∏ —Ç—ã —Ö–æ—á–µ—à—å, —á—Ç–æ–±—ã –º—ã –Ω–µ –≤–æ–µ–≤–∞–ª–∏? –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç—É –ö–∞–≤–∫–∞–∑–∞: –∫—É–¥–∞ –Ω–∏ —Ç–∫–Ω–∏ — –ï—Ä–º–æ–ª–æ–≤–∫–∞. –ú–æ–∂–µ—Ç, —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ –∏ –≥–æ—Ä–¥—è—Ç—Å—è —ç—Ç–∏–º, –∞ –º–Ω–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–æ. –ß—Ç–æ —Ç–µ–±–µ –æ—Ç —ç—Ç–∏—Ö –ï—Ä–º–æ–ª–æ–≤–æ–∫? –¢—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, –Ω–µ—Ñ—Ç—å –∏–∑ –Ω–∏—Ö –∏–¥—ë—Ç –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏—é, –≤ –ú–æ—Å–∫–≤—É? –î–∞ –Ω–∏ —á–µ—Ä—Ç–∞! –ù–∞–ø—Ä—è–º—É—é –≤ –æ—Ñ—Ñ—à–æ—Ä–Ω—ã–µ –∑–æ–Ω—ã. –Ý–µ–±—è—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç–æ—Ä–≥—É—é—Ç –º–æ–µ–π –Ω–µ—Ñ—Ç—å—é, —Ç–∞–º –∂–µ –≤ –æ—Ñ—Ñ—à–æ—Ä–∞—Ö –∏ –∂–∏–≤—É—Ç. –í –æ–±—â–µ–º, —è –∏ —Å–∞–º —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –≥—É–ª—è—é –≤ –ù–∞–ª—å—á–∏–∫–µ, –Ω–æ –Ω–µ –æ–±–æ –º–Ω–µ —Ä–µ—á—å. –£–∂–µ —Å–µ–π—á–∞—Å –≤ –ß–µ—á–Ω–µ –≤—ã—Ä–æ—Å–ª–∏ –¥–≤–∞ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ–∫–æ–ª–µ–Ω–∏—è. –û–Ω–∏, –∫—Ä–æ–º–µ –∫–∞–∫ –≤–æ–µ–≤–∞—Ç—å, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —É–º–µ—é—Ç. –ò –æ–Ω–∏ –æ—Ç–≤–æ—é—é—Ç —Å–≤–æ–∏ —Å–∫–≤–∞–∂–∏–Ω—ã, –∏ —Å–∞–º–∏ –ø—É—Å—Ç—è—Ç –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –≤ –æ—Ñ—Ñ—à–æ—Ä—ã.
— –¢–∞–∫ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –≤—ã –≤—Å—ë –∂–µ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã, –∞ –Ω–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–∏ —Å–≤–æ–µ–π –Ý–æ–¥–∏–Ω—ã? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ù–µ –æ–±–æ–±—â–∞–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –≥—Ä—É—Å—Ç–Ω–æ. — –Ø –Ω–µ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç. –ò –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤ –Ω–µ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç. –í–æ—Ç –æ–Ω –æ—Ç–≤–æ—é–µ—Ç –ß–µ—á–Ω—é –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è –Ω–µ —É –¥–µ–ª. –í—Å—ë —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω –æ—Ç–≤–æ–µ–≤–∞–ª, —É –Ω–µ–≥–æ –∂–µ –æ—Ç–±–µ—Ä—É—Ç. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ, –¥–∞–¥—É—Ç —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ –ø–æ–∂–∏—Ç—å —É —Å–µ–±—è –¥–æ–º–∞. –ê –µ–º—É –±–æ–ª—å—à–µ–≥–æ –∏ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ.
— –ê —Ç–µ–±–µ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ò –º–Ω–µ –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –Ø —Ö–æ—Ç–µ–ª —Å—Ç–∞—Ç—å –≤—Ä–∞—á–æ–º –∏ —Å—Ç–∞–Ω—É –∏–º, –∏–Ω—à-–∞–ª–ª–∞. –í–æ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ—è–≤—è—Ç—Å—è –¥–µ–Ω—å–≥–∏ — –∏ —Ä–≤–∞–Ω—É –æ—Ç—Å—é–¥–∞. –¢—ã, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –¥—É–º–∞–µ—à—å, —á—Ç–æ —è –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –∏—Ä–æ–Ω–∏–∏ –≤ —Ç–µ—Ö —Å—Ç–∏—Ö–∞—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Ç—ã —Å–¥–µ–ª–∞–ª –∏–∑ –ø–µ—Å–Ω–∏ «–î–µ–Ω—å –ü–æ–±–µ–¥—ã»?
— –ù–µ—Ç, —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ —Ç—ã –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∏–∑–≤–∏–Ω–∏ –∑–∞ —Ç–∞–≤—Ç–æ–ª–æ–≥–∏—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –í–æ—Ç –≤–∏–¥–∏—à—å, –∞ –ò–ª—å–º–∞–Ω –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª. –ê –≤–µ–¥—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω –±—É–¥–µ—Ç –∂–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–∫–≤–∞–∂–∏–Ω–∞—Ö, –∫–æ–ª–æ—Ç—å—Å—è –∏ –Ω—é—Ö–∞—Ç—å –∫–æ–∫–∞–∏–Ω, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ —Å–¥–æ—Ö–Ω–µ—Ç. –ê —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ –±—É–¥—É—Ç –¥—Ä—É–≥–∏–µ. –¢–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–µ–π—á–∞—Å –æ—Ç—Å–∏–∂–∏–≤–∞—é—Ç—Å—è –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏.
— –ù–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —è –∑–Ω–∞—é, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è, — —Ç–∞–∫–∏—Ö –Ω–µ –º–Ω–æ–≥–æ.
— –¢—ã –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—à—å, — –ø–µ—Ä–µ–±–∏–ª –º–µ–Ω—è –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ó–Ω–∞–µ—à—å, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏?
— –í–æ—Å–µ–º—å –º–∏–ª–ª–∏–æ–Ω–æ–≤, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è, –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å.
— –î–µ—Å—è—Ç—å, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ê —Ç—É—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –≤—Å–µ–≥–æ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ —Ç—ã—Å—è—á. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –∏ –∏—Ö —Å–µ–º—å–∏. –í–æ—Ç –∏–º –≤—Å—ë –∏ –¥–æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è. –û–Ω–∏ –∏ —Å—Ç–∞–Ω—É—Ç –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å —Å–µ–±—è –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–æ–º. –ü–æ—Ç–æ–º —Å—é–¥–∞ –ø—Ä–∏–µ–¥—É—Ç –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ –∏ –±—É–¥—É—Ç –Ω–∞ –Ω–∏—Ö —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å. –Ø –Ω–µ —Ö–æ—á—É –±—ã—Ç—å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–º, –Ω–æ –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ –Ω–µ –±—É–¥—É.
— –ö—É–¥–∞ –±—ã —Ç—ã –Ω–∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è, — –≤–µ–∑–¥–µ —Ç–µ–±—è –±—É–¥—É—Ç –∂–¥–∞—Ç—å –≥–æ—Å—É–¥–∞—Ä—Å—Ç–≤–∞. –ê –≤ —Ç–≤–æ—ë–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–∏ — –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã, –ª–µ–≥–∞–ª–∏–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –≤ –≥–æ—Å–º–∞—à–∏–Ω—É. –í–µ–∑–¥–µ –Ω–∞–¥–æ –ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å –Ω–∞–ª–æ–≥–∏. –¢—ã –æ–±—Ä–µ—á—ë–Ω —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –Ω–∞ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤, –ë–∏—Å–ª–∞–Ω.
— –¢–∞–º, —Ö–æ—Ç—è –±—ã, –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–µ, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ó–¥–µ—Å—å –ú–æ—Å–∫–≤–∞ –∏–∑ –±—é–¥–∂–µ—Ç–∞ –≤—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–≥–æ, –∞ —Å—Ç—Ä–æ—è—Ç—Å—è –≤–∏–ª–ª—ã –Ω–∞ –°–µ–π—à–µ–ª–∞—Ö.
— –í–æ—Ç –∏ –ø–æ–µ–∑–∂–∞–π –Ω–∞ –°–µ–π—à–µ–ª—ã, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –ß—Ç–æ–±—ã —É–≤–∏–¥–µ—Ç—å —Ä–æ–∂–∏, –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —è –∑–¥–µ—Å—å –≤–æ—é—é? –ù–µ—Ç, —Ç–∞–º —è –µ—â—ë –æ—Ö–æ—Ç–Ω–µ–µ –≤–æ–∑—å–º—É –≤ —Ä—É–∫–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç.
–í —Ç–æ —É—Ç—Ä–æ –º—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –¥–æ–±—Ä–∞–ª–∏—Å—å –¥–æ –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–≥–æ. –í–æ–¥–∞, –¥—Ä–æ–≤–∞, –≤–æ–ª—á—å–∏ —Ç—Ä—É–±–∫–∏. –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫–æ –º–Ω–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –¥–µ–ª–∞–ª –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω—É—é –º–æ—Ä–¥—É –≤–æ–ª–∫–∞.
— –¢—ã —Å–æ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–æ–π –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–æ–π –Ω–µ –æ–±—Å—É–∂–¥–∞–π –Ω–∞—à–∏ —Å —Ç–æ–±–æ–π —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä—ã, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
— –ò —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –Ω–µ –±—É–¥—É, — –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª —è.
— –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∏ –ø—Ä–∏ —á—ë–º. –ù–µ –æ–±—Å—É–∂–¥–∞–π –∏ —Å –Ω–∏–º, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–æ —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π — –Ω–µ–ª—å–∑—è.
— –ò–∑-–∑–∞ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –∂–µ–Ω—â–∏–Ω–∞, –∏–ª–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –º–Ω–æ–≥–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –Ø —Ç–µ–±–µ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–±—ä—è—Å–Ω—é, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —Ç—ã –∏ –º–Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞–µ—à—å —Ç—Ä—É–±–∫—É?
— –õ–µ–≥–∫–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –ó–∞–∫–∞–∑—ã–≤–∞–π.
— –Ø, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∫—É—Ä–∏—Ç—å –Ω–µ –±—É–¥—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. — –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ö–æ—á–µ—Ç—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –ø–∞–º—è—Ç—å. –Ø –ø–æ–¥—É–º–∞—é, –∫–∞–∫—É—é —Ç—Ä—É–±–∫—É —Ç–µ–±–µ –∑–∞–∫–∞–∑–∞—Ç—å.
–î–Ω—ë–º –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø—Ä–∏—à—ë–ª –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤. –° –≥–∏—Ç–∞—Ä–æ–π. –û–Ω —É–∂–µ –∫–∞–∫-—Ç–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –º–Ω–µ –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Ö–æ—á–µ—Ç –ø–æ–ª—É—á—à–µ –Ω–∞—É—á–∏—Ç—å—Å—è –∏–≥—Ä–∞—Ç—å –∏, –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, — –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å —Å–≤–æ—é –ª—é–±–∏–º—É—é –ø–µ—Å–Ω—é. –Ø –æ–±–µ—â–∞–ª –ø–æ–º–æ—á—å –µ–º—É –≤ —ç—Ç–æ–º. –ü–æ–∫–∞ –Ω–∞—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞–ª –≥–∏—Ç–∞—Ä—É, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –µ–≥–æ –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç –¥–µ–ª–∞ —Å –Ω–∞—à–∏–º –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ–º. –ö—é—Ä–∏ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞ –∏–¥—É—Ç, –Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ–≥–æ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ—Ç. –Ø —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏ –ø–∞–ª—å—Ü—ã –∏ —É–∂–∞—Å–∞–ª—Å—è. –¢–∞–∫–∏–µ —Ä—É–∫–∏ –Ω–µ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –ø—Ä–∏–∫–∞—Å–∞—Ç—å—Å—è –∫ –≥–∏—Ç–∞—Ä–µ. –í—Å–µ –≤ —Å—Å–∞–¥–∏–Ω–∞—Ö, –≤—ä–µ–≤—à–∞—è—Å—è –≤ –Ω–∏—Ö –≥—Ä—è–∑—å –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –Ω–µ –æ—Ç–º—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å. –£–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π, –±–æ–ª—å—à–æ–π –∏ –±–µ–∑—ã–º—è–Ω–Ω—ã–π –ø–∞–ª—å—Ü—ã –Ω–∞ –æ–±–µ–∏—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö –∫–æ—Ä–∏—á–Ω–µ–≤—ã–µ –æ—Ç –∫—É—Ä–µ–≤–∞. –í–µ—Ä—Ö–Ω—è—è —Ñ–∞–ª–∞–Ω–≥–∞ –ª–µ–≤–æ–≥–æ —É–∫–∞–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ–≥–æ –ø–∞–ª—å—Ü–∞ –≤ –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –ø–æ—Ä–µ–∑–∞—Ö — —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç —Ä–µ–∑—å–±—ã –ø–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –í –∑–µ—Ä–∫–∞–ª–æ —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª —Å–µ–±—è —É–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–µ—Å—è—Ü–µ–≤.
— –ù—É —á—Ç–æ, –¥–∞–≤–∞–π —Å–±–∞—Ü–∞–π, –º–∞—ç—Å—Ç—Ä–æ, — –ø–æ–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –ö—é—Ä–∏.
–Ø —Å–±–∞—Ü–∞–ª «–ó–µ–º–ª—é –°–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤–∞». –ö—é—Ä–∏ –∑–∞–±–∞–ª–¥–µ–ª. –ü–æ—Ç–æ–º –µ—â—ë —Ä–∞–∑, —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –¥–ª—è –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞. –ò –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ –∂–µ «–ü–æ–µ–∑–¥ –Ω–∞ –ß–∞—Ç—Ç–∞–Ω—É–≥—É». –û–Ω –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü-—Ç–æ –ø–æ–Ω—è–ª, –∫–∞–∫–∏–µ —Å–ª–æ–≤–∞ —è –Ω–∞–ø–∏—Å–∞–ª –µ–º—É –≤ —Ç–µ—Ç—Ä–∞–¥–∫–µ –ø–æ –∞–Ω–≥–ª–∏–π—Å–∫–æ–º—É. –ö—é—Ä–∏ –Ω–∞—á–∞–ª –Ω–∞–ø–µ–≤–∞—Ç—å –º–Ω–µ —Å–≤–æ—é –ª—é–±–∏–º—É—é «–¢–∞–≥–∞–Ω–∫—É», –∞ —è — –ø–æ–¥–±–∏—Ä–∞—Ç—å –∞–∫–∫–æ—Ä–¥—ã. –ù–æ –¥–µ–ª–æ —É –Ω–∞—Å –Ω–µ –∑–∞–ª–∞–¥–∏–ª–æ—Å—å. –Ø –Ω–∏ —Ä–∞–∑—É –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª —ç—Ç–æ–π, —Ö–æ—Ç—è –∏ –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–æ–π, –Ω–æ, —Å—É–¥—è –ø–æ —Å–ª–æ–≤–∞–º, –ø–æ–ª—É–∑—ç–∫–æ–≤—Å–∫–æ–π –ø–µ—Å–Ω–∏. –ê –ö—é—Ä–∏ –Ω–µ –º–æ–≥ —Ç–æ—á–Ω–æ —Å–ø–µ—Ç—å –µ—ë. –ú—ã –º—É—á–∞–ª–∏—Å—å —á–∞—Å–∞ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –æ–Ω –≤–∑—è–ª –≥–∏—Ç–∞—Ä—É –∏ –∑–∞–ø–µ–ª —á—É–¥–Ω—É—é –ø–µ—Å–µ–Ω–∫—É –ø—Ä–æ –∫–∞–∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –º–∞–ª—å—á–∏—à–∫—É-—Ö—É–ª–∏–≥–∞–Ω–∞. –ö—É–ø–ª–µ—Ç–æ–≤ —Ç–∞–º –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ. –ü–æ—Ö–æ–∂–∞ –Ω–∞ —á–∞—Å—Ç—É—à–∫—É, –Ω–æ –Ω–µ —á–∞—Å—Ç—É—à–∫–∞ –≤ –∫–ª–∞—Å—Å–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –ø–æ–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–∏. –ö—é—Ä–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –µ—â—ë —Ç—Ä–∏ –¥–Ω—è, –∞ «–¢–∞–≥–∞–Ω–∫—É» –º—ã —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –ø–æ–¥–æ–±—Ä–∞–ª–∏. –≠—Ç–∏ —Ç—Ä–∏ –¥–Ω—è —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ—Ç–¥—É—à–∏–Ω–æ–π –¥–ª—è –Ω–∞—Å: –Ω–∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞, –Ω–∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞, –Ω–∏ –õ–µ—á–∏ –•—Ä–æ–º–æ–≥–æ. –î–∞–∂–µ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–≤—à–∏–π –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π –≤–µ–ª —Å–µ–±—è –ø—Ä–∏—Å—Ç–æ–π–Ω–æ –ø—Ä–∏ –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–µ — –±—Ä–∏–≥–∞–¥–Ω–æ–º –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª–µ –ú–∞—Å—Ö–∞–¥–æ–≤–∞, –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É—é—â–µ–º —é–≥–æ-–≤–æ—Å—Ç–æ—á–Ω—ã–º —Ñ—Ä–æ–Ω—Ç–æ–º –∏ –ø—Ä–µ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç–µ–ª–µ —Å–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏—Ö –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤.
–í –ø—è—Ç–Ω–∏—Ü—É –ö—é—Ä–∏ –∏—Å–ø–æ–ª–Ω–∏–ª–æ—Å—å 33 –≥–æ–¥–∞. –ê–Ω–∑–æ—Ä —Å –ò–ª—å–º–∞–Ω–æ–º –ø—Ä–∏—Ç–∞—â–∏–ª–∏ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å —Ç—Ä—ë—Ö –±–∞—Ä–∞—à–∫–æ–≤, –æ—Å–≤–µ–∂–µ–≤–∞–ª–∏ –∏—Ö –∏ —Ä–µ–∑–∞–ª–∏ –Ω–∞ —à–∞—à–ª—ã–∫–∏. –ü–æ —Å–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–º—É –ª–µ—Å—É –ø–æ–ø–æ–ª–∑ –∑–∞–ø–∞—Ö —Å–≤–µ–∂–µ–ø—Ä–∏–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ —à–∞—à–ª—ã–∫–∞. –ß–∞—Å—Ç—å –º—è—Å–∞ — –Ω–∞ –ª—é–±–∏—Ç–µ–ª—è — —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –∑–∞–º–∞—Ä–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—å –≤ —É–∫—Å—É—Å–µ. –ù–æ –≤–æ—Ç –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –±—É—Ç—ã–ª–æ—á–∫—É —Å —É–∫—Å—É—Å–Ω–æ–π –∫–∏—Å–ª–æ—Ç–æ–π –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–µ —Ä–µ—à–∞–ª–∏—Å—å. –ë–æ—è–ª–∏—Å—å –æ–±–∂–µ—á—å —Ä—É–∫–∏. –û–Ω–∏ –¥–æ–ª–≥–æ –≤–æ–∑–∏–ª–∏—Å—å —Å –ø—Ä–æ–±–∫–æ–π, –æ—Ç—Å–∫–∞–∫–∏–≤–∞–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –æ—Ç –ê–¥–∞–º–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—å –±—É—Ç—ã–ª–∫—É, –Ω–æ —Ç–∞–∫ —É –Ω–∏—Ö –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å. –ü–æ–∑–≤–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è. –Ø —Å—Ä–µ–∑–∞–ª –Ω–æ–∂–æ–º –ø—Ä–æ–±–∫—É –∏ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª –∏–º –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—É—é –±—É—Ç—ã–ª–∫—É. –•–æ–¥–∂–∏ –≤–∑—è–ª –µ—ë –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ, –¥–≤—É–º—è –ø–∞–ª—å—Ü–∞–º–∏.
— –¢—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ª–æ–∂–µ–∫ –ª–∏—Ç—å –Ω–∞ –∫–∞–∑–∞–Ω? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –õ–µ–π –ø–æ–ª–±—É—Ç—ã–ª–∫–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –¢—ã —á—Ç–æ! — —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è –æ–Ω. — –û—Ç—Ä–∞–≤–∏–º—Å—è, –∂–µ–ª—É–¥–∫–∏ –ø–æ–∂–∂—ë–º.
— –ù–µ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–π—Å—è, –•–æ–¥–∂–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –≠—Ç–æ –∂–µ –±—É–¥–µ—Ç —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–∞—Ä–∏–Ω–∞–¥. –¢–µ–º –±–æ–ª–µ–µ, –≤ –±—É—Ç—ã–ª–∫–µ –Ω–µ —ç—Å—Å–µ–Ω—Ü–∏—è, –∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∫–∏—Å–ª–æ—Ç–∞. –°–º–æ—Ç—Ä–∏.
–Ø –≤–∑—è–ª —É –Ω–µ–≥–æ –±—É—Ç—ã–ª–æ—á–∫—É, –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏–ª –∫ —è–∑—ã–∫—É –∏ –æ–ø—Ä–æ–∫–∏–Ω—É–ª –µ—ë —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ–±—ã –∫–∏—Å–ª–æ—Ç–∞ –ø–æ–ø–∞–ª–∞ –Ω–∞ —è–∑—ã–∫. –•–æ–¥–∂–∏ –æ—Ö–Ω—É–ª –∏ –∫–∏–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç–±–∏—Ä–∞—Ç—å —É –º–µ–Ω—è –±—É—Ç—ã–ª–∫—É —Å —É–∫—Å—É—Å–æ–º.
— –ê–¥–∞–º! — –∑–∞–∫—Ä–∏—á–∞–ª –æ–Ω. — –°–µ–π—á–∞—Å –æ–¥–Ω–∏–º –ø–æ–∫–æ–π–Ω–∏–∫–æ–º –±–æ–ª—å—à–µ —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç!
–ê–¥–∞–º –ø–æ–¥—Å–∫–æ—á–∏–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ –¥–∞–ª –∑–∞—Ç—Ä–µ—â–∏–Ω—É. –ö—é—Ä–∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª —ç—Ç–æ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª –ê–¥–∞–º–∞.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ç—ã –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—à—å –Ω–∞–¥–æ –ª–∏—Ç—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω.
— –ü–æ–ª–±—É—Ç—ã–ª–∫–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è, –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—è –Ω–∞ –ê–¥–∞–º–∞.
— –õ–µ–π—Ç–µ, — —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–¥–∏–ª—Å—è –æ–Ω.
–≠—Ç–∏ –ø–æ–ª–±—É—Ç—ã–ª–∫–∏ –•–æ–¥–∂–∏ –≤—Å—ë –∂–µ –Ω–∞–ª–∏–≤–∞–ª —Å—Ç–æ–ª–æ–≤—ã–º–∏ –ª–æ–∂–∫–∞–º–∏. –û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ.
–í –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø–æ–¥—Ç—è–≥–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤–µ—Å—å –æ—Ç—Ä—è–¥. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥—è—Ç —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–µ –Ω–∞–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, –∞ –æ–¥–∏–Ω —Å–∞–¥–∏—Ç—Å—è –∑–∞ —Å—Ç–æ–ª, –∏ –≤—Å—ë —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –Ø –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤–æ–∑–∏–ª—Å—è —Å –∫–æ—Å—Ç—Ä–æ–º –∏ —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ. –ß—Ç–æ-—Ç–æ –∑–Ω–∞–∫–æ–º–æ–µ –±—ã–ª–æ –≤ —ç—Ç–æ–π —Ä–æ–∂–µ.
–ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –ø–æ–¥–æ—à—ë–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: «–ß—Ç–æ? –ù–µ —É–∑–Ω–∞—ë—à—å? –Ø –∂–µ –°–∞–∏–¥!», –≤–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —É–∑–Ω–∞–ª –µ–≥–æ. –ü–æ—Ö—É–¥–µ–≤—à–∏–π, –∏–∑–º–æ–∂–¥—ë–Ω–Ω—ã–π. –û–Ω –º–µ–Ω—å—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ç–æ–≥–æ –±—Ä–∞–≤–æ–≥–æ —Å–ø–æ—Ä—Ç—Å–º–µ–Ω–∞-—Ñ—É—Ç–±–æ–ª–∏—Å—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ—Ç—á–µ–≤–∞–ª –Ω–∞—Å –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º –∫—Ä–∞–¥–µ–Ω—ã–º–∏ –∫—É—Ä–∞–º–∏, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –ó—É–±–æ–º –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª –≤ –¥–æ–º–µ –°–µ–ª–∏–º–∞ –ø–æ–¥ –®–∞—Ç–æ–µ–º.
— –Ø –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–ª —Ç–µ–±—è, –°–∞–∏–¥, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –ù–µ –º—É–¥—Ä–µ–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –≠—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å —è —É–∂–µ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –æ—Ç—ä–µ–ª—Å—è. –ê –ø–æ—Å–ª–µ –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –∏–∑ –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –∑–∞ —à–≤–∞–±—Ä–æ–π –ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è. –ú—ã –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–º –æ—Ç–ª—ë–∂–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ –±–æ–ª—å–Ω–∏—Ü–∞–º. –ü–æ–º–Ω–∏—à—å –ê—Å–ª–∞–Ω–∞?
— –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –ø–æ–º–Ω—é! — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ò–∑ –ö–æ–º—Å–æ–º–æ–ª—å—Å–∫–æ–≥–æ –µ–≥–æ –≤—ã—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–∞—Ö –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π. –û–Ω –±—ã–ª —Ç—è–∂–µ–ª–æ —Ä–∞–Ω–µ–Ω. –ê–±—É–±–∞–∫–∞—Ä–∞ –ø–æ–º–Ω–∏—à—å?
— –ê —á—Ç–æ —Å –Ω–∏–º?
— –í —Ç–æ–º-—Ç–æ –∏ –¥–µ–ª–æ, —á—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ. –û–Ω–∏ –ø—Ä–∏ –±–æ–º–±—ë–∂–∫–µ —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª–µ, –∏ — –ø—Ä—è–º–æ–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–µ —Ä–∞–∫–µ—Ç–æ–π –≤ —ç—Ç–æ—Ç –ø–æ–¥–≤–∞–ª. –ß–µ—Ç—ã—Ä–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Ç—Ä—É–ø–æ–≤, –∞ –Ω–∞ –Ω—ë–º — –Ω–∏ —Ü–∞—Ä–∞–ø–∏–Ω—ã. –¢–æ–ª—å–∫–æ –∫–æ–Ω—Ç—É–∑–∏–ª–æ.
–ü–æ —Ä—É—Å—Å–∫–∏–º –º–µ—Ä–∫–∞–º –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–æ–≤–∞–ª–∏ –¥–µ–Ω—å —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∫ –ö—é—Ä–∏, –ø–æ–∑–¥—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏, —á—Ç–æ-—Ç–æ –¥–∞—Ä–∏–ª–∏. –ù–æ –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –ø–∏–ª. –ó–∞—Å—Ç–æ–ª—å—è –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –¢–∞–∫, –∫—É—á–∫–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ –¥–≤–æ–µ-—Ç—Ä–æ–µ –∏ –∂—Ä–∞–ª–∏. –î–∞–∂–µ –¥–≤–∞ —è—â–∏–∫–∞ –≤–∏–Ω–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–µ –ø–æ –ø—Ä—è–º–æ–º—É –Ω–∞–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—é, –∞ –Ω–∞ –æ–±—Ä—ã–∑–≥–∏–≤–∞–Ω–∏–µ —à–∞—à–ª—ã–∫–æ–≤. –°–∫—É–∫–æ—Ç–∏—â–∞.
–°–∏–¥—è –ø–æ–¥ –∫—É—Å—Ç–æ–º, –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ:
— –í–æ—Ç —Ç–∞–∫–∏–µ –¥–µ–ª–∞, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä. –î–æ–º–∞ –∂—Ä–∞—Ç—å –Ω–µ—á–µ–≥–æ, —Ç–∞–∫ —Ö–æ—Ç—å –∑–¥–µ—Å—å –ø–æ–µ–º. –ö–∞–∫ —Ç—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, –Ω–∞ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ —á—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è?
— –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç—Å—è, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –¢–æ–≥–¥–∞ —è –∏ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞ –ø—Ä–∏–¥—É, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –¢—ã –≤–µ–¥—å –ª—é–±–∏—à—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –¥–µ–∂—É—Ä–∏—Ç –Ω–∞—à–∞ —Å–º–µ–Ω–∞?
–ò–ª—å–º–∞–Ω –∑–∞—Ä–∂–∞–ª –∏ –±–ª–µ—Å–Ω—É–ª –º–Ω–µ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –±–µ–ª—ë—Å—ã–º–∏ –∑–µ–Ω–∫–∞–º–∏. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ç–æ–∂–µ –∑–∞—Å—Ç—ã–ª–∞, —É—Å–ª—ã—à–∞–≤ –æ–±–µ—â–∞–Ω–∏–µ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ –ø—Ä–∏–π—Ç–∏ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Ä–∞–≤–Ω–æ–¥—É—à–Ω–æ –∂–µ–≤–∞–ª –º—è—Å–æ. –î–æ–±—Ä—ã–π —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –ò–ª—å–º–∞–Ω —É–∂–µ –æ–¥–∞—Ä–∏–ª –µ–≥–æ –∂–∏—Ä–Ω—ã–º –∫—É—Å–∫–æ–º. –í –ø–æ—Å–ª–µ–æ–±–µ–¥–µ–Ω–Ω–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞–º, –≤ –æ–±—â–µ–º, –∑–∞–ø—Ä–µ—â–∞–ª–æ—Å—å –µ—Å—Ç—å, –Ω–æ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –º—è—Å–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ –•–æ–¥–∂–∏ –ø—Ä–∏–Ω—ë—Å –Ω–∞–º –ø–æ–ª–Ω–æ–µ –±–ª—é–¥–æ –∏ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ–µ—Å—Ç—å. –í–æ—Ç —É–∂ –º—ã –æ—Ç–≤–µ–ª–∏ –¥—É—à—É! –ñ–∞–ª–∫–æ, —á—Ç–æ –±–µ–∑ —Ö–ª–µ–±–∞. –ö —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –≤–µ—Å—å —Ö–ª–µ–± –±—ã–ª —Å—ä–µ–¥–µ–Ω.
Проверка на пацана и обстрел «Градом»
¬Ý
20 –º–∞—è¬Ý2000¬Ý–≥–æ–¥–∞. –°–º–µ–Ω–∞ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã. –°–∞–º–æ–≥–æ –µ–≥–æ –Ω–µ—Ç. –û–Ω –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ. –°–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç –¥–∞–Ω—å —Å –≥—Ä—É–ø–ø–∏—Ä–æ–≤–æ–∫. –°–≤–µ—Ç–∞ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫. –ú—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –ø–∏–ª–∏–º –¥—Ä–æ–≤–∞. –ú–Ω–µ –ø–æ–º–∏–Ω—É—Ç–Ω–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å –µ–º—É –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –¥–≤—É—Ä—É—á–Ω—É—é –ø–∏–ª—É –Ω–∞–¥–æ –≤—ã—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–µ–±—è. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —Å–∞—á–∫—É–µ—Ç –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –¥–µ—Ä–∂–∏—Ç—Å—è –∑–∞ —Ä—É—á–∫—É –ø–∏–ª—ã, –æ—Ç—á–µ–≥–æ —Ç–∞—Å–∫–∞—Ç—å –µ—ë –º–Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç—è–∂–µ–ª–µ–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–¥–æ–µ–¥–∞–µ—Ç –≤—ã—Ç–∞–ª–∫–∏–≤–∞—Ç—å –ø–æ–ª–æ—Ç–Ω–æ –Ω–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ, —è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞—é —ç—Ç–æ–≥–æ. –ü—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Å–ø–æ—Ö–≤–∞—Ç—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∏ –≤—ã—Ç—è–≥–∏–≤–∞–µ—Ç –ø–∏–ª—É –Ω–∞ —Å–µ–±—è. –î–≤–∞-—Ç—Ä–∏ —Ü–∏–∫–ª–∞ –æ–Ω –µ—â–µ –ø–∏–ª–∏—Ç, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–µ—Ç —Å–∞—á–∫–æ–≤–∞—Ç—å. –ü—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–µ—Ç—Å—è.
–ú–Ω–µ –Ω–∞–¥–æ–µ–ª–æ —Ä—É–≥–∞—Ç—å—Å—è —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º. –Ø –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é, —á–µ–º –∏ –≤—ã—Ä–∞–∂–∞—é —Å–≤–æ–µ –Ω–µ–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–æ. –ü—É—Å—Ç—å —Ä—É–≥–∞–µ—Ç—Å—è —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, —ç—Ç–æ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç –µ–π –Ω–µ–∫–æ–µ —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–µ–Ω–∏–µ.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∑–æ–≤–µ—Ç –Ω–∞—Å –µ—Å—Ç—å. –ù–æ –º—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–µ–º –ø–∏–ª–∏—Ç—å. –ù—É–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∞ –ø–æ—Å—Ç—É–ø–∏–ª–∞ –Ω–µ –æ—Ç –Ω–µ—ë, –∞ –æ—Ç –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, — –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–æ –∫—Ä–∏—á–∏—Ç –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –ë–∞—Ä–∞–µ–≤, — –∏–¥–∏—Ç–µ –∂—Ä–∞—Ç—å!
–ú—ã –±—Ä–æ—Å–∞–µ–º –ø–∏–ª–∏—Ç—å –∏ –∏–¥–µ–º –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É. –í —ç—Ç–æ –∂–µ –≤—Ä–µ–º—è —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –°–∞–º–∞—à–µ–∫ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ê–Ω–∑–æ—Ä-–±–æ–∫—Å–µ—Ä. –í —Ä—É–∫–∞—Ö —É –Ω–µ–≥–æ –≥—Ä—è–∑–Ω–∞—è —á–∞—à–∫–∞ –∏ –≥–Ω—É—Ç–∞—è –∞–ª—é–º–∏–Ω–∏–µ–≤–∞—è –ª–æ–∂–∫–∞. –û–Ω –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫ –Ω–∞—à–µ–º—É –∫–æ—Å—Ç—Ä—É, –¥–µ–ª–æ–≤–∏—Ç–æ –∑–∞–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–µ—Ç –≤ –∫–æ—Ç–µ–ª–æ–∫ –∏ –Ω–∞–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–µ—Ç –≤ —á–∞—à–∫—É –º–∞–∫–∞—Ä–æ–Ω—ã.
— –ï—Å–ª–∏ –≤–∞–º –±—É–¥–µ—Ç –º–∞–ª–æ, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –æ–Ω, — –Ω–∞ –æ–±–µ–¥ —Å–≤–∞—Ä–∏—Ç–µ –±–æ–ª—å—à–µ.
–ú—ã –º–æ–ª—á–∏–º. –° –º–∞–∫–∞—Ä–æ–Ω–∞–º–∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä —Å–Ω–æ–≤–∞ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤ –ª–µ—Å.
–ö–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–µ–ª–∏, –°–≤–µ—Ç–∞ —Ç–∏—Ö–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –º–Ω–µ.
— –í—ã —Ç–∞–º –ø–∏–ª–∏–ª–∏, –∞ —è, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —Å–ª—ã—à–∞–ª–∞ –∫—Ä–∏–∫–∏ –∏ —Å—Ç–æ–Ω—ã.
— –¢—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, –ê–Ω–∑–æ—Ä –ø–æ–Ω–µ—Å –º–∞–∫–∞—Ä–æ–Ω—ã —Ç—É–¥–∞?
— –î–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –ï—Å–ª–∏ –±—ã –∫–æ–≥–æ —Å–≤–æ–µ–≥–æ –∫–æ—Ä–º–∏–ª, —Ç–æ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª –±—ã –±—Ä–∞—Ç—å –∏–∑ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –∫–æ—Ç–µ–ª–∫–∞.
–û–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∞–≤–∞. –ê–Ω–∑–æ—Ä –ø–æ–Ω–µ—Å –ø–∏—â—É –Ω–µ –º—É—Å—É–ª—å–º–∞–Ω–∏–Ω—É.
— –ê –≤ –∫–∞–∫–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ —Ç—ã —Å–ª—ã—à–∞–ª–∞ —Å—Ç–æ–Ω—ã? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –°–≤–µ—Ç—É.
–û–Ω–∞ –µ–¥–≤–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –∫–∏–≤–Ω—É–ª–∞ —Å —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –∏ —É—à–µ–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä.
— –≠–π, —Ç–∞–º! –£ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞! — –ø—Ä–∏–∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫. — –ü—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏—Ç–µ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å. –û—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–π—Ç–µ—Å—å –ø–∏–ª–∏—Ç—å!
–°–≤–µ—Ç–∞ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –æ—à–∏–±–∞–ª–∞—Å—å. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –≤ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –±—ã–ª–∏ –¥–≤–∞ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —è —Ö–æ–¥–∏–ª —Å –õ–µ—á–µ–π –∑–∞ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∞–º–∏. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, —É –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–æ–≤ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫? –ê –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å —ç—Ç–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç?
–ü–∏–ª–∏–ª–∏ –¥—Ä–æ–≤–∞ –µ—â—ë –æ–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞. –í –ª–∞–≥–µ—Ä–µ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –ê–Ω–∑–æ—Ä. –û–Ω –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –Ω–∞–º.
— –•–≤–∞—Ç–∏—Ç –ø–∏–ª–∏—Ç—å! — —Ä–∞—Å–ø–æ—Ä—è–¥–∏–ª—Å—è –æ–Ω. — –ü–æ—à–ª–∏ –∑–∞ –º–Ω–æ–π.
–ê–Ω–∑–æ—Ä –µ—Ö–∏–¥–Ω–æ —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è –∏ –ø–æ—Ç–∏—Ä–∞–ª —Ä—É–∫–∏. –ù–∏—á–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ —ç—Ç–æ –Ω–µ –ø—Ä–µ–¥–≤–µ—â–∞–ª–æ. –í –ª–∞–≥–µ—Ä–µ —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª–Ω–æ –Ω–∞—Ä–æ–¥—É. –ü–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –£–º–∞—Ä. –ê–Ω–∑–æ—Ä –æ—Ç –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–Ω–∏—è –Ω–∞—Ä–µ–∑–∞–ª –∫—Ä—É–≥–∏ –ø–æ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–π –ø–æ–ª—è–Ω–µ. –û–Ω –±—ã–ª –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–µ–Ω. –í —Ä—É–∫–∞—Ö —É –Ω–µ–≥–æ —Ü–µ–ª–ª–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤—ã–π –ø–∞–∫–µ—Ç, —Å–∫—Ä—É—á–µ–Ω–Ω—ã–π –∂–≥—É—Ç–æ–º. –û–Ω –ø–æ–¥–∂–µ–≥ –µ–≥–æ –∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é —Å –∂—É–∂–∂–∞–Ω–∏–µ–º –∫–∞–ø–∞—é—Ç –≥–æ—Ä—è—â–∏–µ –∫–∞–ø–ª–∏.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –æ–Ω –º–Ω–µ, — —Ä–∞–∑–¥–µ—Ç—å—Å—è –¥–æ –ø–æ—è—Å–∞.
–Ø —Å–Ω—è–ª —Ä—É–±–∞—à–∫—É.
— –ö–æ –º–Ω–µ, —è —Å–∫–∞–∑–∞–ª! — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –æ–Ω, –∏, –æ–±—Ä–∞—â–∞—è—Å—å –∫ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞–º, —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏.
–¢–µ –∑–∞—Ä–∂–∞–ª–∏.
— –ü—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–º, –∫–æ—Ä–æ—á–µ, –Ω–∞ –ø–∞—Ü–∞–Ω–∞, — —Ä–∞–∑—É—Ö–∞–±–∏—Å—Ç–æ —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å, —Å–∫–∞–∑–∞–ª –£–º–∞—Ä.
— –ü—Ä–∏–Ω—è—Ç—å —É–ø–æ—Ä –ª–µ–∂–∞! — —Å–Ω–æ–≤–∞ —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –º–Ω–µ –ê–Ω–∑–æ—Ä.
–Ø –ø–æ–≤–∏–Ω–æ–≤–∞–ª—Å—è. –û—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏ –ø–æ–¥—Ç—è–Ω—É–ª–∏—Å—å –∫ –Ω–∞–º.
— –û—Ç–∂–∏–º–∞–π—Å—è, — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä –∏ —è –Ω–∞—á–∞–ª –æ—Ç–∂–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –∑–µ–º–ª–∏ –Ω–∞ —Ä—É–∫–∞—Ö.
–ù–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –ø–æ—Ç–æ–º, –ø–æ—Ä–∞–∑–∏–ª–æ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–µ–Ω—è, –Ω–æ –¥–∞–∂–µ –õ–µ—á—É –•—Ä–æ–º–æ–≥–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å—Ç–æ—è–ª —á—É—Ç—å –ø–æ–æ–¥–∞–ª—å –∏ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞–ª –∑–∞ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥—è—â–∏–º. –ê–Ω–∑–æ—Ä –Ω–∞—á–∞–ª –º–Ω–µ –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É –∫–∞–ø–∞—Ç—å —Ä–∞—Å–ø–ª–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º –≥–æ—Ä—è—â–∏–º —Ü–µ–ª–æ—Ñ–∞–Ω–æ–º. –ö–∞–∂–¥–∞—è –∫–∞–ø–ª—è –∂—É–∂–∂–∞–ª–∞ –∏ –≤–ø–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ —Å–ø–∏–Ω—É –Ω–µ—Å—Ç–µ—Ä–ø–∏–º–æ–π –±–æ–ª—å—é. –ü–æ—Å–ª–µ –¥–µ—Å—è—Ç–æ–π —è –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏.
— –ö—Ç–æ —Ç–µ–±–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∏–ª –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è?! — –∑–∞–æ—Ä–∞–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä –∏ —Å —Ä–∞–∑–º–∞—Ö—É –¥–∞–ª –º–Ω–µ –ø–∏–Ω–∫–∞, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –õ–µ—á—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –Ω–∞–º, –∏ –∑–∞–º–æ–ª—á–∞–ª. –õ–µ—á–∞ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –º–æ—é —Å–ø–∏–Ω—É –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –û–¥–µ–≤–∞–π—Å—è.
–Ø –æ—Ç–¥–∏—Ä–∞–ª –æ—Ç —Å–ø–∏–Ω—ã –ø—Ä–∏–∫–ª–µ–∏–≤—à–∏–µ—Å—è –∫ –Ω–µ–π –∫–∞–ø–ª–∏. –í –≤–æ–∑–¥—É—Ö–µ –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –ø–∞—Ö–ª–æ —Å–≥–æ—Ä–µ–≤—à–∏–º –º—è—Å–æ–º. «–°–≤–æ–ª–æ—á–∏! –ú—É—Å–æ—Ä! –ó–≤–µ—Ä–∏!» — –¥—É–º–∞–ª —è –∏ —Å—Ç–∏—Å–∫–∏–≤–∞–ª –∑—É–±—ã –æ—Ç –±–æ–ª–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–¥–∫–∞—Ç—ã–≤–∞–ª–∞ —Å –∫–∞–∂–¥–æ–π —Å–µ–∫—É–Ω–¥–æ–π.
— –ù–∞–º–æ—á–∏ –∫–∞–∫—É—é-–Ω–∏–±—É–¥—å —Ç—Ä—è–ø–∫—É –∏ –ø—Ä–∏–ª–æ–∂–∏ –∫ —Å–ø–∏–Ω–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –õ–µ—á–∞ –∏ –æ—Ç–æ—à–µ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –Ø –Ω–∞–º–æ—á–∏–ª —Ä—É–±–∞—à–∫—É, –æ–¥–µ–ª. –°—Ç–∞–ª–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ª–µ–≥—á–µ.
— –ù–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä! — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –£–º–∞—Ä. — –¢—ã –ø—Ä–æ—à–µ–ª –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏–µ –Ω–∞ –ø–∞—Ü–∞–Ω–∞.
–£–º–∞—Ä –ª—é–±–∏–ª –ø–æ—Ö–≤–∞—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è –∑–Ω–∞–Ω–∏–µ–º —Ç—é—Ä–µ–º–Ω–æ–≥–æ –∂–∞—Ä–≥–æ–Ω–∞. –í–æ-–ø–µ—Ä–≤—ã—Ö, –≤—Å–µ –ª—é–¥–∏ –¥–µ–ª–∏–ª–∏—Å—å —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–∞ –ø–∞—Ü–∞–Ω–æ–≤ –∏ –Ω–µ –ø–∞—Ü–∞–Ω–æ–≤. –ê —É–∂ «–Ω–µ –ø–∞—Ü–∞–Ω—ã» –ø–æ–¥—Ä–∞–∑–¥–µ–ª—è–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ –∫–∞—Ç–µ–≥–æ—Ä–∏–π. –ú–µ–Ω—è –£–º–∞—Ä –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏–ª –∫ –±–µ–¥–æ–ª–∞–≥–∞–º.
–ê –º–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, –ê–Ω–∑–æ—Ä —Å–∫—Ä—É—Ç–∏–ª –Ω–æ–≤—ã–π –∂–≥—É—Ç –∏–∑ —Ü–µ–ª–ª–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤–æ–≥–æ –ø–∞–∫–µ—Ç–∞, –≤–∑—è–ª —É –£–º–∞—Ä–∞ –∑–∞–∂–∏–≥–∞–ª–∫—É –∏ —É—à–µ–ª –≤ –ª–µ—Å. –ú–∏–Ω—É—Ç–æ–π –ø–æ–∑–∂–µ –∑–∞ –Ω–∏–º —É–±–µ–∂–∞–ª –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫.
–Ø —à–∏–ª –¥–ª—è –õ–µ—á–∏ –ø–æ—è—Å–Ω–æ–π –ø–æ–¥—Å—É–º–æ–∫ –∏–∑ –∫–æ–∂–∏ —Å—Ç–∞—Ä—ã—Ö –±–æ—Ç–∏–Ω–æ–∫. –°–ø–∏–Ω–∞ –≥–æ—Ä–µ–ª–∞. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –∫–∞–∂–¥—ã–µ –ø—è—Ç—å-—Å–µ–º—å –º–∏–Ω—É—Ç —Å–º–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å —Ä—É–±–∞—Ö—É. –ù–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –∏–∑ –ª–µ—Å—É —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ–π –¥–æ–Ω–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å —Å—Ç–æ–Ω—ã.
–°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫ –æ–±–µ–¥—É. –ì–ª–∞–∑–∞ –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫–∞ –≥–æ—Ä–µ–ª–∏. –û–Ω –Ω–µ—Ç–µ—Ä–ø–µ–ª–∏–≤–æ –ø–æ–º–∞—Ö–∏–≤–∞–ª –≥–∏–±–∫–∏–º, –Ω–æ –∫—Ä–µ–ø–∫–∏–º –ø—Ä—É—Ç–æ–º –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞ –∏ –∑—ã—Ä–∫–∞–ª –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏ –ø–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∞–º. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≤–∑–≥–ª—è–¥ –µ–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –Ω–∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–µ. –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –Ω–µ–º—É –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –∏–∑–±–∏–≤–∞—Ç—å –ø—Ä—É—Ç–æ–º. –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —à–∞—Ä–∞—Ö–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É.
— –°—Ç–æ—è—Ç—å! — –∑–∞–æ—Ä–∞–ª –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –∏ –±–∏–ª –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –¥–æ —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ —Å–ª–æ–º–∞–ª—Å—è –ø—Ä—É—Ç.
— –ù–∞–ø–∏–ª—Å—è –∫—Ä–æ–≤–∏, — —à–µ–ø—Ç–∞–ª–∞ –º–Ω–µ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –≠—Ç–æ –æ–Ω–∏ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥—è—Ç —Ç–∞–∫–∏–µ.
— –û—Ç–∫—É–¥–∞ —Ç—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è –µ—ë.
— –°–∞–º —á—Ç–æ –ª–∏ –Ω–µ –≤–∏–¥–∏—à—å?!
— –¢—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, —Ç–∞–º —Å–æ–ª–¥–∞—Ç? — —Ç–∏—Ö–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
— –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –ê —Å–∫–æ—Ä–µ–µ, –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞–∫—Ç–Ω–∏–∫.
–û —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –∫ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–∞–∫—Ç–Ω–∏–∫–∞–º —á–µ—á–µ–Ω—Ü—ã –æ—Ç–Ω–æ—Å—è—Ç—Å—è –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ö—É–∂–µ, —á–µ–º –∫ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞–º –∏ –æ—Ñ–∏—Ü–µ—Ä–∞–º —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã—Ö —Å–∏–ª, –º—ã –∑–Ω–∞–ª–∏ –¥–∞–≤–Ω–æ. –î–∞–π –±–æ–≥, —á—Ç–æ–±—ã —Ç–æ–≥–æ –ø–∞—Ä–Ω—è –Ω–µ –∑–∞–º—É—á–∏–ª–∏ –¥–æ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏.
–ü—Ä–∏—à–ª–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –°–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –ø–æ—à–ª–∏ –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º. –í —Ä—É–∫–∞—Ö —É –∫–∞–∂–¥–æ–≥–æ –±—ã–ª–∏ –æ—Ä–µ—Ö–æ–≤—ã–µ –ø—Ä—É—Ç—å—è. –ü–æ–¥ –∏—Ö —É–¥–∞—Ä–∞–º–∏ –º—ã –±–µ–∂–∞–ª–∏ –¥–æ —Ä–µ–∫–∏. –ü–æ–¥ —É–¥–∞—Ä–∞–º–∏ –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª–∏ –±–∏–¥–æ–Ω, –∏, –µ–¥–≤–∞ –∂–∏–≤—ã–µ, –±–µ–∂–∞–ª–∏ —Å –ø–æ–ª–Ω—ã–º –±–∏–¥–æ–Ω–æ–º, —Å—Ç–∞—Ä–∞—è—Å—å —É–≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è –æ—Ç —É–¥–∞—Ä–æ–≤. –û—Å–æ–±–æ –±–æ–ª—å–Ω–æ –º–Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ —Å–ø–∏–Ω–µ. –Ý—É–±–∞—à–∫–∞ –ø—Ä–æ–ø–∏—Ç–∞–ª–∞—Å—å –∫—Ä–æ–≤—å—é. –Ø —Å —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –∑–∞–º–µ—á–∞–ª, —á—Ç–æ –º–æ–∫—Ä–∞—è –æ—Ç –∫—Ä–æ–≤–∏ —Ä—É–±–∞—à–∫–∞ —É–º–µ–Ω—å—à–∞–ª–∞ –±–æ–ª—å –æ—Ç –æ–∂–æ–≥–æ–≤.
–≠—Ç–æ—Ç –¥–µ–Ω—å —Ç—è–Ω—É–ª—Å—è –¥–æ–ª–≥–æ. –í–µ—á–µ—Ä–Ω—é—é –º–æ–ª–∏—Ç–≤—É –º—ã –¥–æ–∂–¥–∞–ª–∏—Å—å –∏ –ø–æ–±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª–∏ –∞–ª–ª–∞—Ö–∞, —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –µ—Å—Ç—å. –ù–∞—Å –∑–∞–∫–æ–≤–∞–ª–∏ –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏, –∏, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –ø–æ–∫–æ–µ. –ê–Ω–∑–æ—Ä –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º –≥–æ–ª–æ—Å–æ–º:
— –ë–∏—Å–º–∏–ª–ª—è—Ö –∏—Ä —Ä–æ—Ö–º–∞–Ω–∏ —Ä–æ—Ö–∏–º. –ê–ª—å—Ö–∞–º–¥—É–ª–ª–∏–ª–∞ —Ö—Ç–∏ —Ä–æ–±–±–∏–ª—å –∞–ª—è–º–∏–Ω…
–Ø –¥–∞–≤–Ω–æ —É–∂–µ –≤—ã—É—á–∏–ª —ç—Ç—É –º–æ–ª–∏—Ç–≤—É –Ω–∞–∏–∑—É—Å—Ç—å. –ù–∞—á–∞–ª —É–∂–µ –∑–∞—Å—ã–ø–∞—Ç—å. –ù–æ –º–æ–ª–∏—Ç–≤–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å, –∏ —ç—Ç–∞ –º–µ—Ä–∑–æ—Å—Ç—å –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª–∞ –ø–µ—Å–Ω—é. –≠—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, —á—Ç–æ –ø–µ—Ç—å –¥–æ–ª–∂–µ–Ω —è. –ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª «–≠—Ö, –¥–æ—Ä–æ–≥–∏», –∫–∞–∫ –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π –º–µ–Ω—è –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª.
— –ü—É—Å—Ç—å –ø–æ–µ—Ç –°–≤–µ—Ç–∞, — –ø—Ä–∏–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
–î–µ–ª–æ —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–±—Ä–µ—Ç–∞–ª–æ –¥—É—Ä–∞—Ü–∫–∏–π –∏ –∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π –æ–±–æ—Ä–æ—Ç. –ù–∞–¥–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–µ—Ç—å, –∫–∞–∫ —É–º–µ–µ—à—å, –∞ –æ–Ω–∏ —Å–∞–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤—è—Ç. –ù–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ –∂–µ —Å–ª—É—à–∞—Ç—å, –∫–∞–∫ –ø–æ–µ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –Ω–µ —É–º–µ—é—â–∏–π —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å. –ù—É, –ø–æ—Å–º–µ—é—Ç—Å—è. –ù—É, –ø–æ–ø—Ä–∏–∫–∞–ª—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è. –ù–æ –±–∏—Ç—å –Ω–µ –±—É–¥—É—Ç. –≠—Ç–æ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –∂–µ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞ –≤ —ç—Ç–∏—Ö —Å–ª—É—á–∞—è—Ö –∫–æ—á–µ–≤—Ä—è–∂–∏—Ç—å—Å—è: –Ω–µ —É–º–µ—é, –Ω–µ –∑–Ω–∞—é –∏ –ø—Ä–æ—á–µ–µ. –ò —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç –±—ã–ª –æ–¥–∏–Ω: –ø–æ—Å–ª–µ –ø–æ–±–æ–µ–≤ –ø–µ—Ç—å –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏. –ì—Ä—É–¥–Ω—ã–º –≥–æ–ª–æ—Å–∞–º –æ–Ω–∞ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∑–∞–ø–µ–≤–∞–ª–∞ «–ù–∞—à –ø–∞—Ä–æ–≤–æ–∑, –≤–ø–µ—Ä–µ–¥ –ª–µ—Ç–∏…» –ù–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è –±—ã–ª –æ—Å–æ–±—ã–π –¥–µ–Ω—å. –°–µ–≥–æ–¥–Ω—è –æ–Ω–∏ –Ω–∞–ø–∏–ª–∏—Å—å –∫—Ä–æ–≤–∏. –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–π —Å–æ–≤–æ–∫ –¥–ª—è –º—É—Å–æ—Ä–∞ –∏ –ø–æ–ª–µ–∑ –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö, –∫ –Ω–∞–º. –û–Ω –≤ –∫—Ä–æ–≤—å –∏–∑–±–∏–ª –Ω–æ–≥–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –î–æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –∏ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É. –î–æ –º–µ–Ω—è –∫—Ä–æ–≤–æ–ø–∏–π—Ü–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª. –ê –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –≤—Å–µ –∂–µ –∑–∞–ø–µ–ª–∞ —Å–∫–≤–æ–∑—å —Å–ª–µ–∑—ã –∏ —Å–æ–ø–ª–∏. –ü–æ—Ç–æ–º —Å–ø–µ–ª –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π. –ù–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –ø–æ–∫–æ–µ –∏ –º–µ–Ω—è.
–°—Ä–∞–∑—É –ø–æ—Å–ª–µ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—ã –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ —É—à–µ–ª –∫ –ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–º—É. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è, —Å—Ç–∞–ª –∏—Å–∫–∞—Ç—å –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–≥, —á—Ç–æ–±—ã –µ—â–µ –∫–æ–≥–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –ø–æ–º—É—á–∏—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –µ–º—É —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–∞ –ø–µ—Ç—å, –æ–Ω —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –ø–∞–ª–∫—É –∏ –Ω–∞—á–∞–ª –µ—é –±–∏—Ç—å –Ω–∞—Å –≤—Å–µ—Ö. –¢—É—Ç —É–∂ –±–µ–∑ —Ä–∞–∑–±–æ—Ä—É. –í—Å–µ —ç—Ç–æ —Å–≤–∏–Ω—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∫–∞–Ω–æ–Ω–∞–¥–∞ –Ω–æ—á–Ω–æ–≥–æ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ª–µ—Å–∞. –í—Å–µ –ø—Ä–∏—Ç–∏—Ö–ª–∏. –Ø –∑–∞—Å–Ω—É–ª –ø–æ–¥ –∫–∞–Ω–æ–Ω–∞–¥—É. –Ý–∞–Ω—å—à–µ –Ω–µ –º–æ–≥, –∞ –≤–æ—Ç —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –∑–∞—Å–Ω—É–ª.
–ù–∞ —É—Ç—Ä–æ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø—Ä–∏—à–µ–ª –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π. –û—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∏ –ø–æ –æ–¥–Ω–æ–º—É, –ø–æ –¥–≤–æ–µ, —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –º—É—á–∏—Ç—å —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏—Å—å –∑–∞ –Ω–∞—Å. –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –±–æ–ª—å—à–µ, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –æ–Ω –Ω–µ –±—ã–ª –∑–∞–Ω—è—Ç —Ä–∞–±–æ—Ç–æ–π. –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –≤ –≥–∞–º–∞–∫ –∏ —Å—Ç–∞–ª–∏ —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ —É–¥–µ—Ä–∂–∏–≤–∞–ª—Å—è –∏ –≤—ã–ª–µ—Ç–∞–ª –æ—Ç—Ç—É–¥–∞. –ü–∏–Ω–∫–∞–º–∏ –µ–≥–æ —Å–Ω–æ–≤–∞ –∑–∞–≥–æ–Ω—è–ª–∏ –≤ –≥–∞–º–∞–∫ –∏ —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –µ—Å—Ç—å —Å–∏–ª. –Ø —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –¥–æ–±–µ—Ä—É—Ç—Å—è –¥–æ –º–µ–Ω—è. –û–Ω–∏ —É–∂–µ —à–ª–∏ –∫–æ –º–Ω–µ, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –≤–æ—à–µ–ª –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤ –∏ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. –í—Å–µ —Å—Ä–∞–∑—É —Å—Ç–∞–ª–∏ –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–≤—É –Ω–∏–∂–µ, –Ω–æ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –∑–ª–æ –±–ª–µ—Å–Ω—É–ª–∏ –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≥–ª–∞–∑–∞ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞.
–Ø –Ω–µ –∑–Ω–∞—é, —á—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –∏–º –ö—é—Ä–∏, –Ω–æ –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä, –∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω –æ—Ç–æ—à–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–∫—É –∏ —Å–æ–≤–µ—â–∞–ª–∏—Å—å. –ü–æ—Ç–æ–º –ê–Ω–∑–æ—Ä –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –±–∏–¥–æ–Ω—É —Å –≤–æ–¥–æ–π, —á—Ç–æ–±—ã —è–∫–æ–±—ã –Ω–∞–ø–∏—Ç—å—Å—è, —Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª –µ–≥–æ –∫–æ–ª–µ–Ω–∫–æ–π –∏ –æ–ø—Ä–æ–∫–∏–Ω—É–ª. –í–æ–¥–∞ –≤—ã–ª–∏–ª–∞—Å—å.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä! — –∑–∞–≤–æ–ø–∏–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –≠—Ç–æ —Ç—ã —Ç–∞–∫ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –±–∏–¥–æ–Ω, —á—Ç–æ –æ–Ω –µ–¥–≤–∞ —Å—Ç–æ—è–ª? –°–æ–±–∏—Ä–∞–π—Ç–µ—Å—å —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π! –ë—ã—Å—Ç—Ä–æ!
«–ë—É–¥—É—Ç –±–∏—Ç—å» –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è. –ú—ã —Å —Ç–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –ø—Ä–∏–≤—è–∑–∞–ª–∏ –±–∏–¥–æ–Ω –∫ –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω–µ –∏ –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª–∏ –µ–µ –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–∏. –ò–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è –≤—ã—à–ª–∏ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ, –Ω–æ, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è –∑–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏, —ç—Ç–∏ –¥–≤–∞ –±–µ—à–µ–Ω—ã—Ö –∫–æ–∑–ª–∞ –ø–æ–≥–Ω–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å –±–µ–≥–æ–º, –ø–æ–¥–≥–æ–Ω—è—è –ø–∏–Ω–∫–∞–º–∏ –∏ –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥–∞–º–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–≤. –ü–æ–∫–∞ –º—ã –Ω–∞–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤–æ–¥—É, –±–∏–ª–∏ –ø–∞–ª–∫–∞–º–∏, –∞ –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º—ã –ø–æ–¥–≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å –∫ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, —Å—Ç–∞–ª–∏ –∏–∑–±–∏–≤–∞—Ç—å –∫—É–ª–∞–∫–∞–º–∏. –ê–Ω–∑–æ—Ä –±–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞, –ò–ª—å–º–∞–Ω — –º–µ–Ω—è. –ö—É–ª–∞—á–∏—â–∏ —É –Ω–µ–≥–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–µ. –ë–∏–ª –ø–æ —Ä–µ–±—Ä–∞–º —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Ç—Ä–µ—â–∞–ª–∏. –Ø –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–æ—Å—å, –∏ –∫–∞–∫ —è –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ, –Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏, –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞ –º–æ–∏ –ø–ª–æ—Ö–∏. –í—Å—è–∫–æ–µ –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –≤—ã–∑—ã–≤–∞–ª–æ –¥–∏–∫—É—é –±–æ–ª—å.
— –°—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ –±–∏–¥–æ–Ω! — –æ—Ä–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω. — –ë–µ–≥–æ–º –º–∞—Ä—à!
–ö–∞–∫–æ–π —Ç–∞–º –±–µ–≥–æ–º! –î–æ–ø–æ–ª–∑—Ç–∏ –±—ã… –ù–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –±–µ–∂–∞—Ç—å. –ò–Ω–∞—á–µ —É–±–∏–ª–∏ –±—ã. –£ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –≥—É–± –∑–∞—Å–æ—Ö–ª–∞ –±–µ–ª–∞—è –ø–µ–Ω–∞, —É –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ — –∫—Ä–æ–≤—å. –°–µ–±—è —è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –Ω–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –≤–±–µ–∂–∞–ª–∏ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å, –¥—É–º–∞–ª, —á—Ç–æ —É–∂–µ —É–º–µ—Ä. –ê —Ç—É—Ç –µ—â–µ –ö—é—Ä–∏ —É—Ä–æ–Ω–∏–ª –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ –ø–æ–¥ –Ω–∞—Ä—ã –æ–±–æ–π–º—É –∏ –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –µ–µ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å. –í –¥—Ä—É–≥–æ–µ –±—ã –≤—Ä–µ–º—è — –¥–µ–ª–æ –Ω–µ —Ö–∏—Ç—Ä–æ–µ. –¢—É–¥–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –ø–æ–¥–ª–µ–∑—Ç—å, –Ω–æ —è —ç—Ç–æ –ø—Ä–æ–¥–µ–ª—ã–≤–∞–ª –Ω–µ —Ä–∞–∑, —É–±–∏—Ä–∞—è—Å—å –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ. –ê —Å–µ–π—á–∞—Å…
–°–∫—Ä–∏–ø—è –∑—É–±–∞–º–∏ –æ—Ç –±–æ–ª–∏, –ø—Ä–æ—Ç–∏—Å–∫–∏–≤–∞–ª—Å—è –º–µ–∂–¥—É –¥–µ—Ä–µ–≤—è–Ω–Ω—ã—Ö —Å—Ç–æ–µ–∫, –¥–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –¥–æ –æ–±–æ–π–º—ã –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞–∑–∞–¥ –º–Ω–µ –Ω–µ –≤—ã–ª–µ–∑—Ç–∏. –ú–∏–Ω—É—Ç –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –ø—Ä–æ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –∑–∞–¥–Ω–∏–º —Ö–æ–¥–æ–º, –Ω–æ –±–æ–ª—å –≤ –≥—Ä—É–¥–Ω–æ–π –∫–ª–µ—Ç–∫–µ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤—Å–µ —Å–∏–ª—å–Ω–µ–µ –∏ –Ω–µ—Å—Ç–µ—Ä–ø–∏–º–µ–µ. –Ø –ø–æ–∑–≤–∞–ª –Ω–∞ –ø–æ–º–æ—â—å –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞. –¢–æ—Ç –ø—Ä–∏—à–µ–ª, —É–¥–∏–≤–∏–ª—Å—è –ø—Ä–æ—Å—å–±–µ, –Ω–æ –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ –Ω–æ–≥–∏ –∏–∑-–ø–æ–¥ –Ω–∞—Ä. –Ø –µ–º—É —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —É –º–µ–Ω—è, –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —Å–ª–æ–º–∞–Ω—ã —Ä–µ–±—Ä–∞. –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –≤–µ–ª–µ–ª —Ä–∞–∑–¥–µ—Ç—å—Å—è. –ü–æ—â—É–ø–∞–ª —Ä–µ–±—Ä–∞ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –í–æ—Ç —ç—Ç–∏ –¥–≤–∞. –û—á–µ–Ω—å –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–ª–æ–º. –Ý–µ–Ω—Ç–≥–µ–Ω–∞ —É –Ω–∞—Å –Ω–µ—Ç, –Ω–æ –Ω—É–∂–Ω–æ —Ç—É–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–≤—è–∑–∞—Ç—å —á–µ–º-–Ω–∏–±—É–¥—å. –ê —ç—Ç–æ —á—Ç–æ —É —Ç–µ–±—è –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω–µ? — –æ–Ω —É–≤–∏–¥–µ–ª —Å–ª–µ–¥—ã –ø–æ–±–æ–µ–≤ –ø–∞–ª–∫–æ–π –∏ –æ–∂–æ–≥–∏ –æ—Ç —Ü–µ–ª–ª–æ—Ñ–∞–Ω–∞.
–Ø —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª, –∞ –µ–≥–æ –ª–∏—Ü–æ –≤—Å–µ –±–æ–ª—å—à–µ —Å–µ—Ä–µ–ª–æ. –û–Ω –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Å–Ω–æ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞—Å –∏–∑–±–∏–ª–∏ –≤ –ø–∏–∫—É –ö—é—Ä–∏, –≤ –ø–∏–∫—É –µ–º—É —Å–∞–º–æ–º—É, –Ω–æ —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å — –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª.
–ö–æ–≥–¥–∞ —è –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –æ–±—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞–ª–∞ —Ä–∞–Ω—ã –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É. –ü–æ—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–µ –∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª–∏ –º–æ—é –≥—Ä—É–¥–Ω—É—é –∫–ª–µ—Ç–∫—É –≥—Ä—è–∑–Ω–æ–π –ø—Ä–æ—Å—Ç—ã–Ω–µ–π. –°—Ç–∞–ª–æ –ø–æ–ª–µ–≥—á–µ.
–£—Ç—Ä–æ 3 –∏—é–Ω—è –≤—ã–¥–∞–ª–æ—Å—å –¥–æ–∂–¥–ª–∏–≤–æ–µ. –ï–¥–≤–∞ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è –¥–æ–∂–¥—å, –º—ã –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—å —Å–µ–±–µ —Å–∫—É–¥–Ω—ã–π –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫. –ö–æ—Å—Ç–µ—Ä –¥–æ–ª–≥–æ –Ω–µ —Ä–∞–∑–≥–æ—Ä–∞–ª—Å—è –∏ –¥—ã–º–∏–ª. –°–≤–µ—Ç–∞ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–∞—á–∫—É «–ú–∞–∫—Ñ—ã». –ú–∞–∫–∞—Ä–æ–Ω—ã –ø—Ä–æ–º–æ–∫–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –≤ —Ü–µ–ª–ª–æ—Ñ–∞–Ω–æ–≤–æ–π —É–ø–∞–∫–æ–≤–∫–µ. –ú—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∏ –±–∏–¥–æ–Ω, —á—Ç–æ–±—ã –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π. –í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–æ—Å—å –¥–∞–ª–µ–∫–æ–µ «–¥—É-–¥—É-–¥—É-–¥—É». –í—Å–µ –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞–ª—å–Ω–æ –∑–∞–º–æ–ª—á–∞–ª–∏ –∏ –∑–∞–º–µ—Ä–ª–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –∞—Ö–Ω—É–ª–æ, –∫–∞–∫ –≤ –±–∞—Ä–∞–±–∞–Ω—ã. –í–∑—Ä—ã–≤—ã —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤ «–ì—Ä–∞–¥–∞» –Ω–∞–∫—Ä—ã–ª–∏ –ø–æ–ª–æ—Å—É –±–ª–∏–∂–µ, —á–µ–º –≤ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–µ –∫ —é–≥—É –æ—Ç –ª–∞–≥–µ—Ä—è. –í—Å–µ –æ–±–ª–µ–≥—á–µ–Ω–Ω–æ –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É–ª–∏, –Ω–æ –Ω–µ —É—Å–ø–µ–ª–∏ —Å–¥–≤–∏–Ω—É—Ç—å—Å—è —Å –º–µ—Å—Ç, –∫–∞–∫ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –Ω–æ–≤–æ–µ «–¥—É-–¥—É-–¥—É-–¥—É». –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–Ω–æ–µ –æ–∂–∏–¥–∞–Ω–∏–µ. –ß–µ—Ä–µ–∑ –ø–∞—Ä—É —Å–µ–∫—É–Ω–¥ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π —Å–≤–∏—Å—Ç –ø–∞–¥–∞—é—â–∏—Ö —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤, –∞ –µ—â–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ — –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π —Ç—Ä–µ—Å–∫ –≤–∑—Ä—ã–≤–æ–≤. –≠—Ç–æ—Ç —Ç—Ä–µ—Å–∫ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–æ: –≤–∑—Ä—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä—è–º–æ —É –Ω–∞—Å –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –ö—Ä–∞–µ–º –≥–ª–∞–∑–∞ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ–¥–ª–æ–º–∏–ª–æ—Å—å —á—É—Ç—å –≤—ã—à–µ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω—ã –∏ –ø–∞–¥–∞–µ—Ç –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –Ω–∞—à –∫–æ—Å—Ç–µ—Ä —Å—Ç–æ—è—â–µ–µ —Ä—è–¥–æ–º –¥–µ—Ä–µ–≤–æ. –ó–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∞ –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É, –∞ –ø–∞–¥–∞—é—â–µ–µ —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –¥–µ—Ä–µ–≤–æ —á—É—Ç—å –∑–∞–¥–µ–ª–æ –µ—ë –≤–µ—Ç–∫–æ–π. –õ–∏—Å—Ç—å—è –∏ –º–µ–ª–∫–∏–µ –≤–µ—Ç–≤–∏, –ø–æ—Å–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∞–º–∏ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤, –≥—É—Å—Ç–æ –ø–∞–¥–∞–ª–∏ –Ω–∞ –ø–æ–ª—è–Ω—É –ª–∞–≥–µ—Ä—è. –í—Å–µ –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –ù–∞—Å –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏ «–ì—Ä–∞–¥–æ–º».
–ü–µ—Ä–µ–¥ –≤—Ö–æ–¥–æ–º –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —É–ø–∞–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–≥–æ –ø–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å –•–æ–¥–∂–∏, –Ω–æ –ø–æ—Å–∫–æ–ª—å–∑–Ω—É–ª—Å—è –≤ –≥—Ä—è–∑–∏ –∏ —É–ø–∞–ª —Ä—è–¥–æ–º. –Ø —Ä–≤–∞–Ω—É–ª –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É –∏ —Å –¥–æ—Å–∞–¥–æ–π –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ —Å–∫–æ–ª—å–∑—è—Ç –º–æ–∏ –±–æ—Ç–∏–Ω–∫–∏ –≤ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ–π –≥—Ä—è–∑–∏ –¥–æ–±—Ä–æ—Ç–Ω–æ–≥–æ —á–µ—Ä–Ω–æ–∑–µ–º–∞. –í—Ä–µ–º—è –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–æ –∑–∞–º–µ–¥–ª–∏–ª–æ—Å—å. –Ø –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ —É–∂–µ –º–æ–≥—É –±—ã—Ç—å —Ä–∞–Ω–µ–Ω—ã–º, –Ω–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç—å —ç—Ç–æ–≥–æ –≤ –≥–æ—Ä—è—á–∫–∞—Ö. –Ø –±—É–∫–≤–∞–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏—Å–∫–∏–≤–∞–ª—Å—è —á–µ—Ä–µ–∑ –≤—è–∑–∫–∏–π –≤–æ–∑–¥—É—Ö, —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏–µ –º—ã—à—Ü –∏ —Å—É—Ö–æ–∂–∏–ª–∏–π — –Ω–µ –ø–æ—Ä–≤–∞—Ç—å –±—ã. –ê —Å–≤–µ—Ä—Ö—É «—Ç—Ä–µ—Å–∫», «—Ç—Ä–µ—Å–∫» –∏ «–≤—Ü—Å—Å—Å», «–≤—Ü—Å—Å—Å» — —ç—Ç–æ —Å–µ–∫—É—Ç –≤–µ—Ç–≤–∏ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏. –ê –º–æ–∂–µ—Ç, –∏ –º–µ–Ω—è —É–∂–µ –ø–æ—Å–µ–∫–ª–∏, –¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è –ø–æ–∫–∞ –µ—â–µ –Ω–µ –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª. –ê –º–æ–∂–µ—Ç, –∏ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞ –∑–∞–¥–µ–ª–æ. –û–Ω –ª–µ–∂–∏—Ç, –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–≤ —Ä—É–∫–∞–º–∏ –≥–æ–ª–æ–≤—É. –ö–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ, –Ω–µ –ø–æ–º–Ω—é. –ú–µ–Ω—è –∫—Ç–æ-—Ç–æ –æ—â—É–ø—ã–≤–∞–ª. –°–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª, –Ω–µ —Ä–∞–Ω–µ–Ω –ª–∏. –ö –º–æ–µ–º—É —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏—é, —ç—Ç–æ –±—ã–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω.
— –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –≤—Å–µ –≤ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è –∏ —Ç—É—Ç –∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –≤ —É—Ö–æ.
–°–≤–µ—Ç–∞ –∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ —Ç–æ–∂–µ –±—ã–ª–∏ –∑–¥–µ—Å—å. –õ–µ–∑—Ç—å –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å. –¢–∞–º –º—ã –±—ã–ª–∏ –±–æ–ª–µ–µ —É—è–∑–≤–∏–º—ã –ø—Ä–∏ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏–∏ —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º. –ù–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –∑–∞–ª–µ–∑—Ç—å –Ω–∞–≤–µ—Ä—Ö. –ó–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏. –î–∞ –µ—â–µ –∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏. –ê —Ç—É—Ç –Ω–æ–≤—ã–π –∑–∞–ª–ø — –∏ –æ–ø—è—Ç—å —Å–Ω–∞—Ä—è–¥—ã —Ä–≤—É—Ç—Å—è –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º. –°–ø–∞—Å–∏–±–æ —Ç–µ–±–µ, –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ª–µ—Å. –°–≤–æ–∏–º–∏ –≤–µ–∫–æ–≤—ã–º–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è–º–∏ —Ç—ã —Å–ø–∞—Å–∞–ª –Ω–∞—Å. –ù–∏ –æ–¥–∏–Ω —Å–Ω–∞—Ä—è–¥ –Ω–µ –¥–æ–ª–µ—Ç–∞–ª –¥–æ –∑–µ–º–ª–∏.
–°–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –∑–∞–ª–ø –Ω–∞–∫—Ä—ã–ª –ø–æ–ª–æ—Å—É —Å–µ–≤–µ—Ä–æ-–∑–∞–ø–∞–¥–Ω–µ–π –ª–∞–≥–µ—Ä—è –∏ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è. –ù–∞–¥–æ –±—É–¥–µ—Ç –ø–æ–¥–æ–π—Ç–∏ –∫ –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤—É —Å –Ω–∞—à–∏–º —Å–∞–º—ã–º –±–æ–ª—å–Ω—ã–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –æ –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä–∞—Ö –ø–æ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—é. –ö—é—Ä–∏ –¥–æ–±—Ä—ã–π, –µ—Å–ª–∏ –¥–∞–∂–µ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø—Ä–æ–∏—Å—Ö–æ–¥–∏—Ç, —Å–æ–≤—Ä–µ—Ç, —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç. –ñ–∏—Ç—å —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç –ª–µ–≥—á–µ, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞—à–µ —Å—É—â–µ—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–Ω–∏–µ –º–æ–∂–Ω–æ –Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å –∂–∏–∑–Ω—å—é.
–ö—é—Ä–∏ –±—ã–ª –æ–±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–µ–Ω, –æ—Ç–¥–∞–≤–∞–ª –∫–∞–∫–∏–µ-—Ç–æ —É–∫–∞–∑–∞–Ω–∏—è, –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –±–µ–≥–∞–ª–∏. –û–Ω –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª, –≤–µ–ª–µ–ª —Å–Ω—è—Ç—å —Å –Ω–∞—Å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ü–æ–∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫–∞–π—Ç–µ –∏ –±—É–¥—å—Ç–µ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã…
–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –µ–≥–æ –æ—Ç–≤–ª–µ–∫–ª–∏, –∞ –Ω–∞—Å –≤—ã—Ç–æ–ª–∫–∞–ª–∏ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü—É. –û–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π —Å—Ç–≤–æ–ª –ª–µ–∂–∞–ª –ø—Ä—è–º–æ —É –Ω–∞—Å –Ω–∞ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∏—â–µ. –Ø –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, –∫–∞–∫ –ö—é—Ä–∏, –æ–¥–µ—Ç—ã–π –≤ –∫—Ä–∞—Å–Ω—É—é –º–∞–π–∫—É, —É—Ö–æ–¥–∏—Ç –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –°–∞–º–∞—à–µ–∫.
–ö–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –Ω–µ–∑–Ω–∞–∫–æ–º—ã–π –±–æ–µ–≤–∏–∫.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–µ—à—å? — –æ–Ω –¥–æ–±—Ä–æ–¥—É—à–Ω–æ —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è, –∞ —è –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ —Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å. –í–∏–¥–µ–ª –µ–≥–æ, –∫–∞–∫-–±—É–¥—Ç–æ, –≤–ø–µ—Ä–≤—ã–µ. –ë–æ–µ–≤–∏–∫, –∞ –º–æ–∂–µ—Ç –∏ –Ω–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫, –≤–µ–¥—å –æ–Ω –±—ã–ª –æ–¥–µ—Ç –≤ –≥—Ä–∞–∂–¥–∞–Ω—Å–∫–æ–µ, –º–∞—Ö–Ω—É–ª —Ä—É–∫–æ–π –∏ —É—Å–µ–ª—Å—è –≤ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—É—Ö—É—é —Ç—Ä–∞–≤—É –ø–æ–¥ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ–º. –Ø –æ–±–ª–µ–≥—á–µ–Ω–Ω–æ –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É–ª. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª —Å–¥–≤–∏–Ω—É—Ç—å —Å—Ç–≤–æ–ª –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ —Å –∫–æ—Å—Ç—Ä–∏—â–∞. –ë–µ—Å–ø–æ–ª–µ–∑–Ω–æ. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, –Ω–∞–≥–Ω—É–≤—à–∏—Å—å, –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä—è–ª–∞ —Ü–µ–ª–æ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–∞—à–∏—Ö –∑–∞–ø–∞—Å–æ–≤ –ø–∏—â–∏. –û–Ω–∞ –ø—Ä–æ—à–µ–ø—Ç–∞–ª–∞ –º–Ω–µ:
— –¢—ã —á—Ç–æ? –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –µ–≥–æ –Ω–µ —É–∑–Ω–∞–ª? –≠—Ç–æ –∂–µ –ó—É–±!
–ß–µ—Ä—Ç –≤–æ–∑—å–º–∏! –¢–æ–ª—å–∫–æ –ó—É–±–∞ –µ—â–µ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª–æ! –ù–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –µ—â–µ –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –Ω–∞—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª—Å—è —ç—Ç–æ—Ç —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å —Ç–µ—Ö –ø–æ—Ä, –∫–∞–∫ –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª –Ω–∞—Å –≤ –ì—Ä–æ–∑–Ω–æ–º. –û–Ω –ø–æ–≤–æ–µ–≤–∞–ª.
–í—Å–µ–≥–æ —á–∞—Å –ø—Ä–æ—à–µ–ª –ø–æ—Å–ª–µ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞. –°–æ–ª–Ω—ã—à–∫–æ —É–∂–µ –ø–æ–¥—Å—É—à–∏–ª–æ –∑–µ–º–ª—é. –ú—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º —Ä–∞—Å–ø–∏–ª–∏–≤–∞–ª–∏ —Å–≤–∞–ª–∏–≤—à–µ–µ—Å—è –≤ –∫–æ—Å—Ç–µ—Ä –¥–µ—Ä–µ–≤–æ, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å–≤–æ–±–æ–¥–∏—Ç—å –Ω–∞—à—É –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫—É. –°–∫–≤–æ–∑—å –≥—É—Å—Ç–æ–π –ø–æ–¥–ª–µ—Å–æ–∫ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –∫—Ä–∞—Å–Ω—É—é –º–∞–π–∫—É –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—é—â–µ–≥–æ—Å—è –ö—é—Ä–∏. –ß–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–∫—É–Ω–¥ –æ–Ω –≤–±–µ–∂–∞–ª –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å. –ù–µ–ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, –∑–∞—á–µ–º –æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏:
— –ù–∞ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Ç—Ä–µ—Ö—Å—Ç–∞—Ö, —Å–ø–µ—Ü–Ω–∞–∑. –õ–µ—Å –æ—Ü–µ–ø–ª–µ–Ω –≤–æ–π—Å–∫–∞–º–∏. –°–ø–µ—Ü–æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è.
–ü–æ—Ç–æ–º –æ–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –ø–æ-—á–µ—á–µ–Ω—Å–∫–∏. –í—Å–µ —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞–±–µ–≥–∞–ª–∏. –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –∏ –õ–µ—á–∞-–º–ª–∞–¥—à–∏–π —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—ã –∏ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –ø–æ —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–µ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –ö—é—Ä–∏. –ò –ø–æ—á—Ç–∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–∏—Å—å –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã.
–õ–∞–≥–µ—Ä—å –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –æ–ø—É—Å—Ç–µ–ª. –ò–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –≤—ã—à–µ–ª –ê–¥–∞–º —Å —É–¥–∞—Ä–µ–Ω–∏–µ–º –Ω–∞ –ø–µ—Ä–≤—É—é «–∞» –∏ –º–∞—Ö–Ω—É–ª –Ω–∞–º —Ä—É–∫–æ–π.
— –°—é–¥–∞! –ë—ã—Å—Ç—Ä–æ! — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –æ–Ω.
–ú—ã –ø–æ–¥–±–µ–∂–∞–ª–∏ –∫ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É. –ê–¥–∞–º —Å—É–Ω—É–ª –º–Ω–µ –±–µ–ª—ã–π –º–µ—à–æ–∫ –∏–∑-–ø–æ–¥ —Å–∞—Ö–∞—Ä–∞.
— –ó–¥–µ—Å—å —Ö–ª–µ–±, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ü–æ–Ω–µ—Å–µ—à—å.
–ü–æ–¥–±–µ–∂–∞–ª –ö—é—Ä–∏.
— –ü–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è —Ç–∏—Ö–æ –∏ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –∑–∞ –º–Ω–æ–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω.
–ú—ã –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å –∑–∞ –Ω–∏–º –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è. –ó—É–± —Å –¥–≤—É–º—è –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞–º–∏ –∏ —É–≤–µ—à–∞–Ω–Ω—ã–π –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è. –û–Ω —á—Ç–æ-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ö—é—Ä–∏.
–ö—é—Ä–∏ –æ–≥–ª—è–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ –Ω–∞—Å.
— –¢—É–¥–∞ –Ω–µ–ª—å–∑—è, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –Ω–∞–º. — –ü–æ–π–¥–µ–º –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ.
–ù–∞–º, –≤–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ, –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ, –≤ –∫–∞–∫–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –∏–¥—Ç–∏. –ó—É–± —É—à–µ–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥. –ö—é—Ä–∏ –∏ –º—ã –¥–≤–∏–Ω—É–ª–∏—Å—å —Å–ª–µ–¥–æ–º. –ö–æ–ª–æ–Ω–Ω—É –∑–∞–º—ã–∫–∞–ª –ê–¥–∞–º. –£—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥ –æ—Ç –ª–∞–≥–µ—Ä—è. –ü–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–∞ –Ω–µ —É–º–æ–ª–∫–∞–ª–∞, –Ω–æ –∑–≤—É–∫–∏ –µ–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏—Å—å —É–∂–µ –Ω–µ —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –°–∞–º–∞—à–µ–∫, –∞ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —é–∂–Ω–µ–µ.
–ú—ã —à–ª–∏ —É–∂–µ –±–æ–ª—å—à–µ —á–∞—Å–∞. –®–ª–∏ –ø–æ –æ–±—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç–æ–º—É –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä–µ–∫–∏, –ø–æ–º–∏–Ω—É—Ç–Ω–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∞–≤–ª–∏–≤–∞—è—Å—å –∏ –ø—Ä–∏—Å–µ–¥–∞—è –æ–∫–æ–ª–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ –≤—ã–¥–∞–≤–∞—Ç—å —Å–µ–±—è. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ö—é—Ä–∏ –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–ª—Å—è, –≤—ã–±–∏—Ä–∞–ª –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ, –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥ –ó—É–±–∞, –∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –º–∏–Ω—É—Ç—É, –∫–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ—Ç –∏–∑–¥–∞–≤–∞–ª —Ä—Ç–æ–º –∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ —Å–æ–≤–∏–Ω–æ–µ —É—Ö–∞–Ω—å–µ, –º—ã –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –∑–∞ –Ω–∏–º.
–ï—â–µ —á–∞—Å–æ–º –ø–æ–∑–∂–µ –ª–µ—Å —Å—Ç–∞–ª–∏ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—Ç—å –∏–∑ –º–∏–Ω–æ–º–µ—Ç–∞. –°–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≥–¥–µ. –ö–æ–≥–¥–∞ –º–∏–Ω–∞ –∑–∞–≤—ã–≤–∞–ª–∞, –ø–∞–¥–∞—è –∫ –∑–µ–º–ª–µ, –º—ã –ø—Ä–∏—Å–µ–¥–∞–ª–∏ –ø–æ–Ω–∏–∂–µ. –ö—é—Ä–∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏—Å–µ–¥–∞–ª. –ï–º—É —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ. –¢–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–∞–∂–¥—ã, –∫–æ–≥–¥–∞ –º–∏–Ω—ã –∑–∞—Å–≤–∏—Å—Ç–µ–ª–∏ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ä—å—è–Ω–æ, –ö—é—Ä–∏ –ø–∏—Ö–Ω—É–ª –Ω–∞—Å –≤ –Ω–µ–≥–ª—É–±–æ–∫—É—é —è–º–∫—É, –∞ —Å–∞–º –ø—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω–∏–ª—Å—è –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –£—Ö–Ω—É–ª–æ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —Å–æ–¥—Ä–æ–≥–Ω—É–ª–∞—Å—å –∑–µ–º–ª—è. –ù–æ –º—ã-—Ç–æ —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑ —É—Ö–Ω—É–ª–æ, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç –Ω–µ –±–ª–∏–∑–∫–æ.
–ß–∞—Å–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –≤—ã—à–ª–∏ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–≥–æ –æ–∑–µ—Ä–∞. –í–∏–¥–∏–º–æ, —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –æ–¥–Ω–æ –∏–∑ –º–µ—Å—Ç, –≥–¥–µ –º–æ–∂–Ω–æ –Ω–µ–∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –≤—ã–π—Ç–∏ –∏–∑ –ª–µ—Å–∞. –ö—é—Ä–∏ –∏ –ê–¥–∞–º –¥–æ–ª–≥–æ –≤–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ –∫—É—Å—Ç—ã –Ω–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –æ–∑–µ—Ä–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –ö—é—Ä–∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞–º:
— –ù–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –Ω–∞—Å –∂–¥—É—Ç —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã. –ü–æ–ø—Ä–æ–±—É–µ–º —É–π—Ç–∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ.
–ù–æ –∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –∂–¥–∞–ª–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–µ —Å–∏–ª—ã. –í–æ–Ω –æ–Ω–∏, –Ω–∞—à–∏ –ø–∞—Ä–Ω–∏! –ö–∞–∫ –∂–∞–ª—å, —á—Ç–æ –≤—ã –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç–µ, –∫—Ç–æ –±—Ä–æ–¥–∏—Ç —É –≤–∞—Å –ø–æ–¥ –Ω–æ—Å–æ–º.
–ú—ã —É–∂–µ –æ–∫–æ–ª–æ —á–∞—Å–∞ –æ—Ç–ª–µ–∂–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Å—ã—Ä–æ–º –æ–≤—Ä–∞–∂–∫–µ. –°—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –µ—Å—Ç—å –∏ –∫—É—Ä–∏—Ç—å. –ê–¥–∞–º –∫—É—Ä–∏—Ç—å –Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–ª, –Ω–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –Ω–∞ –ö—é—Ä–∏ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ö—É—Ä–∏. –ù–æ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–∏ –¥—ã–º–∞, –Ω–∏ –∑–∞–ø–∞—Ö–∞, — –∏ —É–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ —Å–∞–º–æ–µ –¥–Ω–æ –æ–≤—Ä–∞–∂–∫–∞.
–¢–∞–º –±—ã–ª–æ –æ—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Å—ã—Ä–æ. –ù–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–π —Ç—Ä–∞–≤–∫–µ, –Ω–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–º –ª–∏—Å—Ç–æ—á–∫–µ, —Å–∏–¥–µ–ª –æ—Ç–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π, —Å–∫–æ–ª—å–∑–∫–∏–π, –¥—ã–º—á–∞—Ç–æ-–ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω—ã–π —Å–ª–∏–∑–Ω—è–∫. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –∑–∞–ø–æ–ª–∑–∞–ª–∏ –ø–æ–¥ —à—Ç–∞–Ω—ã –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏. –°–Ω–∏–º–∞—Ç—å –∏—Ö –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ä—É–∫–∞–º–∏, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Å–ª–∏–∑–Ω—è–∫–∏ –ø—Ä–∏—Å–∞—Å—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –∫ –∫–æ–∂–µ. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ª–æ–ø–∞–ª–∏—Å—å –æ—Ç –ø—Ä–∏–∫–æ—Å–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏—è, –∏ –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –≤–¥–≤–æ–π–Ω–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–æ. –ö—é—Ä–∏ —Å –ê–¥–∞–º–æ–º –ø–æ–æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ –ø–æ–º–æ–ª–∏–ª–∏—Å—å. –í–º–µ—Å—Ç–æ —É–º—ã–≤–∞–Ω–∏—è —Ä—É–∫ –∏ –Ω–æ–≥ –æ–Ω–∏ –æ–±—Ç–∏—Ä–∞–ª–∏ —Ä—É–∫–∏ –æ –∫–æ—Ä—É –¥—É–±–∞. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —Ä—É–∫–∏ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≥—Ä—è–∑–Ω–µ–µ. –ù–æ —É –Ω–∏—Ö —Ç–∞–∫ —Å—á–∏—Ç–∞–µ—Ç—Å—è –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ.
–ó—É–± —É–∂–µ –¥–∞–≤–Ω–æ –±—ã–ª –≤ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–µ. –û—Ç —Å—ã—Ä–æ—Å—Ç–∏ –º—ã –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –ø–æ–¥–º–µ—Ä–∑–∞—Ç—å. –°–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∏ —É –ö—é—Ä–∏ –Ω–µ–ª—å–∑—è –ª–∏ –ø–æ–µ—Å—Ç—å? –¢–æ—Ç –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∫–∞—á–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.
— –ù–∞ —à–µ—Å—Ç–µ—Ä—ã—Ö —É –Ω–∞—Å —Ç—Ä–∏ –±—É—Ö–∞–Ω–∫–∏ —Ö–ª–µ–±–∞, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ù–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –±—É–¥–µ–º –ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –ù–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–Ω–∏–º—É—Ç –æ—Ü–µ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ. –•–ª–µ–± –Ω—É–∂–Ω–æ –±–µ—Ä–µ—á—å. –ü–æ—Ç–µ—Ä–ø–∏—Ç–µ.
–ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±–µ–ª—ã–π –º–µ—à–æ–∫, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º —è –Ω–µ—Å —Ç—Ä–∏ –±—É—Ö–∞–Ω–∫–∏ —Ö–ª–µ–±–∞, –º—ã —É–∂–µ –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª–∏. –°–ª–∏—à–∫–æ–º –∑–∞–º–µ—Ç–µ–Ω –æ–Ω –±—ã–ª. –î–≤–µ –±—É—Ö–∞–Ω–∫–∏ —è –Ω–µ—Å –∑–∞ –ø–∞–∑—É—Ö–æ–π. –ï—â–µ –æ–¥–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ —É –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞. –û–Ω-—Ç–æ –±–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ—Ö –∏ –Ω—ã–ª –ø–æ –ø–æ–≤–æ–¥—É –∂—Ä–∞—Ç–≤—ã.
–ó—É–± –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –≥–ª—É–±–æ–∫–∏—Ö —Å—É–º–µ—Ä–∫–∞—Ö.
— –°–Ω–∏–º–∞—é—Ç –æ—Ü–µ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –Ω–∞–º. — –°–∫–æ—Ä–æ –ø–æ–π–¥–µ–º.
–ü–æ–∫–∞ –æ–Ω–∏ –≤—Å–µ —Ç—Ä–æ–µ –º–æ–ª–∏–ª–∏—Å—å, —è —É—Å–ª—ã—à–∞–ª, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª –∞—Ä–º–µ–π—Å–∫–∏–π –ì–ê–ó-66 –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Ç—Ä–µ—Ö—Å—Ç–∞—Ö –æ—Ç –Ω–∞—Å. –í –Ω–µ–≥–æ –ø–æ–≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏—Å—å —á–µ—Ç–≤–µ—Ä–æ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç, –∏ —Ñ—É—Ä–≥–æ–Ω —É–µ—Ö–∞–ª. –ù–∏ –ö—é—Ä–∏, –Ω–∏ –ê–¥–∞–º, –Ω–∏ –ó—É–± –Ω–µ –ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–∞–ª–∏ –º–æ–ª–∏—Ç–≤—É.
–í —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ –∏–¥—Ç–∏ –±—ã–ª–æ —Ç—è–∂–µ–ª–æ. –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≤–∏–¥–Ω–æ. –ü–æ–º–∏–Ω—É—Ç–Ω–æ —Å–ø–æ—Ç—ã–∫–∞–µ—à—å—Å—è –æ –∫–∞–º–Ω–∏ –∏–ª–∏ –∫–æ—Ä—è–≥–∏. –ß–∞—Å–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–º –≥–¥–µ-—Ç–æ —Ä—è–¥–æ–º —Å –ª–∞–≥–µ—Ä–µ–º. –Ø –¥–∞–∂–µ –≥–æ—Ç–æ–≤ –±—ã–ª –ø–æ–∫–ª—è—Å—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –±—ã–ª —Å–ª–µ–≤–∞, —Å–æ–≤—Å–µ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –≤—ã—è—Å–Ω–∏–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –ö—é—Ä–∏ –∏ –ó—É–± –∑–∞–ø–ª—É—Ç–∞–ª–∏—Å—å. –ê–¥–∞–º —É–∂–µ –¥–∞–≤–Ω–æ –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª –æ—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫—É. –ú—ã –≤—Å–µ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–µ–µ —à–ª–∏, –∞ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≤–æ—Ç —Å–µ–π—á–∞—Å –º—ã —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–º –º–∏–º–æ –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω—ã —Ä–µ—á–∫–∏, —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –±—ã–ª–∏ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥.
–Ø —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–± —ç—Ç–æ–º –ö—é—Ä–∏. –ú—ã –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å.
— –ú–æ–∂–µ—Ç, —Ç—ã –∑–Ω–∞–µ—à—å, –≥–¥–µ –º—ã? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –ó—É–±.
— –í–æ–Ω —Ç–∞–º –ª–∞–≥–µ—Ä—å, — —è –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞–ª–µ–≤–æ.
–ö—é—Ä–∏ –µ–¥–≤–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω–æ –∫–∞—á–Ω—É–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –ó—É–± —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è –≤ —É–∫–∞–∑–∞–Ω–Ω–æ–º –º–Ω–æ—é –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–∏. –ú—ã –ø—Ä–∏—Å–µ–ª–∏. –û—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –µ—Å—Ç—å. –ö–∞–∫ –Ω–∞–∑–ª–æ, –∏–∑-–∑–∞ –ø–∞–∑—É—Ö–∏ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –ø–∞—Ö–ª–æ —Ö–ª–µ–±–æ–º. –ù–µ–ª—å–∑—è. –•–æ—Ç—å –±—ã –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π –∫—É—Å–æ—á–µ–∫! –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ê–¥–∞–º —Ç–∏—Ö–æ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª:
— –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π, —Ç—ã —á–µ–≥–æ –∂—Ä–µ—à—å?
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –Ω–µ —Å—Ä–∞–∑—É, –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –¥–æ–∂–µ–≤—ã–≤–∞—è.
— –ù–∏—á–µ–≥–æ.
–ü–æ–º–æ–ª—á–∞–ª–∏. –ê–¥–∞–º –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É.
— –ü–æ–∫–∞–∂–∏, –≥–¥–µ —É —Ç–µ–±—è —Ö–ª–µ–±?
–¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ —Å–º–æ–≥ –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å. –í–µ—Å—å —Ö–ª–µ–± –æ–Ω —Å–æ–∂—Ä–∞–ª.
–ö—é—Ä–∏ –±—ã–ª –ø–æ—Ç—Ä—è—Å–µ–Ω. –ê–¥–∞–º—É –∏ –Ω–∞–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —ç—Ç–æ—Ç —Ñ–∞–∫—Ç –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–º. –Ý–∞–¥–∏ –∂—Ä–∞—Ç–≤—ã –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –≥–æ—Ç–æ–≤ –±—ã–ª –Ω–∞ –≤—Å–µ. –û–Ω –¥–∞–∂–µ –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞–ª—Å—è –Ω–∞–¥ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –µ–≥–æ –±—É–¥—É—Ç –±–∏—Ç—å. –ß—Ç–æ –∫—É—Å–æ–∫ –∑–¥–æ—Ä–æ–≤—å—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –æ–Ω —Å–µ–±–µ —É—Ä–≤–∞–ª, —Å–æ–∂—Ä–∞–≤ —Ö–ª–µ–±, –±—É–¥–µ—Ç —Å –ª–∏—Ö–≤–æ–π –≤—ã–±–∏—Ç –ø–æ–±–æ—è–º–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –∑–∞ —ç—Ç–æ –Ω–µ–º–∏–Ω—É–µ–º–æ –ø–æ–ª—É—á–∏—Ç.
— –Ø —Å —Ç–æ–±–æ–π –ø–æ—Ç–æ–º —Ä–∞–∑–±–µ—Ä—É—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–¥–∞–º —Å–∫–≤–æ–∑—å –∑—É–±—ã.
— –Ø –ø–æ—Ç–µ—Ä—è–ª —Ö–ª–µ–± –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, — –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –æ–ø—Ä–∞–≤–¥–∞—Ç—å—Å—è –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π.
–ê–¥–∞–º –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ.
–ó—É–± –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –û–Ω –Ω–∞—à–µ–ª –ª–∞–≥–µ—Ä—å. –û—Ä–∏–µ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∫–∞ –±—ã–ª–∞ –≤–æ—Å—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–ª–µ–Ω–∞. –ú–µ–Ω–µ–µ —á–µ–º —á–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å –º—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä–µ–∫–∏. –Ø —É–∑–Ω–∞–ª —ç—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ. –ó–¥–µ—Å—å –º—ã –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Ä–µ—á–∫—É –ø–æ –ø–æ–≤–∞–ª–µ–Ω–Ω–æ–º—É —Å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥ –¥–µ—Ä–µ–≤—É –≤ —Å–∞–º—ã–π –ø–µ—Ä–≤—ã–π –¥–µ–Ω—å –ø–æ—Å–ª–µ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∞ –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏ –∏–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è. –Ý—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ—é —Å–∏–¥–µ–ª –ó—É–± –∏ —É–¥–∏–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ-–¥–æ–±—Ä–æ–º—É –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ —è –ø—Ä–∏–µ–¥—É –¥–æ–º–æ–π, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –¥–∞–¥—É—Ç –∫–∞–∫—É—é-—Ç–æ —Ç–∞–º –∫–æ–º–ø–µ–Ω—Å–∞—Ü–∏—é, –∫–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ —è –ø–æ—Ç–æ–º –±—É–¥—É –∂–∏—Ç—å…
–ú—ã —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º –∂–µ–≤–∞–ª–∏ —Ö–ª–µ–±. –°—ä–µ–ª–∏ –≤–µ—Å—å. –í–∏–¥–∏–º–æ, –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è –Ω–∞–º —Ö–æ–¥–∏—Ç—å –ø–æ –ª–µ—Å—É —Ç—Ä–æ–µ —Å—É—Ç–æ–∫. –ñ–¥–∞–ª–∏ –ö—é—Ä–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã–ª —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –¥–∞–ª—å—à–µ.
–ù–æ –ö—é—Ä–∏ –Ω–µ –ø—Ä–∏—à–µ–ª. –ü—Ä–∏—à–µ–ª –•–∞—Å–∞–Ω. –ú—ã –ø–µ—Ä–µ—à–ª–∏ –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –°—É–Ω–∂–∏. –ü–æ–¥–Ω—è–ª–∏—Å—å –ø–æ –∫—Ä—É—Ç–æ–º—É –∫–æ—Å–æ–≥–æ—Ä—É –∏ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –Ω–∞ –æ–∫—Ä–∞–∏–Ω–µ –°–∞–º–∞—à–µ–∫. –í –Ω–µ–±–µ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª–Ω–∞—è –õ—É–Ω–∞, –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–∞—è –ª–∞–º–ø–æ—á–∫–∞ –Ω–∞ —Ñ–æ–Ω–∞—Ä–Ω–æ–º —Å—Ç–æ–ª–±–µ –æ—Å–≤–µ—â–∞–ª–∞ –Ω–µ—É–∫–ª—é–∂—É—é —Ö–∏–∂–∏–Ω—É. –î–æ–º–æ–º –Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å —ç—Ç—É —Ä–∞–∑–≤–∞–ª—é—Ö—É –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ò–∑ —Ö–∏–∂–∏–Ω—ã –≤—ã—à–µ–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –∏ –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –∫ –Ω–∞–º.
— –ù—É, —á—Ç–æ? –í–∏–∫—Ç–æ—Ä? — –Ω–∏ –æ —á–µ–º —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω –º–µ–Ω—è. –ü—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª, –∞ —è –≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ —Å—Ç—ã–¥–Ω–æ –µ–º—É –∑–∞ —Å–≤–æ–µ —É–±–æ–≥–æ–µ –∂–∏–ª—å–µ. –û–Ω –±—ã –∏ —Ä–∞–¥ –≤–∏–¥—É –Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –¥–∞ –Ω–µ –º–æ–∂–µ—Ç, –Ω–µ –∞—Ä—Ç–∏—Å—Ç. –ò —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª —è, –∫–∞–∫ –æ–Ω —Ö–≤–∞–ª–∏–ª—Å—è —Å–≤–æ–∏–º–∏ –±–∞–±–∞–º–∏-–º–∞—Å—Å–∞–∂–∏—Å—Ç–∫–∞–º–∏. –ò –æ–Ω —Ç–æ–∂–µ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —è —ç—Ç–æ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª. –ò —è –µ–≥–æ –¥–∞–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–∂–∞–ª–µ–ª.
–ù–∞—Å –ø—Ä–∏–≤–µ–ª–∏ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä –°–∞–º–∞—à–µ–∫. –ö–∞–º–µ–Ω–Ω—ã–π –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã–π –¥–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª –Ω–∞ –≤–∑–≥–æ—Ä–æ—á–∫–µ. –ú–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, —Ä–∞–Ω—å—à–µ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –∫–ª—É–±–æ–º. –ú–æ–∂–µ—Ç — —à–∫–æ–ª–æ–π. –ù–∞—Å –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ –ø–æ–¥–≤–∞–ª. –ò –º—ã —É–∂–µ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑ –ø—Ä–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –≤ –ª–µ—Å—É —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã —É–∑–Ω–∞–ª–∏, —Ç–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –Ω–∞—Å —É—Å—Ç—Ä–æ—è—Ç –≤ —Å–µ–ª–µ, –≤ –¥–æ–º–µ. –ö–æ–Ω—á–∏—Ç—Å—è, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —ç—Ç–æ—Ç —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–π –ª–µ—Å–Ω–æ–π –±–µ—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª. –ú—ã –æ–ø—è—Ç—å –±—ã–ª–∏ —Å–∫–æ–≤–∞–Ω—ã –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏. –ù–æ –¥–∞–∂–µ —ç—Ç–æ –Ω–µ –æ–º—Ä–∞—á–∞–ª–æ —Ä–∞–¥–æ—Å–Ω–æ–µ –ø—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏–µ –ø–µ—Ä–µ–º–µ–Ω, –≥–ª–∞–≤–Ω–∞—è –∏–∑ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö, –ø–æ–∂–∞–ª—É–π, —ç—Ç–æ —Ç–æ, —á—Ç–æ –Ω–∞—Å –Ω–µ –±—É–¥—É—Ç –µ–∂–µ–¥–Ω–µ–≤–Ω–æ –±–æ–º–±–∏—Ç—å.
–í –ø–æ–¥–≤–∞–ª –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª –•–∞—Å–∞–Ω. –û–Ω –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å –ø–∏—Ä–æ–≥ —Å –∫–∞–ø—É—Å—Ç–æ–π –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ —Å–∫–æ—Ä–æ –∑–∞ –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–∏–µ–¥—É—Ç. –ú–∞—à–∏–Ω–∞ — –£–ê–ó–∏–∫ — –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª–∞ —á–∞—Å–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞. –° –Ω–∞—Å —Å–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ –ø–æ–≤–µ–∑–ª–∏. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å —É –∫—Ä—É–≥–ª–æ–π –≤–æ–¥–æ–Ω–∞–ø–æ—Ä–Ω–æ–π –±–∞—à–Ω–∏. –û—Ç—Ç—É–¥–∞ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–µ–∫—Ç–æ. –ù–æ, –∫–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–µ–∫—Ç–æ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, –º—ã –≤—Å–µ —Ç—Ä–æ–µ –≤–∑–¥—Ä–æ–≥–Ω—É–ª–∏. –ì–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π. –û–Ω –≤—ã–≥–Ω–∞–ª –Ω–∞—Å –∏–∑ –º–∞—à–∏–Ω—ã –∏ –≤–µ–ª–µ–ª –∏–¥—Ç–∏ –∑–∞ –Ω–∏–º.
–ü—Ä–æ—à–ª–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –æ–≤—Ä–∞–∂–µ–∫. –õ–µ—á–∞ —à–µ–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ —Å —Ñ–æ–Ω–∞—Ä–∏–∫–æ–º –∏ –¥–ª–∏–Ω–Ω—ã–º –ø—Ä—É—Ç–æ–º –æ—Ä–µ—à–Ω–∏–∫–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π, –≤—ã—Å—Ç–∞–≤–∏–≤ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Å–æ–±–æ–π —â—É–ø–æ–º, —Ç–æ–ª–∫–∞–ª –≤–¥–æ–ª—å —Ç—Ä–æ–ø–∏–Ω–∫–∏. –Ø —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º –º–æ–∂–Ω–æ —á–∞—Å—Ç–∏—á–Ω–æ –æ–±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–∏—Ç—å —Å–µ–±—è –æ—Ç —Ä–∞—Å—Ç—è–∂–µ–∫, –∑–∞–±–æ—Ç–ª–∏–≤–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã—Ö –¥–ª—è –Ω–µ–ø—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö –≥–æ—Å—Ç–µ–π. –°—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å—Å—è –∏ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª –∫–∞—Ä—Ç—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –º–Ω–µ –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞. –ù–∞ –Ω–µ–π —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –≤–æ–¥–æ–Ω–∞–ø–æ—Ä–Ω—É—é –±–∞—à–Ω—é —Ä—è–¥–æ–º —Å –°–∞–º–∞—à–∫–∞–º–∏. –ï—Å–ª–∏ —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –æ–Ω–∞, –º—ã —à–ª–∏ –ø–æ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é –∫ –ª–∞–≥–µ—Ä—é. –ù–æ –≤–µ–¥—å —ç—Ç–æ –±–µ–∑—É–º–∏–µ! –ü—Ä–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –∑–Ω–∞—é—Ç! –ï–≥–æ –±–æ–º–±—è—Ç! –ï–≥–æ —Ä–∞–∑–±–æ–º–±—è—Ç, –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤! –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ –º—ã –∏–¥–µ–º –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ!
–ù–æ –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –≤—Å–µ –≤ —Ç–æ—Ç –∂–µ –±–ª–∏–Ω–∂–∞–∂…
* * *
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –º—ã –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å, –∫–æ–≥–¥–∞ –õ–µ—á–∞-—Ö—Ä–æ–º–æ–π –ø–æ–≤–µ–ª –Ω–∞—Å –¥–∞–ª—å—à–µ –ø–æ –ª–µ—Å—É. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–≤–µ—Ç–∞—Ç—å –∏ –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –∫ –Ω–æ–≤–æ–º—É –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É. –Ý–∞—Å–ø–æ–ª–∞–≥–∞–ª—Å—è –æ–Ω –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–∫—Ä—ã—Ç–æ, –≤ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π –Ω–∏–∑–∏–Ω–∫–µ. –í—Ö–æ–¥ –∂–µ –≤ –Ω–µ–≥–æ –±—ã–ª —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Ö–æ–ª–º–∏–∫–∞, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –≤ —Å–∞–º–æ–º —Ö–æ–ª–º–∏–∫–µ, –∏ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª—Å—è –æ—Ç —Å—Ç–∞–Ω–¥–∞—Ä—Ç–Ω–æ–≥–æ –≤—Ö–æ–¥–∞ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —Ç–µ–º, —á—Ç–æ –±—ã–ª –ø—Ä—è–º—ã–º. –û–±—ã—á–Ω–æ –≤—Ö–æ–¥ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ–¥ —É–≥–ª–æ–º –≤ 90 –≥—Ä–∞–¥—É—Å–æ–≤, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∏ –æ—Ç –±–æ–º–±–µ–∂–∫–∏ –Ω–µ –∑–∞–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –≤–Ω—É—Ç—Ä—å. –ó–¥–µ—Å—å –≤—Å–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—â–µ.
–ë–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –±—ã–ª –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π, –Ω–∏–∑–µ–Ω—å–∫–∏–π –∏ —Å—ã—Ä–æ–π. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–º —Ç–æ—Ä—Ü–µ –±—ã–ª –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —è—Ä—É—Å –Ω–∞—Ä. –¢—É–¥–∞ –Ω–∞—Å –∏ –∑–∞–ø–∏—Ö–Ω—É–ª–∏, –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–≤ –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏: –ø—Ä–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É –°–≤–µ—Ç—ã –∫ –ª–µ–≤–æ–π –ú–∏—Ö–∞–ª—ã—á–∞, –º–æ—é –ª–µ–≤—É—é –∫ –µ–≥–æ –ø—Ä–∞–≤–æ–π. –£ –º–µ–Ω—è, —Ç–∞–∫–∏–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å–≤–æ–±–æ–¥–Ω–æ–π –ø—Ä–∞–≤–∞—è —Ä—É–∫–∞, —É –°–≤–µ—Ç—ã — –ª–µ–≤–∞—è, –∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª—Å—è ‘–±–µ–∑—Ä—É–∫–∏–º’.
–ß–µ—Ä–µ–∑ —á–∞—Å, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ä–∞—Å—Å–≤–µ–ª–æ, –õ–µ—á–∞-—Ö—Ä–æ–º–æ–π –≤–µ–ª–µ–ª –º–Ω–µ –∏–¥—Ç–∏ —Å –Ω–∏–º, –∞ –°–≤–µ—Ç–µ —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –æ–±—É—Å—Ç—Ä–∞–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –Ω–æ–≤–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ. –ú—ã —Å –õ–µ—á–µ–π –ø–æ—à–ª–∏, –∫–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –∫ —Å—Ç–∞—Ä–æ–º—É –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂—É. –î–æ –Ω–µ–≥–æ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å—Å–æ—Ç. –í–æ—Ç —Ç—É—Ç-—Ç–æ —è –∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å. –ë–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –±—ã–ª –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–Ω –∏–∑–Ω—É—Ç—Ä–∏. –î–≤–∞ —Ç–æ–ª—Å—Ç–µ–Ω–Ω—ã—Ö –±—Ä–µ–≤–Ω–∞ –Ω–∞–∫–∞—Ç–∞ —Ç–æ—Ä—á–∞–ª–∏ –ø—Ä—è–º–æ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –∏ —Ç–∫–∞–Ω—å-500 –Ω–µ–ø—Ä–æ–º–æ–∫–∞–µ–º–æ–π –∫—Ä—ã—à–∏ —Ä–∞–∑–≤–µ–≤–∞–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –Ω–∏—Ö –∑–µ–ª–µ–Ω—ã–º —Ñ–ª–∞–≥–æ–º.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Å–æ–±–∏—Ä–∞–π –≤—Å–µ, —á—Ç–æ —Å—á–∏—Ç–∞–µ—à—å –ø–æ–ª–µ–∑–Ω—ã–º, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ –õ–µ—á–∞. — –°–º–æ—Ç—Ä–∏ –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∏, –º–æ–≥—É—Ç –±—ã—Ç—å –º–∏–Ω—ã –∏ —Ä–∞—Å—Ç—è–∂–∫–∏.
–°–∞–º –õ–µ—á–∞ –ø–æ–ª–µ–∑ –≤–Ω—É—Ç—Ä—å –∑–∞–≤–∞–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –Ø —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –∫—É—Ö–æ–Ω–Ω—É—é —É—Ç–≤–∞—Ä—å. –ù–∞—à–µ–ª —É –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–æ–≤ –Ω–∞—à–µ–≥–æ –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ —Å–≤–æ—é —Å—É–º–æ—á–∫—É —Å –Ω–∞–±–æ—Ä–æ–º —Å–∞–ø–æ–∂–Ω—ã—Ö –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤. –ë–æ–ª—å—à–æ–π –∫—É—Å–æ–∫ —Ç–∫–∞–Ω–∏-500 –º—ã —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ –∏ —É–Ω–µ—Å–ª–∏ —Å —Å–æ–±–æ–π.
–ü–µ—Ä–µ–¥–æ –º–Ω–æ—é –±—ã–ª–∞ –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–∞ –∑–∞–¥–∞—á–∞ –≤—ã–∫–æ–ø–∞—Ç—å —Ç—Ä–∏ –æ–∫–æ–ø–∞ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Ç–µ—Ä—Ä–∏—Ç–æ—Ä–∏–∏ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –û–∫–æ–ø—ã –∑–¥–µ—Å—å –∫–æ–ø–∞–ª–∏—Å—å –ª–µ–≥–∫–æ –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –°–ª–æ–π –∫–∞–º–Ω—è –≤–ø–µ—Ä–µ–º–µ–∂–∫—É —Å —á–µ—Ä–Ω–æ–∑–µ–º–æ–º –±—ã–ª —Ç–æ–Ω–∫–∏–º, –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª—Å—è –∏ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª –≤ –ø–µ—Å–æ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ –º–µ—Ä–µ —É–≥–ª—É–±–ª–µ–Ω–∏—è —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –º–æ–∫—Ä—ã–º –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –Ω–∞ –¥–Ω–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∞—Å—å –≤–æ–¥–∞. –ì–ª—É–±–∏–Ω–∞ –æ–∫–æ–ø–∞ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–∞—Å—å —á—É—Ç—å –±–æ–ª—å—à–µ –º–µ—Ç—Ä–∞, –¥–∞ 30 —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –±—Ä—É—Å—Ç–≤–µ—Ä–∞. –¢–æ –µ—Å—Ç—å —Å–ø–∞—Å–∞—Ç—å—Å—è –≤ –Ω–µ–º –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏—Å–µ–≤ –Ω–∞ –∫–æ—Ä—Ç–æ—á–∫–∏. –ù–æ —É–∂ — —á—Ç–æ –µ—Å—Ç—å. –ß–µ—Ç—ã—Ä–µ –º–µ—Ç—Ä–∞ –≤ –¥–ª–∏–Ω—É –∏ 1,2 –≤ —à–∏—Ä–∏–Ω—É —è –≤—ã–∫–∞–ø—ã–≤–∞–ª –∑–∞ –¥–≤–∞ —á–∞—Å–∞. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —è —Å–±–∏–ª—Å—è —Å–æ —Å—á–µ—Ç—É —á–∏—Å–ª—É –≤—ã–∫–æ–ø–∞–Ω–Ω—ã—Ö –º–Ω–æ—é –æ–∫–æ–ø–æ–≤.
–ò–∑-–∑–∞ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –±—ã–ª –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–º –∏ —Å—ã—Ä—ã–º, –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –µ–≥–æ —Å–∏–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ—Ç–∞–ø–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–æ—á—å. –ê –¥–µ–∂—É—Ä–Ω—ã–π –≤—Å—é –Ω–æ—á—å –ø–æ–¥–∫–∏–¥—ã–≤–∞–ª –¥—Ä–æ–≤–∞. –ü–æ–¥ –ø–æ—Ç–æ–ª–∫–æ–º –º—ã —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª–∏ —Å–µ–±—è, –∫–∞–∫ –≤ –±–∞–Ω–µ. –£—Ç—Ä–æ–º –≤—ã—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –º–æ–∫—Ä—ã–µ. –ò –≤–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –ø—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª —Å —É—Ç—Ä–∞ –∫—É–ø–∞—Ç—å—Å—è –≤ —Ä–µ—á–∫–µ. –ü—Ä–µ–¥–ª–æ–∂–∏–ª –±–µ–∑ –æ—Å–æ–±–æ–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã, –Ω–æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ: –õ–µ—á–∞ –±—ã–ª –Ω–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∞—Å—å, —Ç–æ–ª—å–∫–æ –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –Ω–µ –æ–¥–æ–±—Ä–∏–ª. –û–Ω –∏ –Ω–µ –∫—É–ø–∞–ª—Å—è, –∞ —Å–∏–¥–µ–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–º, –≤—ã–≤–æ–¥–∏–≤—à–∏–º –Ω–∞—Å –∫ —Ä–µ–∫–µ.
–ö—É–ø–∞–ª–∏—Å—å –≥–æ–ª—ã—à–æ–º. –Ø — –≤—ã—à–µ –ø–æ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—é, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Å–æ—Ä–æ–∫ –Ω–∏–∂–µ. –ù–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω–æ, —Å–ø–∏–Ω–∞–º–∏ –¥—Ä—É–≥ –∫ –¥—Ä—É–≥—É. –û—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞–º –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å —Å–æ–ø—Ä–æ–≤–æ–∂–¥–∞—Ç—å –Ω–∞—Å –∫ —Ä–µ—á–∫–µ. –í—Å–µ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏–µ, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∞ –≥–æ–ª—É—é –∂–µ–Ω—â–∏–Ω—É. –í—Ä–µ–º—è —É–∂–µ –Ω–∞—Å—Ç—É–ø–∏–ª–æ –æ—Å–µ–Ω–Ω–µ–µ, —É—Ç—Ä–æ–º —Ö–æ–ª–æ–¥–Ω–æ, –≤–æ–¥–∞ –ª–µ–¥—è–Ω–∞—è. –ó–∞—Ç–æ –ø–æ—Å–ª–µ –Ω–æ—á–Ω–æ–π –±–∞–Ω–∏ –≤–∑–¥–±–∞–¥—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç –æ—á–µ–Ω—å –¥–∞–∂–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ. –ù–∏ —è, –Ω–∏ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, –Ω–µ –∑–∞–±–æ–ª–µ–ª–∏.
–Ý–∞—Å–ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –≤ –ª–µ—Å—É –±—ã–ª–æ —Ç–∞–∫–∏–º, —á—Ç–æ —Ä–µ—á–∫–∞ –¥–µ–ª–∞–ª–∞ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–µ–≥–æ –ø–æ—á—Ç–∏ –∑–∞–º–∫–Ω—É—Ç—É—é –ø–µ—Ç–ª—é. –í—ã–π—Ç–∏ –∑–∞ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª—ã –∫—Ä—É–≥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ —É–∑–∫–æ–º—É –ø–µ—Ä–µ—à–µ–π–∫—É –º–µ–∂–¥—É —Ä—É—Å–ª–∞–º–∏ –∏ –ø–æ —Ç–æ–ª—Å—Ç–æ–º—É –¥–µ—Ä–µ–≤—É, —É–ø–∞–≤—à–µ–º—É –º–æ—Å—Ç–æ–º —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä—É—Å–ª–æ. –í –¥–∏–∞–º–µ—Ç—Ä–µ –∫—Ä—É–≥–∞ –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ 200. –ë–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –±—ã–ª –Ω–µ –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ –∫—Ä—É–≥–∞ — –∫–∞–∫–∞—è —É–¥–∞—á–∞, –Ω–æ –æ–± —ç—Ç–æ–º –ø–æ–∑–∂–µ.
–°—Ä–∞–∑—É –ø–æ—Å–ª–µ –∫—É–ø–∞–Ω–∏—è –º—ã —à–ª–∏ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å —Ö–≤–æ—Ä–æ—Å—Ç –¥–ª—è –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –º—ã —Å –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–º —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞ –∑–∞–≥–æ—Ç–æ–≤–∫—É –¥—Ä–æ–≤: –∏—Å–∫–∞–ª–∏ —Å—É—Ö–∏–µ —Å—Ç–≤–æ–ª—ã, —Å–ø–∏–ª–∏–≤–∞–ª–∏ –∏—Ö –∏ —Ç–∞—â–∏–ª–∏ –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –°–≤–µ—Ç–∞ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∞ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫. –ü–æ—Ç–æ–º –º—ã –ø–∏–ª–∏–ª–∏ –∏ —Ä—É–±–∏–ª–∏ –¥—Ä–æ–≤–∞. –°–≤–µ—Ç–∞ –∑–≤–∞–ª–∞ –Ω–∞—Å –∂–¥—Ä–∞—Ç—å. –ü–æ—Å–ª–µ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞–∫–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–∏–ª–∏—Ç—å.
–ó–¥–µ—Å—å –Ω–∞—Å –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ –ø–∏–ª–∏—Ç—å –Ω–µ –Ω–∞ –∫–æ–∑–ª–∞—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —è –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—â–∏–ª –æ—Ç —Å—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, –∞ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –∑–µ–º–ª–µ. –¢–∞–∫ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ç–∏—à–µ. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∞—Ö –±—ã–ª–∏ —Å–ª—ã—à–Ω—ã –∑–≤—É–∫–∏ –Ω–∞—à–µ–π –∂–∏–∑–Ω–µ–¥–µ—è—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–æ —Å—Ç–∞—Ä—ã–π-—Ç–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ, –∞ —Ç–∞–º –æ—Å–æ–±–æ–π –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–µ –ø—Ä–æ—è–≤–ª—è–ª–∏, –¥–∞ –∏ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–º—Å—è –º—ã —Å–µ–π—á–∞—Å –¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç –°–∞–º–∞—à–µ–∫, —á–µ–º –≤ —Å—Ç–∞—Ä–æ–º. –ß—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª–æ—Å—å.
–°—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –≤ –ø–æ–≤–µ–¥–µ–Ω–∏–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ —è —Å—Ç–∞–ª –∑–∞–º–µ—á–∞—Ç—å –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è —Ä–∞—Å–ø–∏–ª–∫–∏ –¥—Ä–æ–≤. –î–≤—É—Ä—É—á–Ω–∞—è –ø–∏–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ª–æ—Ç–Ω–æ —Ç—è–Ω—É–ª–∏ –Ω–∞ —Å–µ–±—è. –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —Ä—É—á–∫—É –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ —Ç—è–Ω—É–ª. –Ø —á–∞—Å—Ç–æ –æ–¥–µ—Ä–≥–∏–≤–∞–ª –µ–≥–æ. –ü–æ—Å–ª–µ —ç—Ç–æ–≥–æ –æ–Ω –ø–∞—Ä—É —Ä–∞–∑ –ø–æ—Ç—è–Ω–µ—Ç —Ä—É—á–∫—É — –∏ –∑–∞ —Å—Ç–∞—Ä–æ–µ. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —è —á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–ª–∫–∞—é –ø–æ–ª–æ—Ç–Ω–æ –ø–∏–ª—ã –≤ –µ–≥–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –Ω–æ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∏–º —Ç–∞—â—É –∏ –µ–≥–æ —Ä—É–∫—É, –±–µ–∑–≤–æ–ª—å–Ω–æ –ª–µ–∂–∞—â—É—é –Ω–∞ —Ä—É—á–∫–µ –ø–∏–ª—ã.
— –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª —è, — –±—Ä–æ—Å—å—Ç–µ —Ä—É—á–∫—É, —è –æ–¥–∏–Ω –±—É–¥—É –ø–∏–ª–∏—Ç—å.
–û–Ω —Å–æ–≥–ª–∞—à–∞–ª—Å—è, —Ö–æ—Ç—è —ç—Ç–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ –¥–ª—è –Ω–µ–≥–æ. –ó–∞–º–µ—Ç–∏—Ç –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å — –ø–æ–±—å—é—Ç. –û–¥–Ω–æ–º—É –ø–∏–ª–∏—Ç—å –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ª–µ–≥—á–µ.
–°–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –Ω–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ — –∂—É—Ç–∫–æ: —Å–µ—Ä–æ–µ, –±–µ–∑–∂–∏–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ–µ –ª–∏—Ü–æ, —Ç–æ–Ω–∫–∏–µ, –ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω—ã–µ –≥—É–±—ã –∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç—Å—É—Ç—Å—Ç–≤—É—é—â–∏–π –≤–∑–≥–ª—è–¥. –û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤ –∑–∞–¥–∞–ª –º–Ω–µ –≤–æ–ø—Ä–æ—Å:
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –º—ã –≥–¥–µ?
— –í –ø–ª–µ–Ω—É, — —É—Å–º–µ—Ö–∞—è—Å—å –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è.
— –î–≤—É—Ö—Ç—ã—Å—è—á–Ω—ã–π, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ.
–ê —É –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –ø–æ —â–µ–∫–∞–º –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å —Å–ª–µ–∑—ã –∏ –æ–Ω –∑–∞–±–æ—Ä—Ç–º–æ—Ç–∞–ª:
— –ù–µ—Ç, —ç—Ç–æ –Ω–µ —Ç–æ—Ç –≥–æ–¥, –Ω–µ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è… –ö—É–¥–∞ –Ω–∞—Å –∑–∞–Ω–µ—Å–ª–æ?..
–í–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –∏ –∑–∞–ø–æ–¥–æ–∑—Ä–∏–ª –Ω–µ–ª–∞–¥–Ω–æ–µ. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è. –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ç–æ–∂–µ —ç—Ç–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∞, –∞ –õ–µ—á–∞ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ù–µ –¥–æ–ª–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É.
–ë–æ–º–±–∏–ª–∏ –Ω–∞—Å –∫–∞–∂–¥—É—é –Ω–æ—á—å: —Ç–æ –±–ª–∏–∂–µ –∫ –ª–∞–≥–µ—Ä—é, —Ç–æ –ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ. –ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ –±—ã–ª–æ, —á—Ç–æ –ø–ª–∞–Ω–æ–º–µ—Ä–Ω–æ –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—é—Ç –∫–≤–∞–¥—Ä–∞—Ç—ã. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π –±–æ–º–±—è—Ç, –±–µ–∑ –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ–Ω–Ω–æ–π —Ü–µ–ª–∏. –ê –≤–æ—Ç –¥–Ω–µ–º –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞–ª–∏. –¢–æ–≥–¥–∞ –°–≤–µ—Ç–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –∞ –º—ã —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏—Å—å –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–π –æ–∫–æ–ø. –°–∫–æ—Ä–µ–µ, –Ω–µ –≤ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–∏–π, –∞ –≤ –ª—é–±–∏–º—ã–π — –æ–Ω –±—ã–ª –≥–ª—É–±–∂–µ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –∏ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Å—É—Ö–æ–π.
— –ú—ã –≤–µ–¥—å —Ç—É—Ç –Ω–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫, — –≤–¥—Ä—É–≥ –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. — –ù–∞—à–∞ –º–∏—Å—Å–∏—è –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–º. –Ø –∏–º –≥–æ–≤–æ—Ä—é, —á—Ç–æ–±—ã –¥–∞–ª–∏ —á–∞—é, –∞ –Ω–µ –¥–∞—é—Ç.
–ü–æ—Ç–æ–º –æ–Ω —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –º–µ–Ω—è –∑–∞ –ª–æ–∫–æ—Ç—å –∏ —Å—Ç–∞–ª –Ω–µ—Å—Ç–∏ –±–µ—Å—Å–≤—è–∑–Ω—É—é –∞—Ö–∏–Ω–µ—é. –Ø –ø–æ—Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å –µ–≥–æ.
— –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á, —Å–∫–æ—Ä–æ –≤—Å–µ—Ö –≤—ã–∫—É–ø—è—Ç –∏ –≤—Å–µ –∫–æ–Ω—á–∏—Ç—Å—è. –ü–æ–µ–¥–µ—Ç–µ –¥–æ–º–æ–π.
— –ù–µ—Ç, –Ω–µ—Ç! –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏ –º–µ–Ω—è! –ü—Ä–æ—Å—Ç–∏ –∑–∞ –≤—Å–µ! –ü—Ä–æ—Å—Ç–∏ –º–µ–Ω—è…
–ü–æ—Ç–æ–º —Å–ª–µ–∑—ã. –ù—É, –∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ–º –≤—Å–µ –∫–æ–Ω—á–∏–ª–æ—Å—å: –∏ –±–µ–∑—É–º–∏–µ, –∏ –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç—Ä–µ–ª–∫–∞.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å, —á—Ç–æ–±—ã –ø–∏–ª–∏—Ç—å –¥—Ä–æ–≤–∞, —è –±—Ä–∞–ª –Ω–æ–∂–æ–≤–∫—É. –ù–∞–¥–µ–∂–¥—ã –Ω–∞ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ —É–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–Ω –ø–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ —Å–∏–¥–µ–ª —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞.
–ù–∞—á–∞–ª–æ –æ–∫—Ç—è–±—Ä—è. –ö–∞–∫-—Ç–æ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π –∏ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω. –£ –æ–±–æ–∏—Ö —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω—ã–µ –ª–∏—Ü–∞. –ù–∞–º –≤–µ–ª–µ–ª–∏ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è, —á—Ç–æ–±—ã —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –ê –Ω–∞–º —Å–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è — —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–æ–¥–ø–æ—è—Å–∞—Ç—å—Å—è. –ë—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø–æ—à–ª–∏ –≤ –ª–µ—Å. –ü–æ—à–ª–∏ –≤—Å–µ, –∫—Ä–æ–º–µ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞.
— –£–±–µ–π—Ç–µ –º–µ–Ω—è, — –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª –æ–Ω, — –Ω–æ –∏–¥—Ç–∏ —è –Ω–∏–∫—É–¥–∞ –Ω–µ –º–æ–≥—É.
–¢–æ–≥–¥–∞ –∫ –Ω–µ–º—É –ø–æ–¥–æ—à–µ–ª –õ–µ—á–∞.
‘–ò –≤–ø—Ä–∞–≤–¥—É —É–±—å–µ—Ç!’ — –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è.
–ù–æ –õ–µ—á–∞ –ø–æ–º–æ–≥ –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–º—É –≤—Å—Ç–∞—Ç—å, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –≤–∑–≤–∞–ª–∏–ª –µ–≥–æ —Å–µ–±–µ –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É –∏ –ø–æ–Ω–µ—Å. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å —Ç–∞–∫–æ–π –µ–∑–¥—ã, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –ø–æ–π–¥–µ—Ç —Å–∞–º –∏ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –ø–∏–Ω–∫–∞ –æ—Ç –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞.
–ö–∞–∫ —è –ø–æ—Ç–æ–º –ø–æ–Ω—è–ª, –ø–ª–∞–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤–æ–π—Å–∫–æ–≤–∞—è –æ–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è –ø–æ –æ—á–∏—Å—Ç–∫–µ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ª–µ—Å–∞ –æ—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –û–ø–µ—Ä–∞—Ü–∏—è —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç–Ω–∞—è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–æ –Ω–µ –¥–ª—è –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–∏ –°–∞–º–∞—à–µ–∫. –ü–æ–¥–∏, —Å–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏ —Å–µ–∫—Ä–µ—Ç, –µ—Å–ª–∏ –¥–Ω–µ–º —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–æ—Ç—Ä—É–¥–Ω–∏–∫ –∞–¥–º–∏–Ω–∏—Å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–∏, –∞ –Ω–æ—á—å—é –ª–µ—Å–Ω–æ–π –±–æ–µ–≤–∏–∫.
–¢—Ä–∏ –¥–Ω—è –º—ã —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –≤ —Å—Ç—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π –∏–∑–±—É—à–∫–µ, –±–æ–ª—å—à–µ –ø–æ—Ö–æ–∂–µ–π –Ω–∞ —Å–∫–≤–æ—Ä–µ—á–Ω–∏–∫, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –æ–Ω–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –≤–∏—Å–µ–ª–∞ –Ω–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–µ. –ö—Ä–∞–π –ø–æ–ª–∞ –∏ —Å—Ç–µ–Ω–∞ —É–ø–∏—Ä–∞–ª–∏—Å—å –≤ —Å—Ç–≤–æ–ª –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç–µ –æ–∫–æ–ª–æ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –° –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ª–∞—á—É–≥—É –ø–æ–¥–ø–∏—Ä–∞–ª–∏ —Ç–æ–ª—Å—Ç—ã–µ —Å–≤–∞–∏. –í—Ö–æ–¥ — —Å –∫—Ä—É—Ç–æ–π –ª–µ—Å–µ–Ω–∫–∏.
–í—ã–≤–æ–¥–∏–ª–∏ –Ω–∞—Å –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç. –î–∞–∂–µ –∑–∞ –≤–æ–¥–æ–π –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ —Å–∞–º–∏. –ù–æ —è –∑–∞–ø–æ–º–Ω–∏–ª —Ä—è–¥–æ–º –≤–æ–¥–æ–Ω–∞–ø–æ—Ä–Ω—É—é –±–∞—à–Ω—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –µ—â–µ –Ω–∞ –∫–∞—Ä—Ç–µ, –∏ –º–∏–º–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –º—ã –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ —Å –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—ã–º –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä–æ–º-–±–æ–∫—Å–µ—Ä–æ–º –ø—Ä–æ–Ω–æ—Å–∏–ª–∏ –∫–∞—Ä—Ç–æ—à–∫—É –≤ –º–µ—à–∫–∞—Ö. –≠—Ç–æ –æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª–æ, —á—Ç–æ –º—ã –±—ã–ª–∏ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ, —á–µ–º –≤ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–µ –æ—Ç –°–∞–º–∞—à–µ–∫ –∏, –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ, –Ω–µ –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±—ã–ª –∑–∞ –°—É–Ω–∂–µ–π, –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–º —é–∂–Ω–µ–µ.
–ü—Ä—è–º–æ —É –∏–∑–±—É—à–∫–∏ —è –Ω–∞—à–µ–ª —Å—Ç–∞—Ä—ã–µ –º–∞–Ω–∏–∫—é—Ä–Ω—ã–µ —â–∏–ø—á–∏–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø–æ–º–æ–≥–ª–∏ –º–Ω–µ –ø–æ—Ç–æ–º –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–∏–≤–µ—Å—Ç–∏ –≤ –ø–æ—Ä—è–¥–æ–∫ –Ω–æ–≥—Ç–∏, –Ω–æ –∏, –ø–æ —Å—É—Ç–∏, –ø—Ä–µ–¥–æ—Ç–≤—Ä–∞—Ç–∏—Ç—å —Ç–µ—Ä–∞–∫—Ç.
–ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –º—ã –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å –≤ –ª–µ—Å.
–í –Ω–æ—è–±—Ä–µ –º—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –∫—É–ø–∞—Ç—å—Å—è –ø–æ —É—Ç—Ä–∞–º –ø–æ—Å–ª–µ –ø–∞—Ä–Ω–æ–π –ø—Ä–æ—Ç–æ–ø–ª–µ–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –ü—Ä–∏ –ø–µ—Ä–µ–ª–µ—Ç–µ –≤ —Ç–µ–ø–ª—ã–µ –∫—Ä–∞—è –≤ —Ä–µ—á–∫—É —á–∞—Å—Ç–æ —Å–∞–¥–∏–ª–∏—Å—å —Å—Ç–∞–∏ –ª–µ–±–µ–¥–µ–π. –û–Ω–∏ –Ω–æ—á–µ–≤–∞–ª–∏, –∞ —É—Ç—Ä–æ–º —É–ª–µ—Ç–∞–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ –Ω–∞ —é–≥. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –Ω–æ—è–±—Ä—è –æ–¥–Ω–∞ –∏–∑ –ª–µ–±–µ–¥–æ–∫ –Ω–µ —Å–º–æ–≥–ª–∞ –≤–∑–ª–µ—Ç–µ—Ç—å. –°—Ç–∞—è —É–ª–µ—Ç–µ–ª–∞ –±–µ–∑ –Ω–µ–µ, –∞ —á—É—Ç—å –ø–æ–∑–∂–µ –∫ –Ω–µ–π –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –ª–µ–±–µ–¥—å-—Å–∞–º–µ—Ü. –ú—ã —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª–∏—Å—å –∏—Ö –ø–æ–¥–∫–∞—Ä–º–ª–∏–≤–∞—Ç—å, —Ö–æ—Ç—è —Ñ–æ—Ä–µ–ª–∏ –≤ —Ä–µ–∫–µ –±—ã–ª–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ. –ß–µ–º –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å –∑–∏–º–æ–≤–∫–∞ –ø–∞—Ä—ã –Ω–µ–∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –∏ –Ω–∞—à–∞ –∑–∏–º–æ–≤–∫–∞ —ç—Ç–∏–º –º–µ—Å—Ç–æ–º –Ω–µ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∞—Å—å.
–í –Ω–æ—á—å –Ω–∞ 1 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª —É—Å–Ω—É—Ç—å. –ü—Ä–æ—Å–∏–ª —á–∞—é. –í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤ —á–∞—é –µ–º—É –¥–∞–ª–∏. –û–Ω —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª—Å—è, —É—Å–Ω—É–ª, –Ω–æ –≤–µ—Å—å —ç—Ç–æ—Ç —á–∞–π –≤ –≤–∏–¥–µ –º–æ—á–∏ –ø—É—Å—Ç–∏–ª –Ω–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞, —Å–ø–∞–≤—à–µ–≥–æ –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ–¥ –Ω–∞–º–∏.
–ü–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è —à—É—Ö–µ—Ä. –î–ª–∏–Ω–Ω–æ–≥–æ –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –û–Ω –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏–ª –ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å —á–∞—é. –ï–≥–æ –±–∏–ª–∏, —á—Ç–æ–±—ã –∑–∞–º–æ–ª—á–∞–ª, –Ω–æ –æ–Ω –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª. –ü–æ—Ç–æ–º –∫–∞–∫-—Ç–æ –≤—Å–µ –∑–∞—Ç–∏—Ö–ª–æ.
–ù–∞—Å —Ä–∞–∑–±—É–¥–∏–ª –õ–µ—á–∞. –°–Ω—è–ª –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∏ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ò–¥–∏—Ç–µ –ø–æ–±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ. –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –î–ª–∏–Ω–Ω—ã–π —É–º–µ—Ä. –ú–æ–∂–µ—Ç –≤—ã –µ—â–µ —á–µ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞–µ—Ç–µ.
–ú—ã –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á –ª–µ–∂–∞–ª —É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –ù–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –Ω–µ–º –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ì–ª–∞–∑–∞ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç—ã.
–Ø –ø–æ—Ö–ª–æ–ø–∞–ª –µ–≥–æ –ø–æ —â–µ–∫–∞–º — –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏. –°—Ç–∞–ª –¥–µ–ª–∞—Ç—å –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ. –ö–∞–∫ —É—á–∏–ª–∏: –∑–∞–ø—Ä–æ–∫–∏–Ω—É–ª –µ–º—É –≥–æ–ª–æ–≤—É, —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å –∏–Ω—Ç–µ–Ω—Å–∏–≤–Ω—ã—Ö –Ω–∞–∂–∞—Ç–∏–π –Ω–∞ –≥—Ä—É–¥–Ω—É—é –∫–ª–µ—Ç–∫—É, –¥–≤–∞ –≤—ã–¥–æ—Ö–∞ —Ä–æ—Ç –≤ —Ä–æ—Ç, –∑–∞–∂–∞–≤ –µ–º—É –Ω–æ—Å. –ü—É–ª—å—Å–∞ –Ω–µ—Ç. –ï—â–µ 30, –¥–≤–∞ –≤—ã–¥–æ—Ö–∞. –ù–µ—Ç –ø—É–ª—å—Å–∞. –ï—â–µ, –µ—â–µ, –µ—â–µ… –ù–∏ –Ω–∞–º–µ–∫–∞ –Ω–∞ –∂–∏–∑–Ω—å. –í–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ, –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–æ –Ω–µ –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—â–∞—Ç—å –¥–µ–ª–∞—Ç—å –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–µ –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ –¥–æ –ø—Ä–∏–µ–∑–¥–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ–π –ø–æ–º–æ—â–∏. –ù–æ —Å—é–¥–∞ –Ω–∏–∫–∞–∫–∞—è —Å–∫–æ—Ä–∞—è –Ω–µ –ø—Ä–∏–µ–¥–µ—Ç. –ú–∏–Ω–∞, –±–æ–º–±–∞, –ø—É–ª—è — –ø–æ–∂–∞–ª—É–π—Å—Ç–∞.
— –ù–µ —Å—Ç–∞—Ä–∞–π—Ç–µ—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞–º –õ–µ—á–∞. — –£ –Ω–µ–≥–æ –∏ –≤–æ–¥—ã —É—à–ª–∏. –ü–µ—Ä–≤—ã–π –ø—Ä–∏–∑–Ω–∞–∫, —á—Ç–æ –æ—Ä–≥–∞–Ω–∏–∑–º –∫ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏—Ç—Å—è.
— –ì–ª–∞–∑–∞ –µ–º—É –∑–∞–∫—Ä–æ–π, — –õ–µ—á–∞ –æ–±—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –∫–æ –º–Ω–µ.
–Ø –ª–∞–¥–æ–Ω—å—é —Å–≤–µ—Ä—Ö—É –≤–Ω–∏–∑ –∑–∞–∫—Ä—ã–ª –≥–ª–∞–∑–∞ –ê–ª–µ–∫—Å–∞–Ω–¥—Ä—É –ú–∏—Ö–∞–π–ª–æ–≤–∏—á—É –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤—É.
–ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –∑–∞—Å—É–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å. –î–≤–æ–µ –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ —Ä—É–±–∏—Ç—å –ª–∞–≥–∏ –∏ –ø–µ—Ä–µ–∫–ª–∞–¥–∏–Ω—ã, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ—Å—Ç–∏ –ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ–≥–æ. –°–≤–µ—Ç—É –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏–ª–∏ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂.
— –î–∞–≤–∞–π—Ç–µ —Å—Ä–æ—á–Ω–æ –∑–∞–∫–∞–ø—ã–≤–∞—Ç—å, — –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –õ–µ—á–∞. — –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, —Ç–∞—â–∏ –µ–≥–æ –Ω–∞ –Ω–æ—Å–∏–ª–∫–∏.
–Ø –ø–æ—Ç—è–Ω—É–ª –ª–µ–≥–∫–æ–µ —Ç–µ–ª–æ –Ω–∞ –ª–∞–≥–∏, —Å–≤—è–∑–∞–ª –±–∏–Ω—Ç–æ–º —Ä—É–∫–∏, –∫–∞–∫ —ç—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—é—Ç –ø–æ–∫–æ–π–Ω–∏–∫—É –≤ –≥—Ä–æ–±—É, –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–ª. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø–æ–¥—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª–∏ —Å–∞–º–æ–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –Ω–æ—Å–∏–ª–∫–∏ –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–∫—Ä—ã–ª–∏—Å—å –≤ –ª–µ—Å—É.
–ü–æ—Ö–æ—Ä–æ–Ω–Ω–∞—è –∫–æ–º–∞–Ω–¥–∞ –≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∞—Å—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ, –º–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å. –ó–∞–∫–æ–ø–∞–ª–∏, –≤–∏–¥–∞—Ç—å, –≥–¥–µ-—Ç–æ –ø–æ–±–ª–∏–∑–æ—Å—Ç–∏. –ò –Ω–µ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ.
<b–î–µ–Ω—å —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è><=»» b=»»></b–î–µ–Ω—å>
–ü–æ—Å–ª–µ —Å–º–µ—Ä—Ç–∏ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ –Ω–∞—à –±—ã—Ç –Ω–µ –∏–∑–º–µ–Ω–∏–ª—Å—è. –¢–æ—Ç –∂–µ –ø–æ–¥—ä–µ–º, –∫—É–ø–∞–Ω–∏–µ, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –∫–æ–µ-–≥–¥–µ —É–∂–µ –ª–µ–∂–∞–ª —Å–Ω–µ–≥. –ü–æ—Ç–æ–º –¥—Ä–æ–≤–∞, —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç –æ–±—É–≤–∏ –∏–ª–∏ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–∏–µ —Ç—Ä—É–±–æ–∫ –¥–ª—è –∫—É—Ä–µ–Ω–∏—è. –î–æ —Å–µ–¥—å–º–æ–≥–æ –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è –¥–µ–∂—É—Ä–∏–ª–∞ –ª–æ—è–ª—å–Ω–∞—è —Å–º–µ–Ω–∞ –ê–¥–∞–º–∞. –ê –≤–æ—Ç 8 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è, –≤ –º–æ–π –¥–µ–Ω—å —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è, —è–≤–∏–ª–∞—Å—å —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–∞—è —Å–º–µ–Ω–∞ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã. –¢–æ–ª—å–∫–æ —Å–∞–º –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ –∏ –º–æ–≥ —É–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å—Å—è —Å —ç—Ç–∏–º–∏ –≥–æ–ª–æ–≤–æ—Ä–µ–∑–∞–º–∏. –ù—É, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –∏ –õ–µ—á—É-—Ö—Ä–æ–º–æ–≥–æ –æ–Ω–∏ –∫–∞–∫-—Ç–æ —Å–ª—É—à–∞–ª–∏—Å—å. –ù–æ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª–∞ —Å–µ–π—á–∞—Å —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª –¥–∞–Ω—å –≤ –ú–æ—Å–∫–≤–µ, –∏ –õ–µ—á–∏ —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ –±—ã–ª–æ.
–ë–µ–¥—É —è –ø—Ä–µ–¥–≤–∏–¥–µ–ª. –ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –±—ã–ª–∏ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç—å—é –ê–±—É-–ë–∞–∫–∞—Ä–∞, –∞ –≤–æ—Ç –±—É–¥—É—â–∏–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –∑–∞ –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤–∞ —Å–º–µ–Ω–∞ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã —É–∂–µ –ø–æ–¥–µ–ª–∏–ª–∞ –º–µ–∂–¥—É —Å–æ–±–æ–π. –ò –≤–¥—Ä—É–≥ — —É–º–µ—Ä –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫ — —Ç–∞–∫–æ–π –æ–±–ª–æ–º! –ö—Ç–æ –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç? –Ø –∏ –Ω–µ —Å–æ–º–Ω–µ–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –±–∏—Ç—å –±—É–¥—É—Ç –º–µ–Ω—è.
–ò—Å–ª–∞–º — —ç—Ç–æ –∏–º—è — –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –±–æ–µ–≤—ã–º–∏ –∏—Å–∫—É—Å—Å—Ç–≤–∞–º–∏.
— –î–µ–Ω—å —Ä–æ–∂–¥–µ–Ω–∏—è —É —Ç–µ–±—è, –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—à—å, — –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å –æ–Ω –∏ —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ —É–¥–∞—Ä–∏–ª –º–µ–Ω—è –≤ –Ω–æ—Å. –ü–æ—Ç–æ–º –Ω–æ–≥–æ–π –≤ —É—Ö–æ. –ü–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ —è –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è, –ø–æ–ª—É—á–∏–ª –µ—â–µ —Å–µ—Ä–∏—é. –ò —Ç–∞–∫ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ –¥–æ–ª–≥–æ, –ø–æ–∫–∞ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –ò—Å–ª–∞–º–∞ –Ω–µ –æ—Ç—Ç–∞—â–∏–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –æ—Ç –º–µ–Ω—è. –¢–∞–º –ø–µ—Ä–µ–¥ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–æ–º –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª—è–Ω–∫–∞. –¢–∞–∫ –≤–æ—Ç –≤—Å—è –æ–Ω–∞ –∫–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –∑–µ–º–ª—è–Ω–∏–∫–æ–π –ø–æ—Ä–æ—Å–ª–∞. –ö–∞–ø–ª–∏ –∫—Ä–æ–≤–∏ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –Ω–µ –Ω–∞ –∫–∞–∂–¥–æ–π —Ç—Ä–∞–≤–∏–Ω–∫–µ –∏ –ª–∏—Å—Ç–æ—á–∫–µ. –°–≤–æ—é –º–æ—Ä–¥—É, —á–µ—Ä–Ω—É—é –æ—Ç —Å–∏–Ω—è–∫–æ–≤, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø–æ–∑–∂–µ. –í–æ—Ç —Ç–∞–∫ –∏ –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª —Å–æ—Ä–æ–∫–∞—à–µ—Å—Ç–∏–ª–µ—Ç–∏–µ.
–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–π –¥–µ–Ω—å –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø—Ä–∏—à–µ–ª –ë–µ—Å–ª–∞–Ω –∏ –õ–µ—á–∞-—Ö—Ä–æ–º–æ–π. –Ø —É–≤–µ—Ä–µ–Ω, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—à–ª–∏ –æ–Ω–∏, —á—Ç–æ–±—ã —É–º–µ—Ä–∏—Ç—å –ø—ã–ª —Å–º–µ–Ω—ã –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã. –ë–µ—Å–ª–∞–Ω –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–ª, –Ω–µ —Å–ª–æ–º–∞–Ω –ª–∏ —É –º–µ–Ω—è –Ω–æ—Å, –Ω–µ –∑–∞–¥–µ—Ç–æ –ª–∏ —Å–ª–æ–º–∞–Ω–Ω–æ–µ —Ä–∞–Ω–µ–µ —Ä–µ–±—Ä–æ.
–ò—Å–ª–∞–º –∏–∑ –ª–∞–≥–µ—Ä—è —É—à–µ–ª. –ù–∞–ø–∏–ª—Å—è –∫—Ä–æ–≤–∏. –ë–µ—Å–ª–∞–Ω –∏ –õ–µ—á–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–∏—Å—å –Ω–æ—á–µ–≤–∞—Ç—å. –ù–∞ —É—Ç—Ä–æ —Å–≤–∞–ª–∏–ª –∏ –ò–ª—å–º–∞–Ω –ë–∞—Ä–∞–µ–≤. –ë–µ—Å–ª–∞–Ω –ø–æ—à–µ–ª —Å –Ω–∞–º–∏ –∑–∞ –¥—Ä–æ–≤–∞–º–∏. –ú—ã –±–ª–∞–≥–æ–¥–∞—Ä–∏–ª–∏ –µ–≥–æ –∑–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—à–µ–ª.
— –≠—Ç–æ–≥–æ —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –æ–∂–∏–¥–∞—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–µ—Å–ª–∞–Ω. — –ö–æ–≥–¥–∞ —è —É–∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –≤ —Å–º–µ–Ω—É –ø–æ—à–µ–ª –ò—Å–ª–∞–º, —Å—Ä–∞–∑—É –∑–∞–±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏–ª—Å—è.
— –¢—ã –Ω–µ —É–π–¥–µ—à—å, –ë–µ—Å–ª–∞–Ω? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –°–≤–µ—Ç–∞.
— –ü–æ—Å—Ç–∞—Ä–∞—é—Å—å –±—ã—Ç—å —Ç—É—Ç, –ø–æ–∫–∞ —ç—Ç–∞ —Å–º–µ–Ω–∞ –¥–µ–∂—É—Ä–∏—Ç.
— –ê –ø—Ä–æ –Ω–∞—à–∏ –¥–µ–ª–∞ —Å –≤—ã–∫—É–ø–æ–º —á—Ç–æ-—Ç–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ?
— –ó–Ω–∞—é —Ç–æ–ª—å–∫–æ, —á—Ç–æ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –≤–∞–º–∏ –º–∞–π–æ—Ä –ò–∑–º–∞–π–ª–æ–≤, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –ë–µ—Å–ª–∞–Ω. — –¢–∞–∫ –≤–µ–¥—å –∑–∞–Ω–∏–º–∞–µ—Ç—Å—è –æ–Ω —ç—Ç–∏–º —Å–ø–µ—Ü–∏—Ñ–∏—á–µ—Å–∫–∏.
— –ß—Ç–æ —ç—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –°–≤–µ—Ç–∞.
— –≠—Ç–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, —á—Ç–æ —Ç–µ—Ö –¥–µ–Ω–µ–≥, —á—Ç–æ –∑–∞ –≤–∞—Å —Ö–æ—Ç—è—Ç, –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏ –Ω–µ—Ç. –ó–∞—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –æ—á–µ–Ω—å –±–æ–≥–∞—Ç—ã–µ –∏–Ω–≥—É—à–∏, —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —Å–∏–¥—è—Ç –≤ —Ç—é—Ä—å–º–µ. –ò–Ω–≥—É—à–∏ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä—É—é—Ç –≤—Å—é –¥–æ–±—ã—á—É –∑–æ–ª–æ—Ç–∞ –≤ –Ý–æ—Å—Å–∏–∏. –ü–æ—Ç–æ–º—É –∏ —Å–∏–¥—è—Ç. –ê —Å—Ö–µ–º–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–∞: –ò–∑–º–∞–π–ª–æ–≤ –¥–æ–±–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ–º–∏–ª–æ–≤–∞–Ω–∏—è –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ –∏–Ω–≥—É—à–µ–π, –µ–≥–æ —Ä–æ–¥—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –ø–ª–∞—Ç—è—Ç –Ω–∞–º –∑–∞ –≤–∞—Å –∏ –æ—Ç –ò–∑–º–∞–π–ª–æ–≤–∞ –ø–æ–ª—É—á–∞—é—Ç —Å–≤–æ–µ–≥–æ —Å–∏–¥–µ–ª—å—Ü–∞.
— –ê –∫–∞–∫ –∂–µ –ò–∑–º–∞–π–ª–æ–≤ –¥–æ–±–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –ø–æ–º–∏–ª–æ–≤–∞–Ω–∏—è?
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é. –ù–æ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ–º —Ç–∞–∫–æ–º –æ–±–º–µ–Ω–µ –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –ø—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª.
— –¢–æ—á–Ω–æ, — –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª —è. — –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç–∞–º –ú—É–∫–æ–º–æ–ª–æ–≤ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª. –í –∏—é–Ω–µ 99-–≥–æ –§–∏—à–º–∞–Ω–∞ –º–µ–Ω—è–ª–∏ –Ω–∞ –Æ–Ω—É—Å–∞ –∏–∑ –ë–µ–ª–æ–≥–æ –ª–µ–±–µ–¥—è. –ë–µ—Å–ª–∞–Ω, –∞ —Ç—ã —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ–∂–µ —Ç–∞–º –±—ã–ª?
— –ë—ã–ª, — —á—É—Ç—å —Å–º—É—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ë–µ—Å–ª–∞–Ω. — –¢–æ–ª—å–∫–æ —Ç—ã –º–µ–Ω—è —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª.
–ù–∞—á–∞–ª–æ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–≥–æ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏—è¬Ý
–î–µ–∫–∞–±—Ä—å –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –∫–æ–Ω—Ü—É. –ù–∞ —Å–∞–º–æ–º –¥–µ–ª–µ –∫ –∫–æ–Ω—Ü—É –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–µ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏–µ –æ—Ç —Ä–æ–∂–¥–µ—Å—Ç–≤–∞ –•—Ä–∏—Å—Ç–æ–≤–∞. –ù–∏–∫—Ç–æ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–µ —Ö–æ—Ç–µ–ª –æ—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è—Ç—å –Ω–∞—Å –≤ –Ω–æ—á—å —Å 31 –¥–µ–∫–∞–±—Ä—è –Ω–∞ 1 —è–Ω–≤–∞—Ä—è. –û —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏–µ, –∫–∞–∫ –∏ –•–•I –≤–µ–∫, –Ω–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∏—Å—å –≤ 2000 –≥–æ–¥—É, –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—Ç—å –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –¥–∞–∂–µ –ë–µ—Å–ª–∞–Ω—É. –¢–æ, —á—Ç–æ –Ω–æ–≤—ã–π –≤–µ–∫ –Ω–∞—á–Ω–µ—Ç—Å—è 1 —è–Ω–≤–∞—Ä—è 2001 –≥–æ–¥–∞, –Ω–∏–∫–æ–º—É –Ω–µ –Ω—Ä–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å. –ù–æ —ç—Ç–æ —Ç–∞–∫.
–í –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤ —Ä–µ—à–∏–ª–∏, —á—Ç–æ —Å –Ω–∞–º–∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω—É—Ç—Å—è –¥–≤–æ–µ — –ê–Ω–∑–æ—Ä-–±–æ–∫—Å–µ—Ä –∏ –•—É—Å–µ–π–Ω. –í —á–µ—Å—Ç—å –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫–∞ –ê–Ω–∑–æ—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –Ω–µ —Å–ø–∞–ª –≤ –ø–æ–ª–Ω–æ—á—å, –≤—ã–≤–µ–ª –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≤ —Ç—É–∞–ª–µ—Ç. –≠—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–µ—É–¥–æ–±–Ω–æ — —Å–ø—Ä–∞–≤–ª—è—Ç—å –Ω—É–∂–¥—É, –¥–∞–∂–µ –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫—É—é, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É—Ç –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∫ –æ—Å–æ–±–µ –∂–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –ø–æ–ª–∞. –í—Å–µ –∂–µ –º—ã –∫–∞–∫-—Ç–æ —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞–ª–∏. –£–∂–µ –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω–∏–∫. –ö–∞–∫ —Ä–∞–∑ –ø–æ–ª–Ω–æ—á—å. –ì–¥–µ-—Ç–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ, –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥–µ, —É—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ —Å–∞–ª—é—Ç. –ù–µ –æ—Ä—É–¥–∏–π–Ω—ã–π, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
— –§–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –ø—Ä–∞–∑–¥–Ω—É—é—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä.
–í–æ—Ç —Ç–∞–∫, –≤ –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞—Ö, –æ–±–ª–µ–≥—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏ –æ—Ç —Ç–æ–≥–æ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω—ã–µ –º—ã –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ —Ç—ã—Å—è—á–µ–ª–µ—Ç–∏–µ.
–ù–∞—Å —Ä–∞–∑–±–æ–º–±–∏–ª–∏ –≤ —Ç—É –∂–µ –Ω–æ—á—å
–° —É—Ç—Ä–∞ –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –∫–∞–±–µ–ª—å–Ω–∞—è –∫–∞—Ç—É—à–∫–∞, –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π –º–µ—Ç—Ä–∞ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞. –ì–¥–µ –≤–∑—è–ª –µ—ë –õ–µ—á–∞-—Ö—Ä–æ–º–æ–π, –∫–∞–∫ –ø—Ä–∏–≤–µ–∑ –∏ –∑–∞—á–µ–º –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª. –°–∞–º —Å–∫–∞–∂–µ—Ç, –µ—Å–ª–∏ –Ω–∞–¥–æ. –ù—É, –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –∏ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª. –¢–æ–ª—å–∫–æ —è-—Ç–æ —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ—á—É—è–ª –Ω–æ–≤—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É. –î–Ω—è —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –õ–µ—á–∞ –∑–∞—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –º–µ–Ω—è —Å–º–æ—Ç–∞—Ç—å —Å –±–∞—Ä–∞–±–∞–Ω–∞ –∫–∞—Ç—É—à–∫–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –≤–∏—Ç–æ–≥–æ –º–µ–¥–Ω–æ–≥–æ –∫–∞–±–µ–ª—è. –ö–∞–±–µ–ª—å —Å–æ—Å—Ç–æ—è–ª –∏–∑ –ø—è—Ç–∏ –Ω–µ—ç–º–∞–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã—Ö –º–µ–¥–Ω—ã—Ö –∂–∏–ª, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ —Ä–∞—Å–∫—Ä—É—Ç–∏—Ç—å –Ω–∞ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ.
–ü—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∞ –±—ã–ª–∞ —Ç–æ–ª—Å—Ç–∞—è, –º–∏–ª–ª–∏–º–µ—Ç—Ä–∞ —Ç—Ä–∏. –ü–æ—Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–Ω–æ —è —Ä–∞–∑–º–æ—Ç–∞–ª –∏ —É–ª–æ–∂–∏–ª –Ω–∞ –∑–µ–º–ª—é –≤—Å–µ –ø—è—Ç—å –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤—ã—Ö –∂–∏–ª. –õ–µ—á–∞ –¥–æ–ª–≥–æ —Ö–æ–¥–∏–ª –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –µ—â–µ –ø—Ä–∏–ª–∏—á–Ω–æ –∏–∑–≤–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å. –ü–æ—Ç–æ–º –º—ã –ø—Ä–æ—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞–ª–∏ –∫–∞–∂–¥—ã–π –∏–∑ –∫—É—Å–∫–æ–≤ –ø–æ –∫–æ—Ä–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ —Å –Ω–∞—Ç—è–≥–æ–º — –≤—ã–ø—Ä—è–º–ª—è–ª–∏.
–õ–µ—á–∞ —á—É—Ç—å –æ—Ç–æ—à–µ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, —Å —É–ª—ã–±–∫–æ–π –≥–ª—è–¥—è –Ω–∞ –ø—Ä–æ–¥–µ–ª–∞–Ω–Ω—É—é —Ä–∞–±–æ—Ç—É, –ø–æ—Ç–æ–º –≤–∑—è–ª –∫–æ–Ω–µ—Ü –æ–¥–Ω–æ–π –∂–∏–ª—ã, –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –∫ —Ä–µ—á–∫–µ –∏ –æ–±–≤—è–∑–∞–ª —Å—Ç–≤–æ–ª –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –Ω–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤–æ–π –≤—ã—Å–æ—Ç–µ –æ—Ç –∑–µ–º–ª–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –Ω–∞—à–µ–ª –¥—Ä—É–≥–æ–µ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –∏ –ø—Ä–æ–¥–µ–ª–∞–ª —Ç–æ –∂–µ —Å–∞–º–æ–µ. –ü—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∞ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É–ª–∞—Å—å –æ—Ç –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –¥–æ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –ø–æ–Ω—è–ª –∑–∞–¥—É–º–∫—É? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –õ–µ—á–∞.
–Ø –æ—Ç—Ä–∏—Ü–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–º–æ—Ç–∞–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.
— –í–æ—Ç —Ç–∞–∫, –ø–æ –∫—Ä—É–≥—É, –Ω—É–∂–Ω–æ –±—É–¥–µ—Ç –æ–±–Ω–µ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–æ–π –≤–µ—Å—å –ª–∞–≥–µ—Ä—å, — –æ–±—ä—è—Å–Ω—è–ª –õ–µ—á–∞. — –•–≤–∞—Ç–∏—Ç –µ—ë —É –Ω–∞—Å?
— –Ý–∞–¥–∏—É—Å –∫—Ä—É–≥–∞ –∫–∞–∫–æ–π –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
–õ–µ—á–∞ —Å—Ä–∞–∑—É –ø–æ–Ω—è–ª.
— –°—Ç–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–ù–∞ –±–∞—Ä–∞–±–∞–Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤¬Ý –∫–∞–±–µ–ª—è. –£–º–Ω–æ–∂–∏—Ç—å –Ω–∞ –ø—è—Ç—å — –¥–≤–∞ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞. –î–∞–ª—å—à–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ: –î–≤–∞–ü–∏–≠—Ä — 628 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –≤ –æ–∫—Ä—É–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏, –¥–∞ 100 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –≤—Å–µ —Å–∫—Ä—É—Ç–∫–∏ –∏ –æ–∫—Ä—É–≥–ª—è–µ–º –¥–æ –≤–æ—Å—å–º–∏—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
— –í–æ—Å–µ–º—å—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –í –±—É—Ö—Ç–µ — –¥–≤–µ —Ç—ã—Å—è—á–∏.
— –£ –º–µ–Ω—è —Ç–∞–∫ –∂–µ –ø–æ–ª—É—á–∏–ª–æ—Å—å, — –ª—É–∫–∞–≤–æ —É—Å–º–µ—Ö–Ω—É–ª—Å—è –õ–µ—á–∞.
–ò –≤–æ—Ç —è –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø–∏–ª –∫ —Ä–∞–∑–º–∞—Ç—ã–≤–∞–Ω–∏—é –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∏, –≤—ã–ø—Ä—è–º–ª–µ–Ω–∏—é –∏ –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è –µ—é –ø–µ—Ä–∏–º–µ—Ç—Ä–∞. –ü–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å — –ø–æ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–µ–º—É –±–µ—Ä–µ–≥—É —Ä–µ—á–∫–∏, –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è—è –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –æ—Ç —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∞. –û—Ç –Ω–µ–≥–æ –¥–æ —Ä–µ—á–∫–∏ –±—ã–ª–æ 30 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–Ø –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å –õ–µ—á—É –æ —Ü–µ–ª–∏ –æ–ø—É—Ç—ã–≤–∞–Ω–∏—è –ª–∞–≥–µ—Ä—è –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–æ–π. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –∂–µ –µ–º—É –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –Ω–∞ —Ä–µ—á–∫–µ —ç–ª–µ–∫—Ç—Ä–æ—Å—Ç–∞–Ω—Ü–∏—é. –ò —è –¥–∞–∂–µ –ø—Ä–µ–¥–æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –µ–º—É —Ä–∞—Å—á–µ—Ç—ã –∏ –ø–µ—Ä–µ—á–µ–Ω—å —Ä–∞–±–æ—Ç –∏ –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω–∏—è. –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–≤ –Ω–∞ –Ω–∏—Ö, –õ–µ—á–∞ —Å–Ω–∏–∫. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ –µ–º—É –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –∏ —Å–æ–∑–¥–∞–Ω–∏–µ –∑–¥–µ—Å—å, –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É, –∞—Ç–æ–º–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –ø—Ä–æ –æ–±–æ–≥–∞—â–µ–Ω–∏–µ —É—Ä–∞–Ω–∞ –≤ —Ç—ã—Å—è—á–∞—Ö —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–∏—Ñ—É–≥. –°–∞–º –õ–µ—á–∞, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª —Å–ª—É—à–∞—Ç—å, –ø–æ—Ä—É—á–∏–≤ —ç—Ç–æ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω—É. –¢–æ—Ç —Å –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–º –≤—Å–µ –≤—ã—Å–ª—É—à–∞–ª –∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–µ. –ù—É, –õ–µ—á–∞ –∏ –æ—Å—Ç—ã–ª –∫ –∞—Ç–æ–º–Ω–æ–π –±–æ–º–±–µ, –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –ø—Ä–æ —Ç–µ—Ä–º–æ—è–¥–µ—Ä–Ω—É—é, –≤–æ–¥–æ—Ä–æ–¥–Ω—É—é. –ù–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Å–∫–∞–∑–∞–ª, —á—Ç–æ –¥–ª—è –Ω–µ–µ –Ω—É–∂–µ–Ω –≤–∑—Ä—ã–≤–∞—Ç–µ–ª—å –≤ –≤–∏–¥–µ –∞—Ç–æ–º–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã, –õ–µ—á–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º –æ—Ö–ª–∞–¥–µ–ª –∫ —è–¥–µ—Ä–Ω–æ–π —Ñ–∏–∑–∏–∫–µ.
–ó–∞–¥—É–º–∫–∞ –õ–µ—á–∏ —Å—Ç–∞–ª–∞ —è—Å–Ω–∞ –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º. –ö —á–∞—Å—Ç–∏ —É–∂–µ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É—Ç–æ–π –æ–Ω –ø—Ä–∏–∫—Ä–µ–ø–∏–ª –∫–æ–Ω—Å–µ—Ä–≤–Ω—ã–µ –±–∞–Ω–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ–¥–≤–µ—à–µ–Ω–Ω—ã–º–∏ –≤ 30 —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –ø–æ–¥ –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–æ–π. –ï—Å–ª–∏ —Ç–∞–∫—É—é –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—é –∑–∞–¥–µ—Ç—å –Ω–µ–Ω–∞—Ä–æ–∫–æ–º, —Ç–æ –æ–Ω–∞ –∏–∑–¥–∞—Å—Ç –¥—Ä–µ–±–µ–∑–∂–∞—â–∏–π –∑–≤—É–∫. –ê —ç—Ç–æ—Ç –∑–≤—É–∫ –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—É–¥–µ—Ç —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç—å –¥–µ–∂—É—Ä–Ω—ã–π –ø–æ –ª–∞–≥–µ—Ä—é — ‘–∏–¥–µ—Ç —á—É–∂–æ–π’.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å —É –º–µ–Ω—è —Ä–∞–±–æ—Ç—ã –ø—Ä–∏–±–∞–≤–∏–ª–æ—Å—å. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≥–¥–µ-—Ç–æ –Ω–∞–π—Ç–∏ —Ç–µ —Å–∞–º—ã–µ –∂–µ—Å—Ç—è–Ω—ã–µ –±–∞–Ω–∫–∏ –æ—Ç —Ç—É—à–µ–Ω–∫–∏ –∏–ª–∏ —Å–≥—É—â–µ–Ω–∫–∏. –õ–∞–≥–µ—Ä–Ω—ã–µ –∏—Ö –∑–∞–ø–∞—Å—ã –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª–∏—Å—å. –ü—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å –∂–µ—Å—Ç—è–Ω–∫–∏ –≤ —Å—Ç–∞—Ä–æ–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –∏ –≤ –¥—Ä—É–≥–∏—Ö –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω—ã—Ö –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞—Ö, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–∂–µ—Å—Ç–≤–æ.
–Ø –Ω–µ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –µ—â–µ –∏ –ø–æ–ª–æ–≤–∏–Ω—ã –ø–æ—è—Å–∞ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏, –∞ –¥–µ–∂—É—Ä–Ω—ã–µ —É–∂–µ –∂–∞–ª–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å, —á—Ç–æ —ç—Ç–∞ –∑–∞—Ä–∞–∑–∞ –Ω–æ—á—å—é –≥—Ä–µ–º–∏—Ç –æ—Ç –≤–µ—Ç—Ä–∞, —á—Ç–æ –•–æ–¥–∂–∏ —É–∂–µ –ø–æ—Ä–≤–∞–ª –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —É—á–∞—Å—Ç–∫–æ–≤, –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—è—Å—å –∏–∑ –°–∞–º–∞—à–µ–∫. –î–∞ –∏ —Å–∞–º –õ–µ—á–∞ —É–≥–æ–¥–∏–ª –≤ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –Ω–µ–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏, –Ω–æ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª. –ê –∑—Ä—è.
–ú–µ–Ω—è —Å—Ç–∞–ª–∞ –≤—Å–µ –±–æ–ª—å—à–µ –±–µ—Å–ø–æ–∫–æ–∏—Ç—å –º—ã—Å–ª—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –Ω–∞—à–µ –∏–Ω–∂–µ–Ω–µ—Ä–Ω–æ–µ —á—É–¥–æ –±–µ–∑–æ–ø–∞—Å–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—Ç —Å–æ–±–æ–π –≤ —Ä–∞–¥–∏–æ—Ç–µ—Ö–Ω–∏—á–µ—Å–∫–æ–º –ø–ª–∞–Ω–µ. –û—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–∞—Å—å —Ä–∞–º–∫–∞ —Å —Ç–æ–∫–æ–º, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –º–∞–≥–Ω–∏—Ç–Ω–æ–º –ø–æ–ª–µ. –ù–æ –±–æ–ª—å—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ —è –¥—É–º–∞–ª –æ —Ç–æ–º, –∫–∞–∫ —ç—Ç–∞ —Ä–∞–º–∫–∞ –±—É–¥–µ—Ç –≤—ã–≥–ª—è–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ —ç–∫—Ä–∞–Ω–µ –ª–æ–∫–∞—Ç–æ—Ä–∞. –ü–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –Ω–∏–∫–∞–∫: –Ω–µ—Ç –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Ç—Ä–∞–∂–µ–Ω–∏—è —Å–∏–≥–Ω–∞–ª–∞ –æ—Ç –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∏. –ù–æ —Ä–∞–º–∫–∞… –í—Ä–æ–¥–µ –∫–∞–∫ –∫–æ–ª–µ–±–∞—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π –∫–æ–Ω—Ç—É—Ä — –≤–∏—Ç–æ–∫ –æ–∫—Ä—É–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏ –µ—Å—Ç—å, –∫–∞–∫–æ–π-–Ω–∏–∫–∞–∫–æ–π –∫–æ–Ω–¥–µ–Ω—Å–∞—Ç–æ—Ä —Å–ª–æ–∂–∏—Ç—Å—è –∏–∑ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–µ–π —Å—Ä–µ–¥—ã. –ü—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç—å –æ–Ω–∞ –±—É–¥–µ—Ç –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –≤–µ—Å—å –¥–∏–∞–ø–∞–∑–æ–Ω, –∞ –≤–æ—Ç –∏–∑–ª—É—á–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ–π —á–∞—Å—Ç–æ—Ç–µ —Å –∫—É—á–µ–π –≥–∞—Ä–º–æ–Ω–∏–∫. –í—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –µ—â–µ, —á—Ç–æ –µ—Å—Ç—å –ø–∞—Å—Å–∏–≤–Ω—ã–µ —Ä–∞–¥–∞—Ä—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–∞–±–ª—é–¥–∞—é—Ç –∑–∞ –∏–∑–º–µ–Ω–µ–Ω–∏–µ–º —Ä–∞–¥–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –æ–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∏, —Å–∞–º–∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∏–∑–ª—É—á–∞—è. –ù–æ —É –Ω–∞—Å –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –º–µ–Ω—è–µ—Ç—Å—è. –í –æ–±—â–µ–º, –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∞ –Ω–µ —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å –∏ –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–µ–µ.
–ö–∞–∫-—Ç–æ –Ω–µ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª —è —Ç–æ–≥–¥–∞ –æ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥—á–∏–∫–µ –ê-50 –Ω–∞ –±–∞–∑–µ –ò–ª-76. –í–æ—Ç –µ–º—É-—Ç–æ –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ü–∏—è —Ç–∞–∫–æ–≥–æ —Ç–∏–ø–∞ —Ç–æ—á–Ω–æ –≤–∏–¥–Ω–∞. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ –≤ —Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –±–æ—Ä—Ç–æ–≤ –º–æ–≥ –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞—Ç—å –í–∞–ª–µ—Ä–∫–∞ –ö–∞—Å–Ω–µ—Ä — –º–æ–π –æ–¥–Ω–æ–∫–∞—à–Ω–∏–∫.
–í–æ –≤—Ä–µ–º—è –æ–±–µ–¥–∞ —è —Ç–∏—Ö–æ–Ω—å–∫–æ –ø–æ–¥–µ–ª–∏–ª—Å—è —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —Å–≤–æ–∏–º–∏ –æ–ø–∞—Å–µ–Ω–∏—è–º–∏.
— –ù—É –∏ —á—Ç–æ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª–∞ –æ–Ω–∞.
— –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–µ—à—å, –Ω–µ –±—ã–ª–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –≤ –ª–µ—Å—É, –∏ –≤–¥—Ä—É–≥ —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è, — –æ–±—ä—è—Å–Ω—è—é —è.
— –ù—É, —á—Ç–æ, –Ω–∞–ø—Ä–∏–º–µ—Ä?
— –ù–µ –∑–Ω–∞—é. –ê –≤–¥—Ä—É–≥ —ç—Ç–æ –≤—ã–≥–ª—è–¥–∏—Ç –Ω–∞ —Ä–∞–¥–∞—Ä–µ, –∫–∞–∫ —Å–∫–æ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ –±—Ä–æ–Ω–µ—Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏?
— –û—Ç–∫—É–¥–∞ –≤ –ª–µ—Å—É —Å–∫–æ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ –±—Ä–æ–Ω–µ—Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∏? — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞. — –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä–∏—Ç.
— –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ –Ω–µ –ø–æ–≤–µ—Ä—è—Ç, –Ω–æ –∏ –±–µ–∑ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤—è—Ç. –î–æ–ª–±–∞–Ω—É—Ç ‘–ì—Ä–∞–¥–æ–º’ –Ω–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π — –≤—Å–µ–≥–æ-—Ç–æ –∏ –¥–µ–ª–æ–≤! –õ–µ—Å –∂–µ.
— –ù—É, –¥–∞, — —Å–æ–≥–ª–∞—Å–∏–ª–∞—Å—å –æ–Ω–∞. — –í—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –∫–∞–∂–¥—É—é –Ω–æ—á—å –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–≤–∞—é—Ç. –ú–æ–∂–µ—Ç, —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –õ–µ—á–µ?
— –¢—ã —á—Ç–æ! –≠—Ç–æ –∂–µ –µ–≥–æ –¥–µ—Ç–∏—â–µ! –ê –≤–¥—Ä—É–≥ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç? –¢–æ–≥–¥–∞ —Ç–æ—á–Ω–æ —Å–≥–Ω–æ–∏—Ç. –ê —É–∂ –µ—Å–ª–∏ –±—É–¥–µ—Ç, —Ç–∞–∫ –º—ã –∂–µ –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–µ–º—Å—è –≤–∏–Ω–æ–≤–∞—Ç—ã–º–∏. –ï—Å–ª–∏ –≤—ã–∂–∏–≤–µ–º, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ.
–Ý–µ—à–∏–ª–∏ –º–æ–ª—á–∞—Ç—å.
–ù–∞—Å —Ä–∞–∑–±–æ–º–±–∏–ª–∏ –≤ —Ç—É –∂–µ –Ω–æ—á—å.
–ö –≤–µ—á–µ—Ä—É —è –∑–∞–º–∫–Ω—É–ª –∫–æ–ª—å—Ü–æ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –ª–∞–≥–µ—Ä—è. –ü–æ–¥—É–º–∞–ª –∏ —Ä–∞–∑–æ–º–∫–Ω—É–ª –µ–≥–æ —É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞, –∑–∞–∑–µ–º–ª–∏–≤ –æ–±–∞ –∫–æ–Ω—Ü–∞. –ü–µ—Ä–µ–¥ —Ç–µ–º, –∫–∞–∫ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è —Å–ø–∞—Ç—å –Ω–∞ —Å–≤–æ–∏ –Ω–∞—Ä—ã, –º—ã –æ—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª–∏ —Ç–µ–ª–æ–≥—Ä–µ–π–∫–∏ –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ. –í—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ—á–µ–Ω—å –∂–∞—Ä–∫–æ. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞ –≤ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –ª—É—á—à–µ –±—ã –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ.
–ì–ª—É–±–æ–∫–∞—è –Ω–æ—á—å. ‘–î—É-–¥—É-–¥—É-–¥—É-–¥—É’, — —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —è –º–∏–Ω–æ–º–µ—Ç–Ω—É—é —Å–µ—Ä–∏—é. –£—Å–ª—ã—à–∞–ª –Ω–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è. –í—Å–µ –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª–∏ —Å–æ —Å–≤–æ–∏—Ö –º–µ—Å—Ç. –ò —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ, –ø–∞–¥–∞—è, –∑–∞–≤—ã–ª–∏ –º–∏–Ω—ã. –ò –±–∞—Ö, –±–∞—Ö, —Ç—Ä–µ—Å–∫! –¢—Ä–µ—Å–∫ — –∑–Ω–∞—á–∏—Ç —Å–æ–≤—Å–µ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ.
— –í—Å–µ–º –ª–µ—á—å –Ω–∞ –ø–æ–ª, — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –õ–µ—á–∞, –∞ —Å–∞–º –±—Ä–æ—Å–∏–ª—Å—è –∫ –Ω–∞–º, –æ—Ç—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª –æ—Ç –º–µ–Ω—è –ö—É–∑—å–º–∏–Ω—É –∏ –ø—Ä–∏–≥–Ω—É–ª –∫ –ø–æ–ª—É.
–Ø —Ç–æ–∂–µ —Å–ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª —Å –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏—Ö –Ω–∞—Ä, –Ω–æ –º–µ–Ω—è –∫—Ç–æ-—Ç–æ —Ç–æ–ª–∫–Ω—É–ª –∏ —è –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –Ω–∏–∂–Ω–∏—Ö.
–í—Ç–æ—Ä–æ–µ ‘–¥—É-–¥—É-–¥—É’ —É–∂–µ –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª. –û–ø—è—Ç—å –∑–∞–≤—ã–ª–∏ –º–∏–Ω—ã –∏ –Ω–∞—á–∞–ª–æ –≤—Å–µ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –≤–∑—Ä—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è. –° —É–ª–∏—Ü—ã –≤–ª–µ—Ç–µ–ª –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –≤ —à–∏–Ω–µ–ª–∏ –∏ —Å —Ä–∞–∑–±–µ–≥—É —É–ø–∞–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è.
‘–¢—Ä–µ—Å–∫, —Ç—Ä–µ—Å–∫’, — —Ä–∞–∑–¥–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞–¥ –Ω–∞–º–∏, —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ä—è–¥–æ–º. –û–¥–Ω–∞ –∏–∑ –º–∏–Ω –≤–∑–æ—Ä–≤–∞–ª–∞—Å—å –≤ –≤–æ–¥–µ, –≤ —Ä–µ—á–∫–µ, –∑–∞ 30 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –í–æ–ª–Ω–æ–π –Ω–∞–∫—Ä—ã–ª–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –∞ –≤—Å–µ –Ω–∞ –ø–æ–ª—É!
–ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –±—ã–ª–∞ –µ—â–µ —Å–µ—Ä–∏—è.
–ö–æ–≥–¥–∞ –≤—Å–µ –∑–∞—Ç–∏—Ö–ª–æ, —Å—Ç–∞–ª–∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ —Å–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è. –û—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ù–∞ —É–ª–∏—Ü–µ –º—ã –Ω–∞–¥–µ–ª–∏ –∏–∑—Ä–µ—à–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–µ –æ—Å–∫–æ–ª–∫–∞–º–∏ –≤–∞—Ç–Ω–∏–∫–∏. –ë–∏—Å–ª–∞–Ω –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –¥–≤–µ –¥—ã—Ä–∫–∏ –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω–∫–µ —à–∏–Ω–µ–ª–∏. –û—Å–∫–æ–ª–æ–∫ –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –≤–æ—à–µ–ª –≤ —à–∏–Ω–µ–ª—å –∏ –≤—ã—à–µ–ª, –Ω–µ –∑–∞–¥–µ–≤ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω–∞.
— –ê –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω –≤–µ—Å–µ–ª–æ, — —á—Ç–æ —è —É–∂–µ –∏–∑–æ—à–µ–ª –∫—Ä–æ–≤—å—é.
— –¢—ã –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª? –ë—ã–ª–æ –±–æ–ª—å–Ω–æ? — —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∏ –µ–≥–æ.
— –ù–µ—Ç, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ. –ö–∞–∫ –±—É–¥—Ç–æ –∫—Ç–æ-—Ç–æ –≤—Å—Ç—Ä—è—Ö–Ω—É–ª –∑–∞ —à–∫–∏—Ä–∫—É.
–û–¥–Ω–∞ –∏–∑ –º–∏–Ω –≤ —Ç–æ—á–Ω–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ–ø–∞–ª–∞ –≤ —è–º—É –∫–ª–æ–∑–µ—Ç–∞, –æ–∫—Ä–æ–ø–∏–≤ –≤—Å–µ –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –Ω–µ–ø–æ–≤—Ç–æ—Ä–∏–º—ã–º –∞—Ä–æ–º–∞—Ç–æ–º.
–°–≤–µ—Ç–∞–ª–æ. –®–ª–∏ —Ü–µ–ø–æ—á–∫–æ–π: –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, –ê–¥–∞–º, –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, –£–º–∞—Ä, –•–æ–¥–∂–∏. –ó–∞–º—ã–∫–∞–ª –ø—Ä–æ—Ü–µ—Å—Å–∏—é –õ–µ—á–∞-—Ö—Ä–æ–º–æ–π. –ú–Ω–µ –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∏ –ø–æ–ø–∞–ª—Å—è –æ–±—Ä—ã–≤–æ–∫ –Ω–∞—à–µ–π –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∏ — —ç–≤–æ–Ω –∫—É–¥–∞ –∑–∞–±—Ä–æ—Å–∏–ª–æ, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Å—Ç–∞ —Å –¥—Ä—É–≥–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Ä–µ—á–∫–∏. –£—Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –º—ã, –∫–∞–∫ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –≤ –Ω–∏–∫—É–¥–∞. –¢—Ä–µ—Ç–∏–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –µ—â–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å.
15.09.2020
–í –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É –ø–æ–ª–Ω–æ —Ä–µ—á—É—à–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –Ω–∞–∑—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –∞—Ä–≥—É–Ω–∞–º–∏, –µ—Å–ª–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —ç—Ç–æ –Ω–µ –°—É–Ω–∂–∞ –∏–ª–∏ –¢–µ—Ä–µ–∫. –ü–æ—ç—Ç–æ–º—É –ª–µ—Å — –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –Ω–∏–∑–º–µ–Ω–Ω–∞—è, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –∏–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –ø–µ—Ä–µ–º–µ–∂–∞–µ—Ç—Å—è —Ö–æ–ª–º–∏–∫–∞–º–∏. –ö –Ω–∞—á–∞–ª—É 2001 –≥–æ–¥–∞ –º–Ω–æ—é –±—ã–ª–æ –≤—ã—Ä—ã—Ç–æ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–∫–æ–ø–æ–≤, —á—Ç–æ –∫–≤–∞–ª–∏—Ñ–∏–∫–∞—Ü–∏—è –∫–æ–ø–∞—Ç–µ–ª—è –¥–æ—Å—Ç–∏–≥–ª–∞ –ø—Ä–æ—Ñ–µ—Å—Å–∏–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É—Ä–æ–≤–Ω—è. –ö–æ–ø–∞—Ç—å –æ–∫–æ–ø—ã –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É –ª–µ–≥–∫–æ: –ø–æ–¥ —Ç–æ–Ω–∫–∏–º —Å–ª–æ–µ–º —á–µ—Ä–Ω–æ–∑–µ–º–∞ –∏ –º–µ–ª–∫–∏—Ö –∫–∞–º–Ω–µ–π –ø–µ—Å–æ–∫ —Å –≥–ª–∏–Ω–æ–π. –ì—Ä—É–Ω—Ç –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ –∫–æ–ø–∞–µ—Ç—Å—è –∏ –Ω–µ –æ—Å—ã–ø–∞–µ—Ç—Å—è —Å–æ —Å—Ç–µ–Ω–æ–∫. –û—Å–Ω–æ–≤–Ω–∞—è –ø—Ä–æ–±–ª–µ–º–∞ — –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ –≤—ã–±—Ä–∞—Ç—å –º–µ—Å—Ç–æ, —á—Ç–æ–±—ã —á–µ—Ä–µ–∑ –º–µ—Ç—Ä –≥–ª—É–±–∏–Ω—ã –≤ –æ–∫–æ–ø–µ –Ω–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤–æ–¥–∞.
–ö–∞–∫-—Ç–æ –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π –ø–æ–¥–æ–∑–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –≤–æ—Ç –∑–¥–µ—Å—å –Ω–∞–¥–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –æ–∫–æ–ø, — –æ–Ω —Ç–∫–Ω—É–ª –ø–∞–ª–∫–æ–π –≤ –∑–µ–º–ª—é, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –µ–π –∂–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –∏ –¥–ª–∏–Ω—É. — –ë—Ä—É—Å—Ç–≤–µ—Ä —Å —ç—Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã, — –¥–æ–±–∞–≤–∏–ª –æ–Ω.
–Ø –æ—Ü–µ–Ω–∏–ª –ª–∞–Ω–¥—à–∞—Ñ—Ç –∏ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª:
— –ö–∞–∫ –±—ã —Å–∞–Ω—Ç–∏–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —á–µ—Ä–µ–∑ —Å–æ—Ä–æ–∫ –Ω–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤–æ–¥–∞.
–õ–µ—á–∞ –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –º–µ–Ω—è —Å–∫–µ–ø—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏.
— –ö–æ–ø–∞–π, — –±—Ä–æ—Å–∏–ª –æ–Ω –∏ –ø–æ—à–µ–ª. –ü–æ—Ç–æ–º –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è, –≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: — –í–≥–ª—É–±—å –∫–æ–ø–∞–π. –ò –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è —Ä—è–¥–æ–º.
–í–æ–¥–∞ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –Ω–∞ –¥–Ω–µ –ª—É–Ω–∫–∏ —É–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª–º–µ—Ç—Ä–∞.
— –°—Ç–æ–ø, — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –õ–µ—á–∞ –∏ –æ–≥–ª—è–¥–µ–ª—Å—è –≤–æ–∫—Ä—É–≥.
— –ê —Ç—ã –¥—É–º–∞–µ—à—å, –≥–¥–µ –Ω—É–∂–Ω–æ –∫–æ–ø–∞—Ç—å?
–Ø –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ—á–µ–∫, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Å–æ—Ä–æ–∫–∞.
— –ü—Ä–æ–≤–µ—Ä—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –õ–µ—á–∞.
–Ø –ø–æ—à–µ–ª —Ç—É–¥–∞ –∏ –≤–æ—Ç–∫–Ω—É–ª –ª–æ–ø–∞—Ç—É –≤ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—è—â–µ–º –º–µ—Å—Ç–µ. –í–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –õ–µ—á—É. –¢–æ—Ç –æ–¥–æ–±—Ä–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∫–∏–≤–Ω—É–ª. –í–æ–¥—ã –Ω–µ –±—ã–ª–æ –¥–∞–∂–µ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —è–º–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –≥–ª—É–±–∂–µ –º–æ–µ–≥–æ —Ä–æ—Å—Ç–∞.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–∞–π—Ç–∏ –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è –Ω–æ–≤–æ–≥–æ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø—Ä–µ–¥–ª–∞–≥–∞–ª–∏, –∞ —è –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª, –Ω–∞ –∫–∞–∫–æ–π –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ –±—É–¥–µ—Ç –≤–æ–¥–∞. –û–Ω–∏ –Ω–µ –≤–µ—Ä–∏–ª–∏. –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –∫–æ–ø–∞—Ç—å –¥–æ –≤–æ–¥—ã. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –º–µ—Å—Ç–æ –Ω–∞—à–ª–∏. –Ø –ø—Ä–µ–¥—Å–∫–∞–∑–∞–ª –≤–æ–¥—É –Ω–∞ –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞–º–µ—Ç—Ä–æ–≤–æ–π –≥–ª—É–±–∏–Ω–µ. –í—ã–∫–æ–ø–∞–ª–∏ –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞ —Ü–µ–ª–∏–∫–æ–º –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –ß–∞—Å–∞ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –∫–æ–ø–∞–ª–∏.
–ù–∞ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–µ —É—Ç—Ä–æ –ø–µ—Å–æ–∫ –Ω–∞ –¥–Ω–µ –±—ã–ª –º–æ–∫—Ä—ã–π, –∞ –∫ –≤–µ—á–µ—Ä—É –ø–æ—è–≤–∏–ª–∞—Å—å –ª—É–∂–∏—Ü–∞. –ù–æ –æ—Ç –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ —Ä–µ—à–∏–ª–∏ –ø–æ–∫–∞ –Ω–µ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è, –Ω–∞ –ø–æ–ª—É —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–∞—Å—Ç–∏–ª –∏–∑ –≤–µ—Ç–æ–∫, –∞ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π –Ω–∞–∫–∞—Ç –±—Ä–µ–≤–µ–Ω –ø—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–∞ –æ–¥–Ω–æ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ.
–ù–∞–∫–∞—Ç–Ω—ã–µ –±—Ä–µ–≤–Ω–∞ —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø–µ—Ä–µ—Ç–∞—Å–∫–∏–≤–∞—Ç—å –º–Ω–µ –æ–¥–Ω–æ–º—É. –ü—Ä–∏—á–µ–º, –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –±—Ä–∞—Ç–æ–º –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫–æ–º —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ –≤—ã–±–∏—Ä–∞–ª–∏ —Å—Ç–≤–æ–ª—ã –ø–æ—Ç–æ–ª—â–µ, –Ω–æ –≤ —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ —è –Ω–∞—É—á–∏–ª—Å—è –ø–µ—Ä–µ–Ω–æ—Å–∏—Ç—å –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –±—ã –Ω–µ–ø—Ä–µ–ø–æ–¥—ä–µ–º–Ω—ã–µ —Å—Ç–≤–æ–ª—ã. –ü–æ—Å–ª–µ —Ç–æ–≥–æ, –∫–∞–∫ –æ–±—Ä—É–±–∞–ª–∏—Å—å –≤—Å–µ –≤–µ—Ç–∫–∏, —è –∞–∫–∫—É—Ä–∞—Ç–Ω–æ –ø–æ–¥–ª–µ–∑–∞–ª –ø–æ–¥ —Ç–æ–Ω–∫—É—é —á–∞—Å—Ç—å —Å—Ç–≤–æ–ª–∞, –∫–ª–∞–ª –µ—ë –Ω–∞ –ø–ª–µ—á–æ –∏ –ø–ª–∞–≤–Ω–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞–ª—Å—è –∫ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–µ. –£–∂–µ –∑–∞ —Å–µ—Ä–µ–¥–∏–Ω–æ–π —Å—Ç–≤–æ–ª –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏–ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª —Ç–æ–ª—Å—Ç—É—é —á–∞—Å—Ç—å. –í—Å–µ. –ú–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–¥—Ç–∏.
–ü–ª–æ—Ö–æ–Ω—å–∫–∏–π –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –°—ã—Ä–æ–π, –Ω–∏–∑–∫–∏–π. –ù–∞–∫–∞—Ç –±—Ä–µ–≤–µ–Ω –±—ã–ª –æ–¥–∏–Ω, –Ω–∞ –Ω–µ–º —Ç–∫–∞–Ω—å-500 –∏ —Å–ª–æ–π –∑–µ–º–ª–∏. –¢–æ–ø–∏—Ç—å –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –Ω–µ–ø—Ä–µ—Ä—ã–≤–Ω–æ, –Ω–æ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Ä–∞—Ö –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –º–µ—Ä–∑–ª–∏, –∞ –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø–æ–¥ –ø–æ—Ç–æ–ª–∫–æ–º —É–º–∏—Ä–∞–ª–∏ –æ—Ç –∂–∞—Ä—ã.
–í—Å–∫–æ—Ä–µ –±—ã–ª–æ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –Ω–æ–≤—ã–π –∏ —Ö–æ—Ä–æ—à–∏–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –ü–æ—è–≤–∏–ª–æ—Å—å –Ω–∞—á–∞–ª—å—Å—Ç–≤–æ — —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω—ã–µ –º—É–∂–∏–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —è —Ä–∞–Ω—å—à–µ –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª. –î–æ–ª–≥–æ —Å–ø–æ—Ä–∏–ª–∏. –ü–æ—Ç–æ–º –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤ –º–∞—Ö–Ω—É–ª –º–Ω–µ:
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –ø–æ–π–¥–µ–º —Å –Ω–∞–º–∏.
–ü–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –ö—é—Ä–∏ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª –º–Ω–µ, —á—Ç–æ –º–µ—Å—Ç–æ, –∫—É–¥–∞ –º—ã –∏–¥–µ–º, –ø—Ä–∏—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–Ω–æ –∏ –º–Ω–æ–≥–∏–º –Ω—Ä–∞–≤–∏—Ç—Å—è. –ù–æ —Ç–∞–º, —Ä—è–¥–æ–º, —É–∂–µ –±—ã–ª –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –±–ª–∞–≥–æ–ø–æ–ª—É—á–Ω–æ –æ–±–≤–∞–ª–∏–ª—Å—è, –ø–æ–¥–º—ã—Ç—ã–π –≤–æ–¥–æ–π.
— –í–æ—Ç, — –ø–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª –ö—é—Ä–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –º—ã –ø—Ä–∏—à–ª–∏, — –µ–¥–≤–∞ —É—Å–ø–µ–ª–∏ —Å–ø–∞—Å—Ç–∏ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –∏ –ø—Ä–∏–ø–∞—Å—ã –µ–¥—ã.
–ë—ã–≤—à–∏–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –Ω–∞—Ö–æ–¥–∏–ª—Å—è –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–∫–∞, —á—É—Ç—å –≤—ã—à–µ —É—Ä–æ–≤–Ω—è —Ä–µ–∫–∏.
— –ü–æ-–º–æ–µ–º—É, –Ω–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ —Å—Ç—Ä–æ–∏—Ç—å –≤–æ–Ω —Ç–∞–º, — —è –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–∫.
–ú—ã —Å –ö—é—Ä–∏ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–º.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –æ –Ω–∞—à–∏—Ö –ø–ª–∞–Ω–∞—Ö –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ö—é—Ä–∏ –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏, –æ–±—Ä–∞—â–∞—è—Å—å –∫–æ –≤—Å–µ–º. — –ü—É—Å—Ç—å –ø–æ–∫–∞–∂–µ—Ç, –≥–¥–µ –±—ã –æ–Ω –ø–æ—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂.
–Ø –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –ø–æ–≤—ã—à–µ. –û—Ç —Ä–µ—á–∫–∏ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ 30. –í—ã–±—Ä–∞–ª —Å–∞–º–æ–µ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª: — –í–æ—Ç –∑–¥–µ—Å—å.
–í–∏–¥–∏–º–æ, —è –ø–æ–¥—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω–∏—è –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö. –û–Ω–∏ –∑–∞–∫–∏–≤–∞–ª–∏, –ö—é—Ä–∏ —É–ª—ã–±–∞–ª—Å—è. –í—Å–µ —Ä–µ—à–µ–Ω–æ. –ó–¥–µ—Å—å –±—É–¥–µ—Ç –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –º–æ–π –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –û—Ç—Å—é–¥–∞ —è –∏ —Å–±–µ–≥—É.
–ë–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–∏ –¥—Ä—É–∂–Ω–æ. –ò–∑ –°–∞–º–∞—à–µ–∫, –®–∞–∞–º–∏-–Æ—Ä—Ç–∞, –ù–æ–≤–æ–≥–æ-–®–∞—Ä–æ—è, –î–∞–≤—ã–¥–µ–Ω–∫–æ, –ê—Å—Å–∏–Ω–æ–≤—Å–∫–æ–π —Å–æ–±—Ä–∞–ª–æ—Å—å —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫ 50. –ú–Ω–æ–≥–∏—Ö —è –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –¥–∞ –∏ –æ–Ω–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π —Å –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–æ–º, –Ω–æ –Ω–∏ –æ —á–µ–º –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞–ª–∏.
–í –æ—Å–Ω–æ–≤–Ω–æ–º, —è –∫–æ–ø–∞–ª –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏. –ü–∞—Ä—É —Ä–∞–∑ —Å—Ö–æ–¥–∏–ª –∑–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–∞–º–∏ –∏ —Ç–æ, –ª–∏—à—å –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã —É–¥–æ–≤–ª–µ—Ç–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –ª—é–±–æ–ø—ã—Ç—Å—Ç–≤–æ –ø—Ä–∏—à–µ–¥—à–∏—Ö. ‘–ê –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ—Ç —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π –∏ –±—Ä–µ–≤–Ω–∞ —Ç–∞—Å–∫–∞—Ç—å —É–º–µ–µ—Ç?’
–ë–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª—Å—è –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—ã–π. –í—ã—Å–æ—Ç–æ–π –ø–æ–¥ –¥–≤–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞. –î–ª–∏–Ω–æ–π 25 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, —à–∏—Ä–∏–Ω–æ–π — –≤–æ—Å–µ–º—å. –ü–æ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä—É — –ø–æ–¥–ø–æ—Ä–∫–∏ –∏—Ö —á–µ—Ç—ã—Ä–µ—Ö –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω –¥–ª—è –Ω–∞–∫–∞—Ç–∞ –∏–∑ –¥–≤—É—Ö –±—Ä–µ–≤–µ–Ω. –ú–µ–∂–¥—É –Ω–∞–∫–∞—Ç–∞–º–∏ —Ç–∫–∞–Ω—å-1000. –í—Ö–æ–¥ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ —Å –∑–∞–ø–∞–¥–Ω–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –ø–æ –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ, —Å–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—é—â–∏–π –∫ –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–∏ –Ω–∞ —é–≥. –ü–µ—á–∫–∞, –Ω–∞—Ä—ã –∏ –≤—ã—Å–æ–∫–∏–µ –Ω–∞—Ä—ã –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–µ–º —Ç–æ—Ä—Ü–µ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –¥–ª—è –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π.
–ü–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã
–ù–∞—á–∞–ª–æ –º–∞—Ä—Ç–∞. –í –ª–∞–≥–µ—Ä–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π —Å –¥–≤—É–º—è —Å—Ä–µ–¥–Ω–∏—Ö –ª–µ—Ç —á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞–º–∏. –õ–∞–≥–µ—Ä—å –∫–∞–∫-—Ç–æ –≤—Å—Ç—Ä–µ–ø–µ–Ω—É–ª—Å—è. –¢–µ, –¥–≤–æ–µ –Ω–æ–≤—ã—Ö, –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–∏ –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –û–Ω–∞ –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–ª–∞ —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞, –∞ —è –ø–∏–ª–∏–ª –¥—Ä–æ–≤–∞. –ü–æ—Ç–æ–º –Ω–æ–≤—ã–µ –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–º —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏—Å—å –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–∑–≤–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è, — –±—É–¥–µ—à—å —á–∏—Ç–∞—Ç—å –≤–æ—Ç —ç—Ç–æ—Ç —Ç–µ–∫—Å—Ç –Ω–∞ –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω.
–ú–Ω–µ —Å—É–Ω—É–ª–∏ –≤ —Ä—É–∫–∏ –≥–∞–∑–µ—Ç—É, –∫–∞–∂–µ—Ç—Å—è ‘–ò–∑–≤–µ—Å—Ç–∏—è’ –æ—Ç –≤—á–µ—Ä–∞. –Ø —ç—Ç–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª. –ü–æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏ —Ç–µ–∫—Å—Ç, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —è —Å—Ä–∞–∑—É –∂–µ –ø—Ä–æ—á–µ–ª –≤—Å–ª—É—Ö.
— –ê —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —á–∏—Ç–∞–π –Ω–∞ –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–æ–≤—ã—Ö.
–Ø —á–∏—Ç–∞–ª –∏ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, —á—Ç–æ –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏ –≤–æ–∑–Ω–∏–∫–ª–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–µ –ø—Ä–µ–¥—á—É–≤—Å—Ç–≤–∏–µ. –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, –¥–µ–ª–æ —Ç—Ä–æ–Ω—É–ª–æ—Å—å —Å –º–µ—Å—Ç–∞. –°–≤–µ–∂–∏–µ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã — —Ç–æ–∂–µ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ: –≥–¥–µ-—Ç–æ —Ç–∞–º –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –∑–Ω–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —Ä–∞–∑ –≥–∞–∑–µ—Ç—ã —Å–≤–µ–∂–∏–µ, —Ç–æ –ø–ª–µ–Ω–Ω–∏–∫–∏ –∂–∏–≤—ã.
–ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —Ç–æ–∂–µ –Ω–∞—á–∏—Ç–∞–ª–∞ –Ω–∞ –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω, –Ω–æ –¥—Ä—É–≥—É—é —Å—Ç–∞—Ç–µ–π–∫—É. –ü–æ—Ç–æ–º –Ω–∞–º –¥–∞–ª–∏ –≤—Ä–µ–º—è –Ω–∞–ø–∏—Å–∞—Ç—å –ø–∏—Å—å–º–∞ –¥–æ–º–æ–π. ‘–û–±—Ä–∞–∑–µ—Ü –ø–æ—á–µ—Ä–∫–∞’, — –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è. –≠—Ç–æ —Ç–æ—á–Ω–æ –æ–±–º–µ–Ω. –Ø —Ç–∞–∫ —Ä–∞–∑–≤–æ–ª–Ω–æ–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –≥–ª—É–±–æ–∫–æ –≤–∑–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏—Ç—å –ø–∏—Å–∞—Ç—å.
–ù–∞—à–∏ –ø–∏—Å—å–º–∞ –±—ã–ª–∏ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞–Ω—ã –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–º –∏ —ç—Ç–∏–º–∏ –¥–≤—É–º—è. –í—Ä–æ–¥–µ –±—ã –≤—Å–µ –∏—Ö —É—Å—Ç—Ä–æ–∏–ª–æ –∏ –Ω–∞—Å –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞.
–û—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–æ–≥–æ –æ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏–∏, –Ω–æ –º—ã —É–∂–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏, —á—Ç–æ –≤—Ä—è–¥ –ª–∏ –Ω–∞–º —Å–∫–∞–∂—É—Ç –±–æ–ª—å—à–µ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –º—ã –∏ —Å–∞–º–∏ —É–≤–∏–¥–µ–ª–∏. –ì–ª–∞–≤–Ω–æ–µ –º—ã –∑–Ω–∞–ª–∏ — –ø–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ—Ä—ã –∏–¥—É—Ç –ø—Ä–µ–¥–º–µ—Ç–Ω–æ.
–í–µ—á–µ—Ä–æ–º –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–µ –æ–±—Å—É–¥–∏–ª–∏ —Å–∏—Ç—É–∞—Ü–∏—é. –í–æ–æ–±—â–µ-—Ç–æ –æ—Å–æ–±–æ –æ–±—Å—É–∂–¥–∞—Ç—å –±—ã–ª–æ –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –Ø –≤—Ä–æ–¥–µ –±—ã —Ä–µ–º–æ–Ω—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–ª –∫–æ–º—É-—Ç–æ –æ–±—É–≤—å, –∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –Ω–∞ —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—è—Ö –∑–∞–≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –ø—Ä–æ —Å–≤–æ—é –æ–±—â–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—É—é –∂–∏–∑–Ω—å. –î–∞ –∏ –ø—Ä–æ —Ä–∞–±–æ—Ç—É –≤ –¶–°–ö–ë —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞, –ø—Ä–æ –∏—Å–ø—ã—Ç–∞–Ω–∏—è –∏–∑–¥–µ–ª–∏—è –Ω–∞ –ë–∞–π–∫–æ–Ω—É—Ä–µ. –û–Ω–∞ –∑–∞–Ω–∏–º–∞–ª–∞—Å—å –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—è–º–∏ –º—è–≥–∫–æ–π –ø–æ—Å–∞–¥–∫–∏. –ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ –∂–µ —Ç–∞–∫!
–û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∞ –ø—Ä–æ –≥–µ–Ω–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ –∫–æ–Ω—Å—Ç—Ä—É–∫—Ç–æ—Ä–∞ –î–º–∏—Ç—Ä–∏—è –ò–ª—å–∏—á–∞ –ö–æ–∑–ª–æ–≤–∞. –ù–æ —Å–∞–º—ã–º –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω—ã–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å —Ç–æ, —á—Ç–æ —ç—Ç–æ –±—ã–ª –µ–¥–∏–Ω—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω—ã–π —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ–Ω–∞ —É–≤–∞–∂–∞–ª–∞.
–ö–∞–∂–¥—ã–π –∏–∑ –æ–∫—Ä—É–∂–∞—é—â–∏—Ö –µ—ë –Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–µ –æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª—Å—è –º—Ä–∞–∑—å—é, –ø–æ–¥—Å–∏–∂–∏–≤–∞–ª –∏–ª–∏ –æ—Ç–∫—Ä–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –µ–π –º–µ—à–∞–ª. –Ø –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —á—Ç–æ –ö–ë —Å–æ–±–∏—Ä–∞–µ—Ç –ª—é–¥–µ–π —Ç–∞–ª–∞–Ω—Ç–ª–∏–≤—ã—Ö, —Å–∞–º–æ–±—ã—Ç–Ω—ã—Ö –∏ —á–∞—Å—Ç–æ —Ç—â–µ—Å–ª–∞–≤–Ω—ã—Ö, –Ω–æ –Ω–µ –¥–æ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ —Å—Ç–µ–ø–µ–Ω–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ –≤—Å–µ —Å–≤–æ–ª–æ—á–∏!
–ê —É–∂ –æ –∫–æ–º–º—É–Ω–∏—Å—Ç–∞—Ö-–æ–¥–Ω–æ–ø–∞—Ä—Ç–∏–π—Ü–∞—Ö —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞ —Å—Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤—Å–µ–≥–æ, —á—Ç–æ –µ—Å–ª–∏ –±—ã —è –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –∏–∑ –Ω–∏—Ö –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, —Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª–∞—Å—å –±—ã –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ –∫–∞—Ç–∞—Å—Ç—Ä–æ—Ñ–∞. –ò –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–æ—Å—å –≤—Ä–æ–¥–µ –±—ã –æ –∫–∞–∂–¥–æ–º ‘–∑–∞ –∑–¥—Ä–∞–≤–∏–µ’, –∞ –≤ –∏—Ç–æ–≥–µ — —Å–≤–æ–ª–æ—á—å, –≥–∞–¥, –ø–∞—Ä–∞–∑–∏—Ç.
–û–¥–Ω–∞–∂–¥—ã —è —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –µ—ë:
— –ö–∞–∫ –∂–µ —Ç—ã –º–æ–∂–µ—à—å –∂–∏—Ç—å –∏ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞—Ç—å –≤ —Ç–∞–∫–æ–º –æ–∫—Ä—É–∂–µ–Ω–∏–∏? –õ—É—á—à–µ –≤—Å–µ –ø–æ–º–µ–Ω—è—Ç—å.
— –ê –∫–∞–∫ –∂–µ –µ—â—ë, — —É–¥–∏–≤–∏–ª–∞—Å—å –æ–Ω–∞. — –Ø —Å–≤–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ –ø–æ–¥ –°–æ–ª–Ω—Ü–µ–º –Ω–µ –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–Ω–∞ –Ω–∏–∫–æ–º—É –æ—Ç–¥–∞–≤–∞—Ç—å.
— –ü–æ–¥ –∫–∞–∫–∏–º –°–æ–ª–Ω—Ü–µ–º? –ö–∞–∫–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ? –í–æ—Ç —ç—Ç–æ, –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–µ?
— –≠—Ç–æ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ –º–µ–Ω—è –ø—Ä—è–º–æ –≤ –ì–æ—Å–¥—É–º—É –ø—Ä–∏–≤–µ–∑—ë—Ç, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∂–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
–ò –º–Ω–æ–≥–æ –≤–µ–¥—å –æ–Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –º–Ω–µ —Ç–æ–≥–¥–∞. –ò –ø—Ä–æ –æ—Ç—Ü–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –∑–∞–≥—Ä–∞–¥-–±–∞—Ç–∞–ª—å–æ–Ω–æ–º –∑—ç–∫–æ–≤ –≤ –≤–æ–π–Ω—É, –∏ –ø—Ä–æ –¥–≤—É—Ö —Å–≤–æ–∏—Ö –º—É–∂–∏–∫–æ–≤ — –º—É–∂–∞ –∏ –ª—é–±–æ–≤–Ω–∏–∫–∞, —Å –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –ø—Ä–æ–∂–∏–ª–∞ –≤—Å—é –∂–∏–∑–Ω—å.
–Ø —Å–ª—É—à–∞–ª –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª –ø–æ–Ω–∏–º–∞—Ç—å, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–æ –≤–æ–≤—Å–µ –Ω–µ –≤ –ª—é–¥—è—Ö, –æ–∫—Ä—É–∂–∞–≤—à–∏—Ö –µ—ë –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏, –∞ –≤ –Ω–µ–π —Å–∞–º–æ–π. –û–Ω–∞ —Å—Ä–µ–¥–∏ –ª—é–¥–µ–π –≤—ã–±–∏—Ä–∞–ª–∞ —Å–µ–±–µ –≤—Ä–∞–≥–∞ –∏ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–∞ –µ–≥–æ ‘–º–æ—á–∏—Ç—å’. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–º —Ç–∞–∫–∏–º –≤—Ä–∞–≥–æ–º –±—ã–ª –ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–π –¢–µ—Ä–µ–Ω—Ç—å–µ–≤. –ê –∫—Ç–æ –±—É–¥–µ—Ç —Å–ª–µ–¥—É—é—â–∏–º? –ü–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —è.
–¢—Ä–µ—Ç–∏–π –ø–æ–±–µ–≥
–°–ª–æ–≤–∞ –ö—é—Ä–∏ –ò—Ä–∏—Å—Ö–∞–Ω–æ–≤–∞ –º–Ω–æ–≥–æ–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏ –≤ –º–æ–µ–º –≤–∏–¥–µ–Ω–∏–∏ —Å–æ–±—ã—Ç–∏–π. –ú—ã –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –∂–¥–∞–ª–∏ –ö—é—Ä–∏.¬Ý–ö–∞–∫ –ø—Ä–∞–≤–∏–ª–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª, —Ç–æ –≤—Å–µ–ª—è–ª –≤ –Ω–∞—Å –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—É –Ω–∞ —Å–∫–æ—Ä–æ–µ –æ—Å–≤–æ–±–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ.
5¬Ý–∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞.¬Ý–í—Ç–æ—Ä–Ω–∏–∫.¬Ý–ö—é—Ä–∏ –ø—Ä–∏—à–µ–ª –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –¥–Ω—è. –û–±—ã—á–Ω–æ –æ–Ω —Å–∞–º –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ –Ω–∞–º, –Ω–æ –≤ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –æ —á–µ–º-—Ç–æ —Ç–∏—Ö–æ —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–ª —Å –ê–Ω–¥–∏ — –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–º –≤ –Ω–æ–≤–æ–π –≥—Ä—É–ø–ø–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤. –ö–æ–≥–¥–∞ –∏—Ö —Ä–∞–∑–≥–æ–≤–æ—Ä, –∫–∞–∫ –Ω–∞–º –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –∑–∞–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è, –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏ –∫¬Ý–Ω–µ–º—É.
— –ü—Ä–∏–≤–µ—Ç, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –±–µ–∑ –æ—Å–æ–±–æ–π –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç–ª–∏–≤–æ—Å—Ç–∏ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ö—é—Ä–∏. — –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞ –ò–≤–∞–Ω–æ–≤–Ω–∞, –∫–∞–∫ –¥–µ–ª–∞?
— –ù–∞—à–∏ –¥–µ–ª–∞ —Ü–µ–ª–∏–∫–æ–º –∑–∞–≤–∏—Å—è—Ç –æ—Ç –≤–∞—Å, –ö—é—Ä–∏, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞.
— –ù–∏—á–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ —Å–µ–π—á–∞—Å —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å –Ω–µ –º–æ–≥—É, — –Ω–µ –æ–∂–∏–¥–∞—è¬Ý–≤–æ–ø—Ä–æ—Å–∞,¬Ý—Å–∫–∞–∑–∞–ª –ö—é—Ä–∏. — –ó–∞—Å—Ç–æ–ø–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å –≤–∞—à–∏ –¥–µ–ª–∞. –î–∞–∂–µ –∏ –Ω–µ –∑–Ω–∞–µ–º, —á—Ç–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å.
— –ê –º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞, — –Ω–∞—Å –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å?¬Ý–ó–∞—á–µ–º –≤–∞–º —Ç–∞–∫–∞—è –æ–±—É–∑–∞?
— –õ–∏—á–Ω–æ —è — –∑–∞ —ç—Ç–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –ö—é—Ä–∏, —á—É—Ç—å –ø–æ–¥—É–º–∞–≤. — –°–æ –º–Ω–æ—é —Å–æ–≥–ª–∞—Å–Ω—ã –∏ –õ–µ—á–∞ –•—Ä–æ–º–æ–π, –∏ –ë–∏—Å–ª–∞–Ω, –∏ –®–µ–¥–µ—Ä–æ–≤—Å–∫–∏–π. –ù–æ –≤–µ–¥—å —è –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –∑–∞–ø–ª–∞—Ç–∏—Ç—å —Ä–µ–±—è—Ç–∞–º, —á—Ç–æ –≤–∞—Å –æ—Ö—Ä–∞–Ω—è–ª–∏. — –ö—é—Ä–∏ –µ—â–µ –Ω–∞ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—É –∑–∞–¥—É–º–∞–ª—Å—è. — –ò… –ò —É –º–µ–Ω—è –µ—Å—Ç—å –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ –§–°–ë –ò–Ω–≥—É—à–µ—Ç–∏–∏…
–≠—Ç–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω—è—è —Ñ—Ä–∞–∑–∞, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –æ—Ç–ø–µ—á–∞—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤ –º–æ–µ–π –≥–æ–ª–æ–≤–µ. –ö–∞–∫–∏–µ —É –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞ –º–æ–≥—É—Ç –±—ã—Ç—å –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è —Å –§–°–ë? –ü–æ—á–µ–º—É –§–°–ë? –ö—Ç–æ —Å—Ç–æ–∏—Ç –∑–∞ –Ω–∞—à–∏–º –ø–ª–µ–Ω–æ–º? –ü–æ–∂–∞–ª—É–π, —ç—Ç–æ —Å—Ç–∞–ª–æ –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö –æ–±—Å—Ç–æ—è—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤, —É–≤–µ—Ä–∏–≤—à–∏—Ö –º–µ–Ω—è –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø–æ–±–µ–≥ –Ω–µ–∏–∑–±–µ–∂–µ–Ω. –í —Ç–æ—Ç –∂–µ –≤–µ—á–µ—Ä —è –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–ª –Ω–∞–ª–∏—á–∏–µ –≤ —Ç–∞–π–Ω–∏–∫–µ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—ã. –§-1 –±—ã–ª–∞ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ.
14 –∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞. –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥.¬Ý–ù–∞ —É—Å–∏–ª–µ–Ω–∏–µ –≥—Ä—É–ø–ø—ã –ê–Ω–¥–∏ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥—è—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –î–∂–∞–Ω–¥—É–ª–ª—ã: –ò–ª—å–º–∞–Ω, –°–∞–ª–∞–º–±–µ–∫ –∏ –ê–Ω–∑–æ—Ä-–±–æ–∫—Å–µ—Ä. –í–µ—á–µ—Ä–Ω—è—è –º–æ–ª–∏—Ç–≤–∞ –µ—â–µ –Ω–µ –Ω–∞—á–∞–ª–∞—Å—å. –ú—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≥–æ—Ç–æ–≤–∏–º—Å—è –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –º–æ—é—Ç —Ä—É–∫–∏ –∏ –Ω–æ–≥–∏ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–∞–º–∞–∑–æ–º.
— –≠–π, –í–∏–∫—Ç–æ—Ä –∏ –°–≤–µ—Ç–ª–∞–Ω–∞! — –ö—Ä–∏—á–∏—Ç –Ω–∞–º –ê–Ω–∑–æ—Ä. — –î–∞—é –≤–∞–º –Ω–µ–¥–µ–ª—é –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ–≤–µ—Å–∏—Ç—å—Å—è!¬Ý–ò–Ω–∞—á–µ —è —Å–∞–º –≤–∞–º–∏ –∑–∞–π–º—É—Å—å.
–ú—ã –∑–∞—à–ª–∏ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –ó–ª–æ–π –º–æ–ª–æ–∫–æ—Å–æ—Å –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–ª, –∫–∞–∫ –º—ã –ø—Ä–∏—Å—Ç–µ–≥–Ω—É–ª–∏—Å—å –Ω–∞—Ä—É—á–Ω–∏–∫–∞–º–∏ –∏ –∑–∞—Ö–ª–æ–ø–Ω—É–ª –∏—Ö –Ω–∞ –∑–∞–ø—è—Å—Ç—å—è—Ö —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ –∑–∞–Ω—ã–ª–∏ –∫–æ—Å—Ç–∏. –ù–∏—á–µ–≥–æ. –û—Å–ª–∞–±–∏–º. –≠—Ç–æ–º—É —è –¥–∞–≤–Ω–æ –Ω–∞—É—á–∏–ª—Å—è –∏ –¥–µ–ª–∞—é –º–∞—Å—Ç–µ—Ä—Å–∫–∏.¬Ý«–ë–∏—Å–º–∏–ª–ª—è—Ö –∏—Ä —Ä–æ—Ö–º–∞–Ω–∏ —Ä–æ—Ö–∏–º…»,¬Ý–∑–∞—Ç—è–Ω—É–ª –ê–Ω–∑–æ—Ä –Ω–∞ —É–ª–∏—Ü–µ. –û–Ω –ª—É—á—à–µ –≤—Å–µ—Ö –ø–æ–µ—Ç –º–æ–ª–∏—Ç–≤—É. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –Ω–µ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–æ.¬Ý–ù—É, —á—Ç–æ –∂–µ, –ø—Ä–µ–¥–ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –∞—Ä–≥—É–º–µ–Ω—Ç¬Ý–¥–ª—è –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–∏—è —Ä–µ—à–µ–Ω–∏—è¬Ý—è –ø–æ–ª—É—á–∏–ª¬Ý—Å–µ–π—á–∞—Å –æ—Ç –ê–Ω–∑–æ—Ä–∞. –ü–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏–π –ø–æ—è–≤–∏—Ç—Å—è —á–µ—Ä–µ–∑ —á–µ—Ç—ã—Ä–µ –¥–Ω—è.
19 –∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞. –í—Ç–æ—Ä–Ω–∏–∫.¬Ý–°–º–µ–Ω–∞ –ê–Ω–¥–∏. –ù–∞ –≤–∏–¥ –æ–Ω —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–µ –∑–ª–æ–π, –¥–∞ —Ç–∞–∫, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –∏ –µ—Å—Ç—å.¬Ý–í—Ç–æ—Ä—ã–º –≤ –∏–µ—Ä–∞—Ä—Ö–∏–∏ –µ–≥–æ¬Ý–±—Ä–∞—Ǭݖ•–∞—Å–∞–Ω. –û–Ω –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –º–ª–∞–¥—à–µ, –Ω–æ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω—ã–π –∏ —Ä–∞—Å—Å—É–¥–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π. –° –Ω–∞–º–∏ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–µ –æ–±—â–∞—é—Ç—Å—è. –û—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã–µ — –º–æ–ª–æ–¥–Ω—è–∫. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, —ç—Ç–æ —Ç–æ–∂–µ –±—Ä–∞—Ç—å—è¬Ý–ê–Ω–¥–∏ –∏ –•–∞—Å–∞–Ω–∞. –í—ã–¥–µ–ª—è–µ—Ç—Å—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–∏–Ω — –∑–ª–æ–π –∏ —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω—ã–π –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ. –û–Ω –Ω–µ –ø–æ—Ö–æ–∂ –Ω–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª—å–Ω—ã—Ö. –õ—é–±–∏—Ç –Ω–∞–º–∏ –ø–æ–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞—Ç—å –∏ —É–Ω–∏–∑–∏—Ç—å.¬Ý–í–æ—Ç –∏ —Å–µ–π—á–∞—Å –æ–Ω –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫–æ –º–Ω–µ,¬Ý–∏,¬Ý–≤–∑–º–∞—Ö–Ω—É–≤ –¥—É–ª–æ–º –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞, –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É–µ—Ç: «–ü–æ—à–ª–∏ –∑–∞ –º–Ω–æ–π!» –î–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ—á–µ–≥–æ. –ò–¥—É.¬Ý–û–Ω¬Ý–ø–æ–¥–≤–æ–¥–∏—Ç –º–µ–Ω—è –∫ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–º—É —Å–≤–∞–ª–µ–Ω–Ω–æ–º—É —Å—Ç–≤–æ–ª—É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –ü–æ–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç — –∑–∞–±–∏—Ä–∞–π—Å—è –Ω–∞ –Ω–µ–≥–æ. –ó–∞–±–∏—Ä–∞—é—Å—å. –Ý—è–¥–æ–º —Å –º–æ–ª–æ–∫–æ—Å–æ—Å–æ–º¬Ý—Å—Ç–æ–∏—Ç —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ, —Ç–æ–∂–µ –ª–µ—Ç –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏, –Ω–æ –∏–∑ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤. –û–Ω¬Ý–Ω–µ –æ–¥–æ–±—Ä—è–µ—Ç –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏—è –º–æ–ª–æ–∫–æ—Å–æ—Å–∞, –Ω–æ —Ç–æ—Ç —É–ø–æ—Ä—Å—Ç–≤—É–µ—Ç.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, –Ω—ã—Ä—è–π! — –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É–µ—Ç –æ–Ω –º–Ω–µ.
–Ø —Å–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞—é —Å –±—Ä–µ–≤–Ω–∞ –∏ –∂–¥—É —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏.
— –¢—ã –ø–æ—á–µ–º—É –Ω–µ –≤—ã–ø–æ–ª–Ω—è–µ—à—å –∫–æ–º–∞–Ω–¥—É? — –∫—Ä–∏—á–∏—Ǭݖæ–Ω. — –Ø –∂–µ —Å–∫–∞–∑–∞–ª «–Ω—ã—Ä—è–π»!
— –í–Ω–∏–∑ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π? — –ø–µ—Ä–µ—Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—é —è.
— –î–∞! –ö–æ–Ω–µ—á–Ω–æ! —¬Ý–±–µ—Å–Ω—É–µ—Ç—Å—è —ç—Ç–∞ —Å–≤–æ–ª–æ—á—å –∏ —Ç—ã—á–µ—Ç –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥ —Ä–µ–±—Ä–∞ —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–º. — –ü–æ–ª–µ–∑–∞–π –µ—â–µ —Ä–∞–∑ –∏ –Ω—ã—Ä—è–π!
–Ø –≤–ª–µ–∑ –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ. –°—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç—å –æ–Ω, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ —Å—Ç–∞–Ω–µ—Ç. –î–∞ –∏ —Å–∏–ª–µ–Ω–∫–∏ —É –Ω–µ–≥–æ –Ω–µ —Ç–µ, —á—Ç–æ —É –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞. –í—Ç–æ—Ä–æ–π –º–∞–ª–µ—Ü –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è —É–≥–æ–≤–∞—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç –µ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Ç–æ—Ç –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª –∏–∑–¥–µ–≤–∞—Ç—å—Å—è, –Ω–æ –º–æ–ª–æ–∫–æ—Å–æ—Å —É–ø–æ—Ä—Å—Ç–≤—É–µ—Ç.¬Ý–°–ª–∞–≤–∞ –ë–æ–≥—É, –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –ê–Ω–¥–∏ –∏ –≤–µ–ª–∏—Ç –º–Ω–µ –∏–¥—Ç–∏ –∫ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, –Ω–∞ –Ω–∞—à–µ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ —É –æ–∫–æ–ø–∞.
—¬Ý–ù—É,¬Ý–Ω–∏—á–µ–≥–æ, — –∑–ª–æ–±–Ω–æ —à–µ–ø—á–µ—Ç –º–Ω–µ –≤—Å–ª–µ–¥ –º–æ–ª–æ–∫–æ—Å–æ—Å –∏ –ø–æ–¥–¥–∞–µ—Ç –ø—Ä–∏–∫–ª–∞–¥–æ–º –ø–æ –∑–∞—Ç—ã–ª–∫—É. — –í–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç –ò–ª—å–º–∞–Ω — –æ–Ω —Ç–µ–±—è –Ω–∞—É—á–∏—Ç –Ω—ã—Ä—è—Ç—å —Å –±—Ä–µ–≤–Ω–∞ –≤ –∑–µ–º–ª—é.
–í–æ—Ç —ç—Ç–∞ –±–∞–Ω–∞–ª—å—â–∏–Ω–∞ –∏ —Å—Ç–∞–ª–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π –∫–∞–ø–ª–µ–π, –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–Ω–∏–≤—à–µ–π —á–∞—à—É —Ç–µ—Ä–ø–µ–Ω–∏—è. –ü–æ—Ç–∏—Ä–∞—è –∫—Ä–æ–≤–æ—Ç–æ—á–∞—â–∏–π –∑–∞—Ç—ã–ª–æ–∫, —è –ø—Ä–∏—Å–µ–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π. –¢–∞ –Ω–∞–º–æ—á–∏–ª–∞ —Ç—Ä—è–ø–æ—á–∫—É, —á—Ç–æ–±—ã —è –≤—ã—Ç–µ—Ä –∫—Ä–æ–≤—å.
— –í–æ—Ç —Å–∫–æ—Ç–∏–Ω–∞! — —Å–∫–∞–∑–∞–ª–∞ –æ–Ω–∞. — –ê –≤–µ–¥—å –ø—Ä–∞–≤–¥–∞, –≤–µ—á–µ—Ä–æ–º –ø–æ–∂–∞–ª—É–µ—Ç—Å—è –ò–ª—å–º–∞–Ω—É, –∞ —Ç–æ–º—É —Ç–æ–ª—å–∫–æ –±—ã –ø—Ä–∏–¥—Ä–∞—Ç—å—Å—è!
–ù–æ —è —É–∂–µ –≤—Å–µ —Ä–µ—à–∏–ª. –ò –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ–ª—å–∑—è –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç—å –æ —Å–≤–æ–µ–º —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–∏. –£ –Ω–µ–µ –æ–±–æ –≤—Å–µ–º –º–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ—á–∏—Ç–∞—Ç—å –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –º–æ—Ä–¥–µ.
— –ï—â–µ –Ω–µ –≤–µ—á–µ—Ä, — –∑–ª–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
–ê–Ω–¥–∏, —á—Ç–æ–±—ã –æ–≥—Ä–∞–¥–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è –æ—Ç –ø–æ—Å—è–≥–∞—Ç–µ–ª—å—Å—Ç–≤ –º–æ–ª–æ–∫–æ—Å–æ—Å–∞, –¥–∞–µ—Ç –∑–∞–¥–∞–Ω–∏–µ — –ø–æ—á–∏–Ω–∏—Ç—å –≥–∞–º–∞–∫. –Ø –∏–¥—É –∫–æ –≤—Ö–æ–¥—É –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –∏ –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—é—Å—å –∑–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç—É.
–ü—Ä—è–º–æ —É –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥ –Ω–æ—Å–æ–º, –Ω–∞ —â–∏—Ç–µ –æ—Ç —Ç–µ–Ω–Ω–∏—Å–Ω–æ–≥–æ —Å—Ç–æ–ª–∞,¬Ý–ª–µ–∂–∏—Ç –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –±–µ–∑ —Ä–æ–∂–∫–∞. –≠—Ç–æ –æ–Ω–∏ –∑—Ä—è –µ–≥–æ –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏. –ê–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –•–∞–¥–∂–∏, –ê–ö-74, –ø—Ä–µ–¥–æ—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—å–Ω—ã–π —Ä—ã—á–∞–≥ —Ö–æ–¥–∏—Ç –ª–µ–≥–∫–æ.
–°–º–µ–Ω–∞ –ê–Ω–¥–∏ –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–µ —É–º–µ–ª–∏ –µ—â–µ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—Ç—å –µ–¥—É. –ö —ç—Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –≤¬Ý–ª–∞–≥–µ—Ä–µ¬Ý–ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é¬Ý–∫–æ–Ω—á–∏–ª—Å—è —Ö–ª–µ–±, –∞ —Å–º–µ–Ω–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–∞–≤—Ç—Ä–∞. –•–∞—Å–∞–Ω¬Ý—É—Ö–æ–¥–∏—Ǭݖ≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏ –ø–æ–ø–æ–ª–Ω–∏—Ç—å –ø—Ä–∏–ø–∞—Å—ã –µ–¥—ã. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å—Ä–µ–¥–Ω–∏—Ö –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –æ—Ç–ø—Ä–∞–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –≤ —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–∏–π –æ–±—Ö–æ–¥ –ø–æ –ª–µ—Å—É, –Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–µ—Ç—Å—è. –û —á–µ–º-—Ç–æ —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç —Å –ê–Ω–¥–∏, –±–µ—Ä–µ—Ç –≤ –ø–æ–¥–º–æ–≥—É –µ—â–µ –¥–≤–æ–∏—Ö –∏ –æ–Ω–∏ —É—Ö–æ–¥—è—Ç –≤ —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫—É.¬Ý–í –ª–∞–≥–µ—Ä–µ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º—ã —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π, –ê–Ω–¥–∏ –∏ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å—Ä–µ–¥–Ω–∏—Ö –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å–∏–¥—è—Ç —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –ø–æ–¥ –¥—É–±–æ–º. –ú–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –¥–µ—Å—è—Ç–∏ — –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ —É –æ–∫–æ–ø–∞. –û—Ç –º–µ–Ω—è –¥–æ –±—Ä–∞—Ç—å–µ–≤ –æ–∫–æ–ª–æ —Å–æ—Ä–æ–∫–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –û–Ω–∏ —Å–∏–¥—è—Ç –ø–æ—á—Ç–∏ —Å–ø–∏–Ω–∞–º–∏ –∫–æ –º–Ω–µ. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞—é—Ç –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –û—Ç –º–µ–Ω—è –¥–æ —Ç–∞–π–Ω–∏–∫–∞ —Å –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–π¬Ý—¬Ý–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—è—Ç—å. –Ø –≤—Å—Ç–∞–ª,¬Ý–ø—Ä–∏–≤—è–∑–∞–ª –≥–∞–º–∞–∫ –∫ –¥–µ—Ä–µ–≤—É –∏ —Å—Ç–∞–ª —Ä–∞—Å—Ç—è–≥–∏–≤–∞—Ç—å –µ–≥–æ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞, –≤ –∫–æ—Ä–Ω—è—Ö –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ¬Ý–ø—Ä—è—Ç–∞–ª –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É.
— –¢—ã —á–µ–≥–æ –≤—Å—Ç–∞–ª? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –º–µ–Ω—è –ê–Ω–¥–∏.
— –¢–∞–∫ –ª—É—á—à–µ —á–∏–Ω–∏—Ç—å –≥–∞–º–∞–∫, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –ê… — –ê–Ω–¥–∏ –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É.
–ì–∞–º–∞–∫-—Ç–æ, —Å–æ–±—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ, –∏ –Ω–µ –±—ã–ª –≤ –ø—Ä—è–º–æ–º —Å–º—ã—Å–ª–µ¬Ý–≥–∞–º–∞–∫–æ–º. –≠—Ç–æ –±—ã–ª —Ç–æ—Ä–º–æ–∑–Ω–æ–π –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç –¥–ª—è –∞–≤–∏–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω–æ–π –±–æ–º–±—ã, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º–∏ –Ω–∞—Å —á–∞—Å—Ç–æ —É–≥–æ—â–∞–ª–∏ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—ã –≤ –ø–æ—Ä—è–¥–∫–µ –ø—Ä–æ—Ñ–∏–ª–∞–∫—Ç–∏–∫–∏. –ë–æ–º–±—ã –±—Ä–æ—Å–∞–ª–∏—Å—å —Å–æ —à—Ç—É—Ä–º–æ–≤–∏–∫–æ–≤ –Ω–∞ –º–∞–ª–æ–π –≤—ã—Å–æ—Ç–µ, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ —Å–ª—É—á–∞–π–Ω—ã–º –æ–±—Ä–∞–∑–æ–º, —á–µ–º –ø—Ä–∏—Ü–µ–ª—å–Ω–æ. –Ý–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∑–Ω–∞–ª–∞, —á—Ç–æ –≤ –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–º –ª–µ—Å—É —Å–∫—Ä—ã–≤–∞—é—Ç—Å—è –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏, –Ω–æ¬Ý–≥–¥–µ –∫–æ–Ω–∫—Ä–µ—Ç–Ω–æ, — –Ω–µ—Ç. –≠—Ç–æ—Ç –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç –º—ã —Å –õ–µ—á–µ–π –•—Ä–æ–º—ã–º –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∏ —Å –ø–æ–ª—è–Ω—ã, –ø—Ä–∏–º–µ—Ä–Ω–æ –≤ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–µ –æ—Ç—Å—é–¥–∞. –ò–∑ –ø–∞—Ä–∞—à—é—Ç–∞ —è —Å–¥–µ–ª–∞–ª –≥–∞–º–∞–∫. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –≤–æ—Ç — —á–∏–Ω—é.
–û–±—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∫–∞ —Å–∫–ª–∞–¥—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å —É–¥–∞—á–Ω–∞—è. –í—Å–µ–≥–æ –¥–≤–æ–µ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–æ–≤. –ì—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É —è —Ç–∏—Ö–æ–Ω–µ—á–∫–æ –ø–µ—Ä–µ–Ω–µ—Å –∏–∑ —Ç–∞–π–Ω–∏–∫–∞ –∫¬Ý–≤—Ö–æ–¥—É –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂, –≥–¥–µ¬Ý–∏¬Ý—Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª, –∏ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª –ø–æ–¥ –∑–µ–ª–µ–Ω—ã–π —â–∏—Ç, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º¬Ý–ª–µ–∂–∞–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –•–∞–¥–∂–∏.¬Ý–©–∏—Ǭݖª–µ–∂–∞–ª –Ω–∞ –∫–æ—á–∫–∞—Ö –Ω–µ—Ä–æ–≤–Ω–æ. –°—É–Ω—É—Ç—å –ø–æ–¥ –Ω–µ–≥–æ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É — –ø—Ä–æ—â–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–≥–æ. –ù–æ –æ–¥–Ω–æ–π –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—ã –º–∞–ª–æ.
–ü–ª–∞–Ω —Å–ª–æ–∂–∏–ª—Å—è –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä–æ.¬Ý–ú–Ω–µ –±—ã–ª –Ω—É–∂–µ–Ω¬Ý—Ä–æ–∂–æ–∫. –ò–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞ — –ø–æ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–∏–∫–∞–º. –í—Ä—è–¥ –ª–∏ —è –∏—Ö —Å—Ä–∞–∑—É —Å–Ω–∏–º—É. –ù–æ –≤ —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ — —Ç–∞–∫ –Ω–∞—Å –ø—Ä–∏—É—á–∏–ª–∏ — –ø—Ä—ã–≥–Ω–µ—Ç –≤ –æ–∫–æ–ø. –í–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞ –∫–∏–¥–∞—é –≤ –Ω–∏—Ö –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É –∏ –¥–æ–±–∏–≤–∞—é –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∏ —É—Ö–æ–¥–∏–º. –û–Ω–∞, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –¥–∞–ª–µ–∫–æ –Ω–µ —É–π–¥–µ—Ç.¬Ý–ó–Ω–∞—á–∏—Ç,¬Ý–µ–µ –Ω–∞–¥–æ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å, –¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª–æ–≤ –∏¬Ý—Å –Ω–∏–º–∏ –≤–µ—Ä–Ω—É—Ç—å—Å—è¬Ý–∑–∞ –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π.
–ö–∞–∫ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞¬Ý—Ä–æ–∂–æ–∫ –∫ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—É? –ú–Ω–µ –Ω—É–∂–Ω—ã –Ω–æ–∂–Ω–∏—Ü—ã –∏ –Ω–æ–∂ –¥–ª—è –ø–æ—á–∏–Ω–∫–∏ –≥–∞–º–∞–∫–∞. –û–Ω–∏ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–µ.
— –ê–Ω–¥–∏! — –∫—Ä–∏—á—É —è –Ω–µ–≥—Ä–æ–º–∫–æ. — –Ø —Å–ø—É—â—É—Å—å –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂ –∑–∞ –∏–Ω—Å—Ç—Ä—É–º–µ–Ω—Ç–æ–º?
–ê–Ω–¥–∏ –ª–µ–Ω–∏–≤–æ –ø–æ–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∏ –º–∞—à–µ—Ç —Ä—É–∫–æ–π. –ú–æ–ª, –¥–∞–≤–∞–π.
–ù–∞–¥–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, —á—Ç–æ —É–∂–µ –ø–æ–ª–≥–æ–¥–∞, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –æ–±—Ä–∞—â–∞–ª–∏ –≤–Ω–∏–º–∞–Ω–∏—è, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –±—ã–ª —Ä—è–¥–æ–º —Å –æ—Ä—É–∂–∏–µ–º. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –±—ã–ª–∏ —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —ç—Ç–∞ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–∞—è —à—Ç—É–∫–æ–≤–∏–Ω–∞ — —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —á—É–∂–¥–∞—è –¥–ª—è –º–µ–Ω—è –≤–µ—â—å.¬Ý–ö–æ–≥–¥–∞ –Ω–∞–∏–±–æ–ª–µ–µ –±–µ—Å–ø—Ä–∏–Ω—Ü–∏–ø–Ω—ã–µ –∏–∑ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ –¥–æ–≤–µ—Ä—è–ª–∏ –º–Ω–µ –ø–æ—á–∏—Å—Ç–∏—Ç—å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç, —è –¥–µ–ª–∞–ª —ç—Ç–æ –Ω–∞—Ä–æ—á–∏—Ç–æ –Ω–µ—É–∫–ª—é–∂–µ. –û–±—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –∫ –Ω–∏–º –∑–∞ –ø–æ–º–æ—â—å—é –ø—Ä–∏ —Å–±–æ—Ä–∫–µ, –∑–∞ —á—Ç–æ –ø–æ–ª—É—á–∞–ª –Ω–∞—Å–º–µ—à–∫–∏ –∏ –ø–∏–Ω–∫–∏. –ó–∞—Ç–æ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é —É—Ç–≤–µ—Ä–¥–∏–ª –∏—Ö –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –Ω–µ —É–º–µ—é, –∞ –≥–ª–∞–≤–Ω–æ–µ — –Ω–µ —Ö–æ—á—É –¥–µ—Ä–∂–∞—Ç—å –≤ —Ä—É–∫–∞—Ö –æ—Ä—É–∂–∏–µ. –û–Ω–∏ —Å —É–¥–æ–≤–æ–ª—å—Å—Ç–≤–∏–µ–º —ç—Ç–æ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª–∏: —Ä—É—Å—Å–∫–∏–π — –Ω—É —á–µ–≥–æ —Å –Ω–µ–≥–æ –≤–æ–∑—å–º–µ—à—å — —ç—Ç–æ –Ω–µ –≤–æ–∏–Ω. –ê –º–µ–∂–¥—É —Ç–µ–º, –º–Ω–µ –¥–æ —Ç–æ–Ω–∫–æ—Å—Ç–µ–π –±—ã–ª–æ –∏–∑–≤–µ—Å—Ç–Ω–æ, –≥–¥–µ, –Ω–∞¬Ý–∫–∞–∫–æ–º –∫—Ä—é—á–∫–µ,¬Ý—á–µ–π –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ǭݖ≤–∏—Å–∏—Ç. –ï–≥–æ –∫–∞–ª–∏–±—Ä — 7,62 –∏–ª–∏¬Ý5,45.¬Ý–°–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–æ–∂–∫–æ–≤ –≤ –ø–æ–¥—Å—É–º–∫–µ –∏ —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ¬Ý–≤¬Ý—Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫–µ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç.
–Ø —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –¢–µ–º–Ω–æ. –ü—Ä–æ—à–µ–ª –≤ –¥–∞–ª—å–Ω–∏–π —É–≥–æ–ª –∏ –≤–∑—è–ª –Ω–æ–∂–Ω–∏—Ü—ã, –Ω–æ–∂ –∏ –Ω–∏—Ç–∫–∏. –ù–∞¬Ý–æ—â—É–ø—å. –ò–¥—É –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –º–µ–∂–¥—É —Å—Ç–µ–Ω–æ–π –∏ –ª–µ–∂–∞–Ω–∫–∞–º–∏. –û–¥–∏–Ω –∏–∑ —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–≤ —Ç–æ—Ä—á–∏—Ç –≤ –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–µ.¬Ý–≠—Ç–æ —Å—Ç–≤–æ–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞ –ú—É—Å–ª–∏–º–∞, –∫–∞–ª–∏–±—Ä 5,45, –Ω–µ –ø–æ–π–¥–µ—Ç.¬Ý–ù–æ –æ—Ä—É–∂–∏—è –ø–æ–ª–Ω–æ — –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –∫–æ–º–ø–ª–µ–∫—Ç–æ–≤. –Ø –≤–∑—è–ª¬Ý—Ä–æ–∂–æ–∫ –∏–∑ —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫–∏ –•–∞–¥–∂–∏. –¢–∞–∫ –≤–µ—Ä–Ω–µ–µ.¬Ý–ò–∑ –µ–≥–æ –∂–µ —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫–∏ —è –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∏ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É –§-1. –£ –≤—ã—Ö–æ–¥–∞ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞¬Ý–Ω–∞–∂–∞–ª –Ω–∞ –≤–µ—Ä—Ö–Ω–∏–π –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω. –Ý–æ–∂–æ–∫ –±—ã–ª –ø–æ–ª–æ–Ω. –Ø –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª¬Ý—Ä–æ–∂–æ–∫¬Ý—Å –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–æ–π¬Ý–Ω–∞ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞. –ù–∞ —Å—Ä–µ–¥–Ω—é—é —Å—Ç—É–ø–µ–Ω—å–∫—É –∏–∑ –ø—è—Ç–∏ –∏ –≤—ã—à–µ–ª. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ —Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –Ø –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª –∏–º –Ω–æ–∂–Ω–∏—Ü—ã –∏ –Ω–∏—Ç–∫–∏. –û–Ω–∏ –∫–∏–≤–Ω—É–ª–∏ –∏ –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª–∏—Å—å.
–°—Ç–æ—è –∫ –Ω–∏–º –ª–∏—Ü–æ–º —è –Ω–∞—á–∞–ª —á–∏–Ω–∏—Ç—å –≥–∞–º–∞–∫. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å¬Ý—Ä–æ–∂–æ–∫¬Ý–∏ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É.¬Ý–ü—Ä–∏—Å–µ–≤ –Ω–∞ –∫–æ—Ä—Ç–æ—á–∫–∏, –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è –∑–∞ –Ω–∞–∫–∞—Ç–æ–º –±—Ä–µ–≤–µ–Ω –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞.¬Ý–ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –æ–∂–∏–≤–ª–µ–Ω–Ω–æ –±–µ—Å–µ–¥–æ–≤–∞–ª–∏, –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–∞ –≤–æ–∑–∏–ª–∞—Å—å —Å –ø–æ—Å—É–¥–æ–π. –Ø –≤—ã–ø—É—Å—Ç–∏–ª –∏–∑ —Ä—É–∫ –∫–∞—Ç—É—à–∫—É —Å –Ω–∏—Ç–∫–∞–º–∏, –Ω–∞–≥–Ω—É–ª—Å—è –∑–∞ –Ω–µ—é, –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞ –µ—â–µ —Ä–∞–∑ –∏ –ª–µ–≥. –î–≤–∞ –º–µ—Ç—Ä–∞ –ø–æ–ª–∑–∫–æ–º –¥–æ –≤—Ö–æ–¥–∞ –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –¥–æ—Å—Ç–∞–ª¬Ý—Ä–æ–∂–æ–∫¬Ý–∏ —Å—É–Ω—É–ª –µ–≥–æ –ø–æ–¥ —Ç–µ–Ω–Ω–∏—Å–Ω—ã–π —â–∏—Ç. –¢—É–¥–∞ –∂–µ –≤—Ç–æ—Ä—É—é –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É. –û—Ç–ø–æ–ª–∑ –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –∏ –≤—Å—Ç–∞–ª —Å –Ω–∏—Ç–∫–∞–º–∏ –≤ —Ä—É–∫–µ. –ù–∏–∫—Ç–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª.
–ó–∞–≥–æ—Ä–µ–ª–∏—Å—å —É—à–∏ –∏ –º–æ—Ä–¥–∞. –í—Å–µ. –ù–∞–¥–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤–æ–≤–∞—Ç—å. –°—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ. –ú–µ–ª—å–∫–Ω—É–ª–∞ –º—ã—Å–ª—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤ —ç—Ç–∏—Ö –¥–≤—É—Ö –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —è –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –∏–º–µ—é. –ñ–∞–ª–∫–æ¬Ý–¥–∞–∂–µ –∏—Ö —Å—Ç–∞–ª–æ, –Ω–æ –≤—Å–µ —ç—Ç–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –º–µ–ª—å–∫–Ω—É–ª–æ.¬Ý–í–æ–π–Ω–∞. –ò–ª–∏ —Ç—ã –∏—Ö, –∏–ª–∏ –æ–Ω–∏ —Ç–µ–±—è.
–°–Ω–æ–≤–∞ —Ä–æ–Ω—è—é –Ω–∏—Ç–∫–∏, –¥–æ—Å—Ç–∞—é —Ä–æ–∂–æ–∫ –∏ —Ç–∏—Ö–æ-—Ç–∏—Ö–æ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ —â–µ–ª–∫–Ω—É—Ç—å, —Ü–µ–ø–ª—è—é –µ–≥–æ –∫ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—É. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–µ—Ä–≥–∏–≤–∞–π –∑–∞—Ç–≤–æ—Ä –∏ —Å—Ç—Ä–µ–ª—è–π! –ö–∞–∫ —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, —á—Ç–æ¬Ý–Ω–µ —Å—Ç–∞–ª —ç—Ç–æ–≥–æ –¥–µ–ª–∞—Ç—å —Å—Ä–∞–∑—É. –Ø –µ–¥–≤–∞ —É—Å–ø–µ–ª –≤—ã–ø—Ä—è–º–∏—Ç—å—Å—è –∏ –Ω–∞—á–∞—Ç—å –æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞—Ç—å –∏–≥–æ–ª–∫–æ–π.¬Ý–í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –±–µ—Å—à—É–º–Ω–æ, –∫–∞–∫ —Ä—ã—Å—å, –∏–∑ –ª–µ—Å—É –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è –≤–æ–∑–±—É–∂–¥–µ–Ω–Ω—ã–π –ò–ª—å–º–∞–Ω. –í—Å—è –º–æ—è –∫—Ä–∞—Å–∫–∞ —Å —É—à–µ–π –∏ –ª–∏—Ü–∞ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –≤ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω—É—é –±–ª–µ–¥–Ω–æ—Å—Ç—å. –ò–ª—å–º–∞–Ω —à–µ–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –ê–Ω–≥–µ–ª-—Ö—Ä–∞–Ω–∏—Ç–µ–ª—å, —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ —Ç–µ–±–µ! –û–Ω –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ —è —Ö–≤–∞—Ç–∞–ª—Å—è –∑–∞ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç, –Ω–æ –æ—Ä—É–∂–∏–µ –≤—Å–µ –∂–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª. –ü–æ—Ö–æ–¥—è, –Ω–µ –∑–∞–¥—É–º—ã–≤–∞—è—Å—å, –æ–Ω —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª¬Ý–ê–ö-47, –æ—Ç—Ü–µ–ø–∏–ª —Ä–æ–∂–æ–∫, –∑–∞–≥–ª—è–Ω—É–ª –≤ —Å—Ç–≤–æ–ª –∏ –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –Ω–∞ —â–∏—Ç.¬Ý–Ý–æ–∂–æ–∫ –æ–Ω –∑–∞–±—Ä–∞–ª –∏ –ø–æ—à–µ–ª –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É. –ú–µ–∂–¥—É –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º–∏ –Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –≥–æ—Ä—è—á–∏–π –æ–±–º–µ–Ω –º–Ω–µ–Ω–∏—è–º–∏. –Ø, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª, –Ω–æ –∫ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—É —ç—Ç–æ –Ω–µ –∏–º–µ–ª–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è. –ù–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ —Å–ª–æ–≤–∞ –∑–≤—É—á–∞–ª–∏ –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏, –∏ –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –ø–æ–Ω—è—Ç—å, —á—Ç–æ –ò–ª—å–º–∞–Ω –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—Ç –æ –Ω–µ–∫–æ–µ–º –≤—Å–µ–Ω–∞—Ä–æ–¥–Ω–æ–º –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–µ –∫ –¥–∂–∏—Ö–∞–¥—É. –û–Ω –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å —Å —Å–æ–±–æ–π –∫–∞—Å—Å–µ—Ç—É, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –∏ –Ω–∞–º–µ—Ä–µ–≤–∞–ª—Å—è –Ω–µ–º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—Å–ª—É—à–∞—Ç—å.
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä! — —Å–∫–æ–º–∞–Ω–¥–æ–≤–∞–ª –æ–Ω –º–Ω–µ. — –ü—Ä–∏–Ω–µ—Å–∏ –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞ –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω!
–í–æ—Ç —ç—Ç–æ –±—ã–ª–∞ —É–¥–∞—á–∞! –Ø –Ω—ã—Ä–Ω—É–ª –≤ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂. –î–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω –ª–µ–∂–∞–ª —Å–ª–µ–≤–∞ –Ω–∞ –Ω–∞—Ä–∞—Ö. –Ý—è–¥–æ–º — —Ä–∞–∑–≥—Ä—É–∑–∫–∞ –•–∞–¥–∂–∏. –Ø –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ —Ä–æ–∂–æ–∫ –∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ¬Ý–∫ –≤—ã—Ö–æ–¥—É. –ü–æ–Ω–∏–º–∞—è—Å—å –∏–∑ –±–ª–∏–Ω–¥–∞–∂–∞, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –Ω–∏–∫—Ç–æ –Ω–µ —Å–º–æ—Ç—Ä–∏—Ç. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª–∏ –æ–∂–∏–≤–ª–µ–Ω–Ω—É—é –±–µ—Å–µ–¥—É. –í –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ —É –º–µ–Ω—è –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω, –≤ –ª–µ–≤–æ–π — —Ä–æ–∂–æ–∫. –ï–¥–≤–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–Ω—ã–º –¥–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ–º —è –ø–æ–¥–∫–∏–Ω—É–ª —Ä–æ–∂–æ–∫ –≤ —Ç—Ä–∞–≤—É, –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—É. –ê —Å–∞–º — –±–µ–≥–æ–º –∫ –∫–æ—Å—Ç—Ä—É,¬Ý–æ—Ç–¥–∞–≤–∞—Ç—å –ò–ª—å–º–∞–Ω—É –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω. –ö —Å—á–∞—Å—Ç—å—é, —Ç–æ—Ç —Ç–∞–∫ –±—ã–ª –ø–æ–≥–ª–æ—â–µ–Ω –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è—â–∏–º –ø—Ä–æ—Å–ª—É—à–∏–≤–∞–Ω–∏–µ–º –ø—Ä–∏–∑—ã–≤–∞, —á—Ç–æ –≤ —É–ø–æ—Ä –º–µ–Ω—è –Ω–µ –≤–æ—Å–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª. –ù–µ —É—Å–ø–µ–ª —è –¥–æ–π—Ç–∏ –¥–æ –≥–∞–º–∞–∫–∞, —Ä–∞–∑–¥–∞–ª—Å—è –≥—Ä–æ–º–∫–∏–π –∏ –Ω—É–¥–Ω—ã–π –≥–æ–ª–æ—Å –º—É—ç–¥–∑–∏–Ω–∞. –ü—Ä–∏–∑—ã–≤ –∫ –¥–∂–∏—Ö–∞–¥—É –∑–≤—É—á–∞–ª –ø–æ-–∞—Ä–∞–±—Å–∫–∏. –ù–µ–æ–±—Ä–∞–∑–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –Ω–∏—á–µ–≥–æ—à–µ–Ω—å–∫–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –Ω–µ –ø–æ–Ω–∏–º–∞–ª–∏, –Ω–æ –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –º—É—ç–¥–∑–∏–Ω –≤—ã–∫—Ä–∏–∫–∏–≤–∞–ª: «–ê–ª–ª–∞—Ö—É –ê–∫–±–∞—Ä!». –ò–ª—å–º–∞–Ω —Å –±–ª–∞–≥–æ–≥–æ–≤–µ–π–Ω—ã–º –ø—Ä–∏–¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ–º –ø–æ–≤—Ç–æ—Ä—è–ª «–ê–ª–ª–∞—Ö—É –ê–∫–±–∞—Ä» –∏ –ø–æ–∫–∞—á–∏–≤–∞–ª—Å—è, —Å–∏–¥—è –Ω–∞ –±—Ä–µ–≤–Ω–µ —É –∫–æ—Å—Ç—Ä–∞.
«–ù—É, —á—Ç–æ –∂–µ, — –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è. — –¢—Ä–æ–µ, —Ç–∞–∫ —Ç—Ä–æ–µ!». –ü—Ä–∏—Å—É—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –ò–ª—å–º–∞–Ω–∞ —Å—Ä–µ–¥–∏ –∂–µ—Ä—Ç–≤, –ø—Ä–æ—Å—Ç–∏ –º–µ–Ω—è –≥–æ—Å–ø–æ–¥–∏, –¥–∞–∂–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–æ–≥—Ä–µ–≤–∞–ª–æ –¥—É—à—É. –ù–æ –¥—É—à–µ¬Ý—Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø—É—Ç–µ—à–µ—Å—Ç–≤–∏–µ –≤ –ø—è—Ç–∫–∏: –≤ –º–æ–∏—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö –±—ã–ª —Ä–æ–∂–æ–∫ —Å –ø–∞—Ç—Ä–æ–Ω–∞–º–∏ –∫–∞–ª–∏–±—Ä–∞ 5,45 –º–∏–ª–ª–∏–º–µ—Ç—Ä–∞. –ï—â–µ –º–µ–ª—å–∫–Ω—É–ª–∞ –º—ã—Å–ª—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ,¬Ý–º–æ–∂–µ—Ç –±—ã—Ç—å,¬Ý–∏ 5,45 –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—è—Ç –∏–∑ —Å—Ç–≤–æ–ª–∞ –Ω–∞ 7,62? –ê –¥–∞–ª—å—à–µ –±—ã–ª–æ —Ö—É–∂–µ. –ò–ª—å–º–∞–Ω –≤—ã–∫–ª—é—á–∏–ª –¥–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω, –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª –∏ –ø—Ä–∏—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∫ —É—à–∞–º –ª–∞–¥–æ–Ω–∏ —Ä—É–ø–æ—Ä–æ–º. –ü—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è, –ø–æ–≤–æ–¥–∏–ª –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª. «–ù–æ—Ö—á–∏», — —Ä–∞–∑–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤ –æ—Ç–≤–µ—Ç, —Å—É–¥—è –ø–æ —Å–∏–ª–µ –∑–≤—É–∫–∞, –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Å –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç.
— –ê–Ω–∑–æ—Ä –∏–¥–µ—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ò–ª—å–º–∞–Ω –ø–æ-—Ä—É—Å—Å–∫–∏ –∏ –ø–æ–∫–æ—Å–∏–ª—Å—è –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É. –ü–æ—Ö–æ–∂–µ, —Å–º–µ–Ω–∞ –∫–∞—Ä–∞—É–ª–∞ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–∞ –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è.
–Ø –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª, —á—Ç–æ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –≤—Å–µ —Ä—É—Ö–Ω—É–ª–æ. –û—Ç –º–æ–µ–≥–æ –ø–ª–∞–Ω–∞ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—å. –° —á–µ—Ç–≤–µ—Ä—ã–º–∏ –º–Ω–µ —è–≤–Ω–æ –Ω–µ —Å–ø—Ä–∞–≤–∏—Ç—å—Å—è, –∞ —Å–µ–±—è —è —É–∂–µ –ø–æ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –ø–æ –ø–æ–ª–Ω–æ–π –ø—Ä–æ–≥—Ä–∞–º–º–µ. –Ý–æ–∂–æ–∫ –∏ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–æ –Ω–µ –≤–µ—Ä–Ω–µ—à—å. –Ý–∞–∑–±–æ—Ä–∫–∏ —Å —Ä–æ–∂–∫–æ–º –•–∞–¥–∂–∏ –Ω–µ–º–∏–Ω—É–µ–º–æ —É–∫–∞–∂—É—Ç –Ω–∞ –º–µ–Ω—è. –£ –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–∫—É–Ω–¥, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç—å —Ä–µ—à–µ–Ω–∏–µ, –∏ —è –µ–≥–æ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª.
–î–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω –æ—Ä–∞–ª –Ω–∞ –≤—Å—é –æ–∫—Ä—É–≥—É. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –≤–Ω–∏–º–∞–ª–∏ –º—É—ç–¥–∑–∏–Ω—É –∏ —Å–∏–¥–µ–ª–∏, —Ä–∞—Å–∫–∞—á–∏–≤–∞—è—Å—å. –Ø —Å—É–Ω—É–ª –æ–±–µ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—ã –≤ –Ω–∞–∫–æ–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –∫–∞—Ä–º–∞–Ω—ã, —á—Ç–æ –Ω–µ–∫–æ–≥–¥–∞ –∫—Ä–µ–ø–∫–æ –ø—Ä–∏—à–∏–ª –∫¬Ý—Å–∏–Ω–∏–º —à—Ç–∞–Ω–∞–º,¬Ý—Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª —Ç–æ–ø–æ—Ä–∏–∫, –ø—Ä–∏–≥–Ω—É–ª—Å—è –ø–æ–Ω–∏–∂–µ –∏¬Ý–º–µ—Ç–Ω—É–ª—Å—è –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Ä–µ—á–∫–∏. –î–æ –Ω–µ–µ –±—ã–ª–æ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —Ç—Ä–∏–¥—Ü–∞—Ç—å. –ï—â–µ –¥–≤–∞–¥—Ü–∞—Ç—å¬Ý–º–µ—Ç—Ä–æ–≤¬Ý–æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞–ª –≤–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞, –≤—ã–±–∏—Ä–∞—è –º–µ—Å—Ç–æ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—ɬݗŠ—Ç–µ–º —Ä–∞—Å—á–µ—Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–∏ –≤—ã—Ö–æ–¥–µ –∏–∑ –≤–æ–¥—ã –º–µ–Ω—å—à–µ —à—É–º–µ—Ç—å. –ù–∞—à–µ–ª. –¢–∏—Ö–æ –≤–æ—à–µ–ª –≤ –≤–æ–¥—É. –®–∏—Ä–∏–Ω–∞ —Ä–µ—á–∫–∏ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ 8 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.¬Ý–ì–ª—É–±–∏–Ω–∞ — –ø–æ –ø–æ—è—Å. –í—ã—à–µ–ª –±–µ–∑ –≤—Å–ø–ª–µ—Å–∫–æ–≤¬Ý—¬Ý–∏¬Ý–Ω—ã—Ä–Ω—É–ª¬Ý–≤ –≤—ã—Å–æ–∫—É—é —Å–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫—É—é —Ç—Ä–∞–≤—è–Ω—É—é –ø–æ—Ä–æ—Å–ª—å. –ü–æ–±–µ–∂–∞–ª, –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –æ—Ç–≥–∏–±–∞—è –≤–µ—Ç–∫–∏ –∫—É—Å—Ç–∞—Ä–Ω–∏–∫–∞, —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –Ω–∞ —é–≥. –ü—Ä–∏–∑—ã–≤ –∫ –¥–∂–∏—Ö–∞–¥—É –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—è–ª –æ–∫—Ä–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∏ –æ–±–ª–µ–≥—á–∞–ª –º–æ—é –∑–∞–¥–∞—á—É. –¢–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞–≤ –ø–æ –ª–µ—Å—É –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä–µ—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –ø–æ–∑–≤–æ–ª–∏–ª —Å–µ–±–µ –ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è –≤–æ –≤–µ—Å—å –æ–ø–æ—Ä!
–¢—Ä—É–¥–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞—Ç—å, –∫–æ–≥–¥–∞ —É –º–µ–Ω—è –≤ –±–∞—à–∫–µ —Å–ª–æ–∂–∏–ª—Å—è –Ω–∞–∏–≤—ã–≥–æ–¥–Ω–µ–π—à–∏–π –ø–ª–∞–Ω –¥–∞–ª—å–Ω–µ–π—à–∏—Ö –¥–µ–π—Å—Ç–≤–∏–π. –Ø —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–ª –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —Å–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –º—ã—Å–ª—å –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –≤ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç –ê–Ω–∑–æ—Ä –∏ –º–µ–Ω—è —Å—Ä–∞–∑—É —Ö–≤–∞—Ç—è—Ç—Å—è.¬Ý–ê,¬Ý—Ö–≤–∞—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å, –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –±—É–¥—É—Ç –∏—Å–∫–∞—Ç—å –∫ —é–≥—É –æ—Ç –ª–∞–≥–µ—Ä—è, –≤–µ–¥—å –∏–º–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∞ —é–≥–µ, –≤ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–∏—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞—Ö —Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω–∞—è —Ç—Ä–∞—Å—Å–∞ –ú-29 –Ý–æ—Å—Ç–æ–≤-–ë–∞–∫—É. –ë–æ–µ–≤–∏–∫–∏ –¥–æ–ª–∂–Ω—ã –±—ã—Ç—å —É–≤–µ—Ä–µ–Ω—ã, —á—Ç–æ —è –ø–æ–±–µ–≥—É –∏–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç—É–¥–∞. –ò —Ç–æ–≥–¥–∞ —è —Å—Ç–∞–ª –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—Ç—å¬Ý–≤–ª–µ–≤–æ, —Å –º–∞–∫—Å–∏–º–∞–ª—å–Ω–æ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ–π —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç—å—é —É–±–µ–≥–∞—è –æ—Ç –ª–∞–≥–µ—Ä—è.
–ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–µ–±–µ —Å–≤–æ–µ –º–µ—Å—Ç–æ–Ω–∞—Ö–æ–∂–¥–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –∫–∞—Ä—Ç–µ, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –º–Ω–µ –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ –ø–æ –≥–ª—É–ø–æ—Å—Ç–∏ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª¬Ý–ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª–∞,¬Ý–∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –¥–µ–π—Å—Ç–≤—É—é –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ. –ì–¥–µ-—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å –ø–µ—Ä–≤—ã–π –ª–∞–≥–µ—Ä—å. –í–æ—Ç –æ–Ω. –Ø –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞–ª —á–µ—Ä–µ–∑ –±–µ—Ç–æ–Ω–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—ã–µ –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –ø–ª–∞—Ü–∞, –≤–Ω–æ–≤—å –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ–ª –ê—Ä–≥—É–Ω –∏ –±–µ–∂–∞–ª —É–∂–µ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫. –î–∞–ª—å—à–µ! –ö–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –¥–∞–ª—å—à–µ —É–π—Ç–∏! –î–∏–∫—Ç–æ—Ñ–æ–Ω–∞¬Ý—É–∂–µ –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª. –ï—â–µ —Ä–∞–∑ —á–µ—Ä–µ–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω. –•–æ—Ä–æ—à–æ. –í–æ–¥–∞ –æ—Å–≤–µ–∂–∞–µ—Ç, –Ω–æ –¥—É—à–∞ –Ω–µ –ø–æ–∫–∏–¥–∞–µ—Ç –ø—è—Ç–∫–∏. –ï—Å–ª–∏ –∑–∞ –º–Ω–æ–π –ø–æ–±–µ–∂–∏—Ç –ò–ª—å–º–∞–Ω, –≤—Å–µ –ø—Ä–æ–ø–∞–ª–æ. –≠—Ç–æ—Ç –¥–æ–≥–æ–Ω–∏—Ç –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞. –í—Å—è –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Ç–æ, —á—Ç–æ –æ–Ω–∏ —Ç–∞–∫ –∏ —Å–ª—É—à–∞—é—Ç —Å–≤–æ–µ–≥–æ –º—É—ç–¥–∑–∏–Ω–∞.
–ï—â–µ —Ä–∞–∑ —á–µ—Ä–µ–∑ —Ä–µ—á–∫—É! –¢—É—Ç –∏ –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä—ã–≥–Ω—É—Ç—å —á–µ—Ä–µ–∑ –Ω–µ–µ –º–æ–∂–Ω–æ. –°—É—á—å—è —Ç—Ä–µ—â–∞—Ç –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏, –Ω–æ¬Ý–ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ –æ—Ç–±–µ–∂–∞–ª –æ—Ç –ª–∞–≥–µ—Ä—è –Ω–∞ —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ –¥–≤—É—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ê –∏¬Ý–¥–∞–ª—å—à–µ —É–¥–∞–ª—è—Ç—å—Å—è¬Ý–Ω–µ–ª—å–∑—è. –ì–¥–µ-—Ç–æ —Ä—è–¥–æ–º —Ä–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤, —á—Ç–æ –ø–æ–∫–∏–Ω—É–ª–∞ –ª–∞–≥–µ—Ä—å –ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ —á–∞—Å–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥. –Ý–∞–¥–∏—É—Å –æ–±—Ö–æ–¥–∞¬Ý—Ä–∞–∑–≤–µ–¥—á–∏–∫–æ–≤¬Ý— –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä–µ—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤.¬Ý–ò –µ—â–µ –¥–≤–∞ —Ä–∞–∑–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω. –ë–µ–≥—É —É–∂–µ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä. –ü–æ–ª–¥–µ–Ω—å. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ —Å–∑–∞–¥–∏. –°–∫–æ—Ä–æ –¥–æ–ª–∂–Ω–∞ –±—ã—Ç—å –°—É–Ω–∂–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è —É–∂–µ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª—ã–≤–∞—Ç—å. –ê –µ—Å–ª–∏¬Ý–ø–æ–ø–∞–¥—É –Ω–∞ –ø–µ—Ç–ª—é, –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é –æ–Ω–∞ –∑–¥–µ—Å—å –¥–µ–ª–∞–µ—Ç, —Ç–æ–≥–¥–∞ —Ç—Ä–∏ —Ä–∞–∑–∞ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª—ã–≤–∞—Ç—å.¬Ý–°–µ—Ä–¥—Ü–µ –≤—ã–ø—Ä—ã–≥–∏–≤–∞–µ—Ç –∏–∑ –≥—Ä—É–¥–∏. –ë–µ–≥—É —É–∂–µ –æ–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏ –º–∏–Ω—É—Ç. –í –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π¬Ý—Ä–∞–∑,¬Ý—Ä–∞—Å—Å–µ–∫–∞—è –≥—Ä—É–¥—å—é –≤–æ–¥—É –ê—Ä–≥—É–Ω–∞, —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã. –•–≤–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å! –ù–æ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã —É–∂–µ –¥–∞–ª–µ–∫–æ. –ê —Å–æ –º–Ω–æ—é –¥–≤–µ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—ã. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –∂–∏–≤—ã–º —è –Ω–µ —Å–¥–∞–º—Å—è.
–Ý–∞—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å –ø–æ—Ä–µ–¥–µ–ª–∞. –ë–µ–≥—É –º–∏–º–æ –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã—Ö –∫—É—Å—Ç–æ–≤ —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –∏ –º–æ—â–Ω—ã—Ö —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–≤ –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –≥—Ä–µ—Ü–∫–æ–≥–æ –æ—Ä–µ—Ö–∞.¬Ý–ê –≤–æ—Ç –∏ –±–µ—Ä–µ–≥ –°—É–Ω–∂–∏. –¢–µ—á–µ–Ω–∏–µ — –∂—É—Ç–∫–æ–µ. –ò—â—É –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤—ã¬Ý–∏ –Ω–∏–∫–∞–∫ –Ω–µ –º–æ–≥—É –Ω–∞–π—Ç–∏. –ù–∞ —É–∑–∫–æ–π –ø–æ–ª–æ—Å–∫–µ –ø–µ—Å–∫–∞ –ø–æ–¥ –æ–±—Ä—ã–≤–æ–º –æ—Å—Ç–∞—é—Ç—Å—è –º–æ–∏ —Å–ª–µ–¥—ã. –°–ª–µ–¥—ã —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –Ω–∏ –∫ —á–µ–º—É. –ù–∞ —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –Ω–µ—Ç –Ω–∏ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞, –≥–¥–µ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã –≤—ã–π—Ç–∏ –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥. –í–µ–∑–¥–µ –∫—Ä—É—Ç–æ–π –≥–ª–∏–Ω–∏—Å—Ç—ã–π –æ–±—Ä—ã–≤. –ù–æ¬Ý–∑–∞–º–µ—á–∞—é –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–º –±–µ—Ä–µ–≥—É,¬Ý–Ω–∏–∂–µ –ø–æ —Ç–µ—á–µ–Ω–∏—é –¥–µ—Ä–µ–≤–æ, –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–æ–π –≤ –≤–æ–¥–µ, –∫–æ—Ä–Ω–∏ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –ª–µ–∂–∞—Ç –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É. –í–æ—Ç —ç—Ç–æ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—è—â–∏–π –≤–∞—Ä–∏–∞–Ω—Ç. –í—Ö–æ–∂—É –≤ –≤–æ–¥—É –∏ –ø–æ–Ω–∏–º–∞—é, —á—Ç–æ –≤ –∫—Ä–æ—Å—Å–æ–≤–∫–∞—Ö –º–Ω–µ –Ω–µ –≤—ã–ø–ª—ã—Ç—å. –û—Å—Ç–∞–≤–ª—è—é –∫—Ä–æ—Å—Å–æ–≤–∫–∏ –Ω–∞¬Ý–ø–µ—Å–∫–µ¬Ý–∏ –≤–ø–µ—Ä–µ–¥.
–ì—Ä–∞–Ω–∞—Ç—ã –≤—Å–µ –∂–µ —Ç—è–∂–µ–ª—ã–µ. –¢–∞–∫ –∏ —Ç–∞—â–∞—Ç –Ω–∞ –¥–Ω–æ.¬Ý–ê —Ç—É—Ç –µ—â–µ –∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä –≤ —Ä—É–∫–µ. –í—ã–±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å, —á—Ç–æ –ª–∏?¬Ý–ü–æ—Å–ª—ã—à–∞–ª–∏—Å—å –µ—â–µ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã, –Ω–æ, –∫–∞–∫ –º–Ω–µ –ø–æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –æ–Ω–∏ –±—ã–ª–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –∫–ª—é–Ω—É–ª–∏. –ü–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è –∏—Å–∫–∞—Ç—å –∫ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ. –ü–æ –≤–µ—Ç–≤—è–º –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∏ —Å—Ç–≤–æ–ª—É —è –≤—ã–±—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥. –£–ø–∞–ª –∏ –ø–æ–Ω—è–ª,¬Ý—á—Ç–æ,¬Ý–Ω–µ –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É–≤, –Ω–µ —Å–¥–≤–∏–Ω—É—Å—å —Å –º–µ—Å—Ç–∞.¬Ý–ì–ª—É–±–æ–∫–æ, —Å –Ω–∞–¥—Ä—ã–≤–æ–º, –¥—ã—à–∞–ª. –°—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –ø–∏—Ç—å, —Ö–æ—Ç—è —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∏–∑ –≤–æ–¥—ã.¬Ý–û—â—É–ø–∞–ª —à—Ç–∞–Ω—ã –∏ —Å –≥–æ—Ä–µ—á—å—é –æ—Ç–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞ –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –æ–¥–Ω–∞. –í—Ç–æ—Ä–∞—è, –≤–∏–¥–∏–º–æ, –≤—ã–ø–∞–ª–∞, –ø–æ–∫–∞ —è –≤—ã–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –∏–∑ –≤–æ–¥—ã –ø–æ –¥–µ—Ä–µ–≤—É. –ú–µ–ª—å–∫–æ–º –≤–∑–≥–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞¬Ý–°—É–Ω–∂—ɬݖ∏ –∑–∞–¥–µ—Ä–∂–∞–ª –¥—ã—Ö–∞–Ω–∏–µ. –ö —Ç–æ–º—É –º–µ—Å—Ç—É, –≥–¥–µ —è –æ—Å—Ç–∞–≤–∏–ª –∫—Ä–æ—Å—Å–æ–≤–∫–∏, —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª–∏—Å—å –¥–≤–æ–µ –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞–º–∏. –û–Ω–∏ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª–∏ —Å–ª–µ–¥—ã, –∫—Ä–æ—Å—Å–æ–≤–∫–∏, –ø–æ–∫—Ä—É—Ç–∏–ª–∏ –≥–æ–ª–æ–≤–∞–º–∏¬Ý–∏¬Ý—Å—Ç–∞–ª–∏ –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –≤—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –≤ –≤–æ–¥—É, –¥–µ—Ä–∂–∞ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç—ã –Ω–∞–¥ –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π.¬Ý–Ø –Ω–µ —Ä–∞–∑–¥—É–º—ã–≤–∞–ª –Ω–∏ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã: —Ä–∞–∑–æ–≥–Ω—É–ª —É—Å–∏–∫–∏, –≤—ã–¥–µ—Ä–Ω—É–ª –∫–æ–ª—å—Ü–æ –∏ —à–≤—ã—Ä–Ω—É–ª –≥—Ä–∞–Ω–∞—Ç—É –≤ –≤–æ–¥—É, –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ –±–æ–µ–≤–∏–∫–∞–º. –£–∂–µ —Å—Ç—Ä–µ–º–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —É–±–µ–≥–∞—è –¥–∞–ª—å—à–µ –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É, —è –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ —Å–ª–∞–±–æ–µ «—É—Ö—Ö». –ì—Ä–∞–Ω–∞—Ç–∞ —Ä–≤–∞–Ω—É–ª–∞ –≤ –≤–æ–¥–µ.
–ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ –Ω–æ—Å–æ–º –°—É–Ω–∂–∞. –ü–µ—Ä–µ–ø–ª—ã–≤–∞—Ç—å? –ù–µ—Ç. –í–æ–Ω —Å–ª–µ–≤–∞ –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω–∞, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –ø–µ—Ä–µ–ø–ª—ã–≤–∞—Ç—å –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥–µ—Ç—Å—è. –û–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø—Ä–æ–±–µ–∂–∞–ª –≤–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞. –ê —Ç–∞–º — –≥–æ–ª–æ–µ –ø—Ä–æ—Å—Ç—Ä–∞–Ω—Å—Ç–≤–æ, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –≤–∏–¥–Ω—ã —Å–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–µ –¥–æ–º–∏–∫–∏. –ë—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –æ–±—Ä—ã–≤ –≤—ã—Å–æ–∫–æ–≥–æ –∫–æ—Å–æ–≥–æ—Ä–∞, –Ω–æ –≤–ø—Ä–∞–≤–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–µ–∫–æ–µ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –í–∑–±–µ–≥–∞—è —Ç—É–¥–∞, —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –º–µ–Ω—è –≤–∏–¥–Ω–æ –æ—Ç–æ–≤—Å—é–¥—É. –°–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–π –ª–µ—Å –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –≤–µ—Å—å, –∫–∞–∫ –Ω–∞ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏.
–û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ, —á—Ç–æ–±—ã –Ω–µ «–∑–∞—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è», –≤—ã–ø–æ–ª–∑ –Ω–∞ –∫–æ—Å–æ–≥–æ—Ä.¬Ý–ù–µ –∑—Ä—è –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–∏—á–∞–ª. –°–ø—Ä–∞–≤–∞, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Å—Ç–∞, —à–µ–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ë–µ–∑ –æ—Ä—É–∂–∏—è, –≤–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –±–µ–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞.¬Ý–®–µ–ª —Å–ø–æ–∫–æ–π–Ω–æ, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –∫ –º–æ–µ–π –ø–æ–∏–º–∫–µ –Ω–µ –∏–º–µ–µ—Ç –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –Ω–∞ –≤—Å—Ç—Ä–µ—á—É —Å –Ω–∏–º —è –Ω–µ —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞–ª. –ß–µ–ª–æ–≤–µ–∫ —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è –∏–∑ –≤–∏–¥—É —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–∞—Ä—É –º–∏–Ω—É—Ç. –° —É–¥–∏–≤–ª–µ–Ω–∏–µ–º –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ —Ä–µ–ª—å—Å—ã –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –Ý–µ–ª—å—Å—ã –±–ª–µ—Å—Ç–µ–ª–∏. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–µ–∑–¥ –∑–¥–µ—Å—å —Ö–æ–¥–∏—Ç. –í–¥–æ–ª—å –æ–±—Ä—ã–≤–∞ —Å –∑–∞–ø–∞–¥–∞ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫ —Ç—è–Ω—É–ª–∞—Å—å —Ä–æ—â–∞, –∞ –≤–¥–æ–ª—å –Ω–µ–µ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞. –ó–∞ –Ω–µ—é –∂–µ, –∫ —Å–µ–≤–µ—Ä—É, –ø–æ–ª–µ —Ä–∂–∏. –ó–æ–ª–æ—Ç–æ–µ, –∫—Ä–∞—Å–∏–≤–æ–µ, –Ω–æ —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ –º–Ω–µ –Ω–∏ –∫ —á–µ–º—É. –Ý–æ–∂—å –Ω–∏–∑–∫–∞—è — –Ω–∏ –ø–µ—Ä–µ–π—Ç–∏, –Ω–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø–æ–ª–∑—Ç–∏. –ü—Ä–æ—à–µ–ª –µ—â–µ –≤–¥–æ–ª—å —Ä–æ—â–∏ –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏ –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª–µ –º–µ–Ω—è –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –∫—Ç–æ-–Ω–∏–±—É–¥—å –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç. –°–∞–º–∞—à–∫–∏ –ª–µ–∂–∞–ª–∏ —á—É—Ç—å –Ω–∏–∂–µ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥–µ –∏ –±—ã–ª–∏ —Å–æ–≤—Å–µ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ. –û—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –æ–¥–Ω–æ — –¥–æ–∂–∏–¥–∞—Ç—å—Å—è —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã –≤ —ç—Ç–æ–π —Ä–æ—â–µ, —á—Ç–æ–±—ã –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∏—Ç—å –ø—É—Ç—å —É–∂–µ –Ω–æ—á—å—é.
–ü–æ–±–µ–≥ –ø—Ä–µ–¥–ø–æ–ª–∞–≥–∞–µ—Ç –±–µ–≥—Å—Ç–≤–æ. –û—á–µ–Ω—å —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –æ—Ç—Å–∏–∂–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤–æ –≤—Ä–µ–º—è –ø–æ–±–µ–≥–∞. –≠—Ç–æ —è —É–∂–µ –∑–Ω–∞–ª –Ω–∞ –æ–ø—ã—Ç–µ –ø–æ–±–µ–≥–∞ –≤ –≥–æ—Ä–∞—Ö.¬Ý–Ý–æ—â–∞ –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ä–µ–¥–∫–∞—è. –¢—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫ —Å –¥—É–±–æ–º. –Ø –Ω–∞—à–µ–ª –º–µ—Å—Ç–µ—á–∫–æ, –≥–¥–µ –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–æ —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å, –∑–∞—Ç–æ —Å–∞–º –º–æ–≥ –≤–∏–¥–µ—Ç—å –∏ –°–∞–º–∞—à–∫–∏, –∏ –¥–æ—Ä–æ–≥—É, –∏ –ª–µ—Å, –æ—Ç–∫—É–¥–∞ –º–æ–≥–ª–∞ –ø—Ä–∏–¥—Ç–∏ –ø–æ–≥–æ–Ω—è. –° —Å–æ–±–∞–∫–∞–º–∏ –º–µ–Ω—è, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, –∏—Å–∫–∞—Ç—å –Ω–µ –±—É–¥—É—Ç. –ù–µ –ø—Ä–∏–Ω—è—Ç–æ —ç—Ç–æ —É —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤. –î–ª—è –Ω–∏—Ö —Å–æ–±–∞–∫–∞ — —Ö—É–∂–µ —Å–≤–∏–Ω—å–∏. –¢–µ–º –Ω–µ –º–µ–Ω–µ–µ, –∏ –Ω–∞ —ç—Ç–æ —Å–ª–µ–¥—É–µ—Ç —Ä–∞—Å—Å—á–∏—Ç—ã–≤–∞—Ç—å. –ö–∞–∫ –∂–∞–ª–∫–æ, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –Ω–µ –Ω–æ—á—å! –ó–∞—Ç–æ¬Ý–º–æ–∂–Ω–æ¬Ý–ø–µ—Ä–µ–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å. –° –º–æ–º–µ–Ω—Ç–∞ –ø–æ–±–µ–≥–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–æ —É–∂–µ –ø–æ–ª—á–∞—Å–∞. –í—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª—ã –≤ –ª–µ—Å—É –ø—Ä–µ–∫—Ä–∞—Ç–∏–ª–∏—Å—å –∏–ª–∏ —è –∏—Ö –Ω–µ —Å–ª—ã—à–∞–ª. –ö—Å—Ç–∞—Ç–∏, —Å–µ–≥–æ–¥–Ω—è —Ä–æ–≤–Ω–æ –¥–≤–∞ –≥–æ–¥–∞, –∫–∞–∫ –º—ã –ø–æ–ø–∞–ª–∏ –≤ –ø–ª–µ–Ω. –ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ–µ —Å–æ–≤–ø–∞–¥–µ–Ω–∏–µ. –ü–æ –∫–æ—Å–æ–≥–æ—Ä—É –∂–∞—Ä–∏–ª–æ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ. –í–µ—Ç—Ä–∞ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –ø–æ–ª—ã–Ω–Ω—ã–µ –∑–∞–ø–∞—Ö–∏ –≥—É—Å—Ç—ã–º–∏, –∑–Ω–æ–π–Ω—ã–º–∏ –≤–æ–ª–Ω–∞–º–∏ –Ω–∞–ø–ª—ã–≤–∞–ª–∏ –∏–∑-–ø–æ–¥ –æ–±—Ä—ã–≤–∞. –ò–∑ –∑–∞–ø–∞—Ö–æ–≤ –≤—ã–ø–ª—ã–ª –ø–∏–æ–Ω–µ—Ä—Å–∫–∏–π –ª–∞–≥–µ—Ä—å –≤ –°—Ç—É–¥–µ–Ω–æ–º –æ–≤—Ä–∞–≥–µ. –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∞. –ö–∞–∫ –∂–µ –æ–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∑–¥–µ—Å—å –Ω–µ—É–º–µ—Å—Ç–Ω–∞, —ç—Ç–∞ –¢–∞–Ω–µ—á–∫–∞!¬Ý–ù–æ –æ–Ω–∞ —Å–º–µ—è–ª–∞—Å—å —Å –ø–æ–¥—Ä—É–∂–∫–∞–º–∏, –∞ —è —Å–∏–¥–µ–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ–±–∏—Ç—ã–π, –Ω–∞ —Ç–µ–Ω–Ω–∏—Å–Ω–æ–º —Å—Ç–æ–ª–µ –≤–æ–∑–ª–µ —Å—Ç–æ–ª–æ–≤–æ–π. –ê –≤—Å–µ–≥–æ-—Ç–æ! –ü–æ–ª—ã–Ω–Ω—ã–π –∑–∞–ø–∞—Ö. –ß–µ—Ä—Ç-—Ç–µ —á—Ç–æ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç! –û—á–Ω–∏—Å—å, –ü–µ—Ç—Ä–æ–≤!
–û—á–Ω—É–ª—Å—è —è —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ç–æ–≥–¥–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —É—Å–ª—ã—à–∞–ª –Ω–∞ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —Ç—Ä–µ—Å–∫ –º–æ–ø–µ–¥–æ–≤. –î–≤–æ–µ –ø–∞—Ü–∞–Ω–æ–≤, –ª–µ—Ç —á–µ—Ç—ã—Ä–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç–∏, –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –≤–¥–æ–ª—å —Ä–æ—â–∏ –∏ –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –µ–µ, –∫–∞–∫ —Ä–∞–∑ —Ç–∞–º, –≥–¥–µ —è –≤—ã–ª–µ–∑ –Ω–∞ –∫–æ—Å–æ–≥–æ—Ä, –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∏—Å—å. –ü–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏ –∏ –ø–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –ï—Å–ª–∏ –±—ã —è –ª–µ–∂–∞–ª¬Ý–Ω–µ–ø–æ–¥–≤–∏–∂–Ω–æ, –æ–Ω–∏ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏ –±—ã –º–µ–Ω—è. –ù–æ —è, –∫–∞–∫ —Ñ–ª—é–≥–µ—Ä, –¥–µ—Ä–∂–∞–ª —Ç–µ–ª–æ —Å—Ç—Ä–æ–≥–æ –∑–∞ –∫—É—Å—Ç–æ–º, –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∏–≤–∞—è—Å—å, –ø–æ–∫–∞ –æ–Ω–∏ –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞–ª–∏. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –æ–Ω–∏ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å —Å–Ω–æ–≤–∞, –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞ —Ä–æ—â–∏, –ø–æ—Å—Ç–æ—è–ª–∏ — –∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ.¬Ý–≠—Ç–æ –æ—á–µ–Ω—å –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–ª–æ –ø–æ–∏—Å–∫–∏. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —á—Ç–æ-—Ç–æ –ø—Ä–µ–¥–ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞—Ç—å,¬Ý–≤–µ–¥—å,¬Ý–≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤, –æ–Ω–∏ –º–æ–≥—É—Ç –∑–∞–º–µ—Ç–∏—Ç—å –º–µ–Ω—è. –î–∞ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞—Ç—å –º–æ–≥—É—Ç –∫ –æ–±—Ä—ã–≤—É.
–ú–µ–∂–¥—É —Ä–æ—â–µ–π –∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π –±—ã–ª –Ω–µ—à–∏—Ä–æ–∫–∏–π —Ä–æ–≤. –ö–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ¬Ý–∞—Ä—ã–∫–∞. –ù–æ –≤–æ–¥—ã —Ç–∞–º –±—ã–ª–æ –º–Ω–æ–≥–æ. –ê—Ä—ã–∫ –ø–æ—Ä–æ—Å –≥—É—Å—Ç–æ–π —Ç—Ä–∞–≤–æ–π –∏ –∏–∑–¥–∞–≤–∞–ª —É–∂–∞—Å–Ω—ã–µ –≥–Ω–∏–ª–æ—Å—Ç–Ω—ã–µ –∑–∞–ø–∞—Ö–∏. –í–æ—Ç –≤ —ç—Ç–æ—Ç –∞—Ä—ã–∫ —è –∏ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è, –∫–æ–≥–¥–∞ –ø–∞—Ü–∞–Ω—ã –Ω–∞ –º–æ–ø–µ–¥–∞—֬ݖ≤–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä–∞–∑¬Ý—É–∫–∞—Ç–∏–ª–∏ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –°–∞–º–∞—à–µ–∫. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π —Å–ª–æ–º–∞–ª –¥–æ–≤–æ–ª—å–Ω–æ —Ç–æ–ª—Å—Ç—É—é —Ç—Ä—É–±–∫—É –∏–∑ –∫–∞–º—ã—à–∏–Ω—ã.¬Ý–ö–æ–≥–¥–∞ –º–æ–ø–µ–¥—ã —Å—Ç–∞–ª–∏ –≤–Ω–æ–≤—å –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞—Ç—å—Å—è, —è –Ω—ã—Ä–Ω—É–ª —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π –ø–æ–¥ –≤–æ–¥—É –∏ –¥—ã—à–∞–ª —á–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä—É–±–æ—á–∫—É. –ù–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ. –ü–æ–µ—Ö–∞–ª–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ — —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω—ã—Ä–Ω—É–ª. –í–æ—Ç —Ç–∞–∫ –∏ –Ω—ã—Ä—è–ª –¥–æ –∑–∞–∫–∞—Ç–∞. –ù–æ –≤–æ–¥–∞ —Ç–µ–ø–ª–∞—è, —Ö–æ—Ç—è –∏ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–Ω–∞—è, –≥–æ—Ä—å–∫–∞—è, –≤–æ–Ω—é—á–∞—è.¬Ý–ü—Ä–∞–≤–¥–∞,¬Ý–∫ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–º—É —è¬Ý–±—ã—Å—Ç—Ä–æ –ø—Ä–∏–≤—ã–∫. –û–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑, –∫–æ–≥–¥–∞¬Ý—É–∂–µ —Å–æ–±–∏—Ä–∞–ª—Å—è –≤—ã–ª–µ–∑–∞—Ç—å –∏–∑ –≤–æ–¥—ã, –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –°–∞–º–∞—à–µ–∫ –ø—Ä–æ–µ—Ö–∞–ª –¥–∂–∏–ø. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –ø—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª –ø–æ–¥ –≤–æ–¥–æ–π –º–∏–Ω—É—Ç—ã —Ç—Ä–∏.
–°–º–µ—Ä–∫–∞–ª–æ—Å—å. –°–æ–ª–Ω—Ü–µ –µ—â–µ –Ω–µ –∑–∞—à–ª–æ, –Ω–æ –æ–ø—É—Å—Ç–∏–ª–æ—Å—å –∑–∞ —Ç—É—á–∫—É –Ω–∞ –≥–æ—Ä–∏–∑–æ–Ω—Ç–µ. –í —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ –°–∞–º–∞—à–µ–∫ –ø–æ—è–≤–∏–ª—Å—è —Ç—É–º–∞–Ω, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–æ–ª–Ω–æ—Å—Ç—å—é –∑–∞–∫—Ä—ã–ª —Å–µ–ª–æ. –Ø —Ä–µ—à–∏–ª –∏–¥—Ç–∏ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª–µ, –∞ –¥–∞–ª—å—à–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—É—é –¥–æ—Ä–æ–≥—É –≤–≤–µ—Ä—Ö –Ω–∞ –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –ü–æ –ø–æ–ª—é —à–µ–ª –∑–∏–≥–∑–∞–≥–∞–º–∏, —á—Ç–æ–±—ã –ø–æ—Å–ª–µ –º–µ–Ω—è –Ω–µ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∞—Å—å –ø—Ä–∏–º—è—Ç–∞—è –¥–æ—Ä–æ–∂–∫–∞. –í–∑–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –Ω–∞—Å—ã–ø—å –∂–µ–ª–µ–∑–Ω–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–∏, –ø–µ—Ä–µ—Å–∫–æ—á–∏–ª –µ–µ –∏ –ø–æ—à–µ–ª –≤–≤–µ—Ä—Ö. –≠—Ç–æ —Ç—è–∂–µ–ª–æ. –û—Å–æ–±–µ–Ω–Ω–æ –±–æ—Å–∏–∫–æ–º. –ü—Ä–∞–≤–¥–∞, –Ω–∞ –º–Ω–µ –±—ã–ª–∏ –Ω–æ—Å–∫–∏, –Ω–æ –æ–Ω–∏ –Ω–µ —Å–ø–∞—Å–∞–ª–∏ –æ—Ç –æ—Å—Ç—Ä–æ–π —Å—Ç–µ—Ä–Ω–∏. –°—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –µ–ª–æ–∑–∏—Ç—å —Å—Ç—É–ø–Ω—è–º–∏ –ø–æ –∑–µ–º–ª–µ, –ø—Ä–∏–≥–∏–±–∞—è —Å—Ç–µ—Ä–Ω—é.
–Æ–∂–Ω–∞—è –Ω–æ—á—å –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç –±—ã—Å—Ç—Ä–æ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –º–Ω–µ –ø–æ–¥—Å–≤–µ—á–∏–≤–∞–ª–∞ –õ—É–Ω–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è —Ç–æ–∂–µ –Ω–µ —Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª–∞. –õ—É–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–æ–ª–Ω–∞—è, –ø—Ä–∏—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–≤—à–∏—Å—å –∏–∑ —Å–µ–ª–∞,¬Ý–º–µ–Ω—è –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ¬Ý—É–≤–∏–¥–µ—Ç—å –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω–µ –≥–æ—Ä—ã. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å —ç—Ç–æ—Ç –ø–µ—Ä–≤—ã–π —Å–∫–ª–æ–Ω.
–í–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—è—Å—å —Å –æ—Ç—Ä—è–¥–æ–º –Ý—É—Å–ª–∞–Ω–∞ –ë–µ–∫–∏—à–µ–≤–∞ –∏–∑ –ê—Ä–≥—É–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —É—â–µ–ª—å—è¬Ý–ø–æ–ª—Ç–æ—Ä–∞ –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥, –º–Ω–µ —É–∂–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ—Ç—å –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –ù–∏—á–µ–≥–æ —Ö–æ—Ä–æ—à–µ–≥–æ —è –Ω–µ –æ–∂–∏–¥–∞–ª. –ó–∞ –ø–µ—Ä–≤–æ–π –≥–æ—Ä–∫–æ–π –±—ã–ª –Ω–æ–≤—ã–π –∫—Ä—É—Ç–æ–π —Å–ø—É—Å–∫ –≤ –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–π –æ–≤—Ä–∞–≥. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –µ—â–µ –≥–æ—Ä–∞, –ø–æ–∫—Ä—É—á–µ.
–ù–æ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è —É–∂–µ –º–æ–≥ –Ω–∞—Å–ª–∞–∂–¥–∞—Ç—å—Å—è¬Ý—Å–≤–æ–±–æ–¥–æ–π. –≠—Ç–æ –ø—Ä–∏–¥–∞–≤–∞–ª–æ —Å–∏–ª. –£–∂–µ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–æ–π–¥—É –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É¬Ý—Å—Ç–∞–Ω–∏—ܬݖó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫–æ–π –∏ –ò—â–µ—Ä—Å–∫–æ–π. –ó–Ω–∞–ª, –∫–∞–∫ –ø–æ–π–¥—É. –ó–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –Ω–∞ –∞–≤—Ç–æ–¥–æ—Ä–æ–≥–µ –º–µ–∂–¥—É –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–∏–º –∏ –¢–µ—Ä—Å–∫–∏–º —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞–º–∏¬Ý–¥–æ–ª–∂–µ–Ω –±—ã—Ç—å¬Ý—Ñ–µ–¥–µ—Ä–∞–ª—å–Ω—ã–π –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç. –ù–∞–¥–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –µ–≥–æ –Ω–∞–π—Ç–∏. –ê –ø–æ–∫–∞ — –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç –°–∞–º–∞—à–µ–∫.
20¬Ý–∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞. –°—Ä–µ–¥–∞.¬Ý–ì–ª—É–±–æ–∫–æ–π –Ω–æ—á—å—é –º–Ω–µ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å –≤—ã–π—Ç–∏ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—É –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞. –ó–¥–µ—Å—å –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–≤–∞ –≥–æ–¥–∞ –Ω–∞–∑–∞–¥ —à–ª–∏ –∏–Ω—Ç–µ–Ω—Å–∏–≤–Ω—ã–µ –±–æ–∏. –í—Å—è –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –±—ã–ª–∞ –∏–∑—Ä—ã—Ç–∞ —Ç–∞–Ω–∫–æ–≤—ã–º–∏ —Ç—Ä–∞–∫–∞–º–∏. –ò–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å –∫—Ä–µ—Å—Ç—ã, –ø–æ—Å—Ç–∞–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –∏–∑ –∞—Ä–º–∞—Ç—É—Ä—ã –Ω–∞—à–∏–º–∏ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∞–º–∏. –¢–æ –ª–∏ –º–æ–≥–∏–ª—ã, —Ç–æ –ª–∏ —Å—Ç–∞–≤–∏–ª–∏ –∏—Ö –Ω–∞–∑–ª–æ –≤—Ä–∞–≥–∞–º-—á–µ—á–µ–Ω—Ü–∞–º, –º–æ–ª, –Ω–∞—à–∞ –∑–µ–º–ª—è. –ú–æ–ª–æ–¥—Ü—ã, —Ä–µ–±—è—Ç–∞! –ì–æ—Ä–¥–æ—Å—Ç—å –∏—Å–ø—ã—Ç—ã–≤–∞–µ—à—å –∑–∞ –Ý–æ—Å—Å–∏—é —Ä—è–¥–æ–º —Å —ç—Ç–∏–º–∏ –Ω–µ—É–∫–ª—é–∂–∏–º–∏ —Å–æ–æ—Ä—É–∂–µ–Ω–∏—è–º–∏.
–£–∂–µ —Å–≤–µ—Ç–∞–ª–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–∫ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞–Ω–Ω—É—é –¥–æ—Ä–æ–≥—É —á–µ—Ä–µ–∑ —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –í–Ω–∏–∑—É, –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ –º–µ–∂–¥—É —Ö—Ä–µ–±—Ç–æ–≤, —É–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª—Å—è –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–∫. –ê —Ä–∞–∑ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–∫, –∑–Ω–∞—á–∏—Ç, –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –Ω–∞–π—Ç–∏ –º–µ—Å—Ç–æ –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –ø–µ—Ä–µ–∂–¥–∞—Ç—å, –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å –∏ –ø—Ä–∏—Ç–∞–∏—Ç—å—Å—è. –í–Ω–∞—á–∞–ª–µ¬Ý—Å—Ç–∞–ª —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –¢–∞–∫ –ª–µ–≥—á–µ, –Ω–æ –ø–æ—Ç–æ–º —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –≤ —Å–ª—É—á–∞–µ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –º–∞—à–∏–Ω—ã, —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è –±—É–¥–µ—Ç –Ω–µ–≥–¥–µ. –û—Ç–æ—à–µ–ª –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Ç—Ä–∏—Å—Ç–∞ –æ—Ç –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥ –∏ —Å—Ç–∞–ª —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è —Å–Ω–æ–≤–∞. –£–∂–µ –ø–æ—á—Ç–∏ —Å–ø—É—Å—Ç–∏–≤—à–∏—Å—å, —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª, —á—Ç–æ —Å—Ç–æ—é –Ω–∞ –æ–¥–∏–Ω–æ–∫–æ–º —Ö–æ–ª–º–µ. –í–æ—Ç-–≤–æ—Ç –≤–∑–æ–π–¥–µ—Ç –°–æ–ª–Ω—Ü–µ. –° —Ö–æ–ª–º–∞ –æ—Ç–ª–∏—á–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–µ—Ç—Å—è –∏ –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–∫, –∏ —à–æ—Å—Å–µ –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω–µ, –∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –Ω–∞ –°–∞–º–∞—à–∫–∏, –¥–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –±—ã–ª–æ –æ–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–∏—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ü—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ —Ö–æ–ª–º–∞ —Ä–∞–Ω—å—à–µ —Å—Ç–æ—è–ª –¥–æ–º–∏–∫. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —è–º–∞ —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä–∞—è –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª–∞ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è. –Ý–µ—à–∏–ª —Ç–∞–º –∏ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è. –ü–æ–¥–∫–∞—Ç–∏–ª–∞ —Å–º–µ—Ä—Ç–µ–ª—å–Ω–∞—è —É—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—Ç—å, –Ω–æ –≤–∫—É–ø–µ —Å —Ä–∞–¥–æ—Å—Ç—å—é —Å–≤–æ–±–æ–¥—ã —É—Å—Ç–∞–ª–æ—Å—Ç—å –∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å —Å–ª–∞–¥–∫–æ–π. –ü—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω–∏–≤—à–∏—Å—å –∫ –∫–∞–º–Ω—è–º —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞, —á—É—Ç—å –æ–±–æ–≥—Ä–µ—Ç—ã—Ö —Å–æ–ª–Ω–µ—á–Ω—ã–º–∏ –ª—É—á–∞–º–∏, —è –∑–∞–¥—Ä–µ–º–∞–ª.
–ü—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç —Ä—ã–∫–∞ –º–æ—Ç–æ—Ä–∞ –ë–¢–Ý.¬Ý–í—Å–∫–æ—á–∏–ª. –ë–¢–Ý —Å –±–æ–π—Ü–∞–º–∏ –Ω–∞ –±—Ä–æ–Ω–µ —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª—Å—è –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω—É —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –°–∞–º–∞—à–µ–∫. –í–æ—Ç —Ç—É—Ç —è –ø–æ–∂–∞–ª–µ–ª, —á—Ç–æ –Ω–µ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ö—Ä–∏—á–∏, –Ω–µ –∫—Ä–∏—á–∏,¬Ý–≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –Ω–µ —É—Å–ª—ã—à–∞—Ç. –ê –Ω–∞—á–Ω–µ—à—å —Ä—É–∫–∞–º–∏ –º–∞—Ö–∞—Ç—å — –ø–∞–ª—å–Ω—É—Ç –µ—â–µ –Ω–µ–Ω–∞—Ä–æ–∫–æ–º. –¢–∞–∫ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–∞—à–∏—֬ݗŖ斪–¥–∞—Ç.
–ü–∏—Ç—å, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ. –ò –µ—Å—Ç—å. –Ø –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª, —á—Ç–æ —Å–æ –º–Ω–æ–π –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–∫, –∑–∞ —Ç—Ä–∏ –º–µ—Å—è—Ü–∞ –¥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –∏–∑–≥–æ—Ç–æ–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–π –≤—Ç–∏—Ö–∞—Ä—è –æ—Ç –±–æ–µ–≤–∏–∫–æ–≤. –ö—Ä–µ—Å—Ç–∏–∫, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π¬Ý–ø–æ —Ç—Ä–µ–±–æ–≤–∞–Ω–∏—é¬Ý–¢—É—Ä–µ—è, —è –≤—ã–Ω—É–∂–¥–µ–Ω –±—ã–ª –±—Ä–æ—Å–∏—Ç—å –≤ –∫–æ—Å—Ç–µ—Ä. –ê –ø–æ—Ç–æ–º, –∫–æ–≥–¥–∞¬Ý–¢—É—Ä–µ–π¬Ý–æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è, –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç—å –µ–≥–æ –æ—Ç—Ç—É–¥–∞ –≥–æ–ª—ã–º–∏ —Ä—É–∫–∞–º–∏. –ò –Ω–µ –æ–±–∂–µ–≥—Å—è. –ë—É–ª–∞–≤–∫–æ–π, —á—Ç–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞ –Ω–æ—Å–∏–ª —Å —Å–æ–±–æ–π, –ø—Ä–æ–∫–æ–≤—ã—Ä—è–ª –≤¬Ý–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–∫–µ¬Ý–¥—ã—Ä–æ—á–∫—É. –í –∫–∞—Ä–º–∞–Ω–µ —à—Ç–∞–Ω–æ–≤ —É –º–µ–Ω—è –±—ã–ª–∞ —Å–ø—É—Ç–∞–Ω–Ω–∞—è –∫–∞—Ç—É—à–∫–∞ —á–µ—Ä–Ω—ã—Ö –Ω–∏—Ç–æ–∫. –Ý–∞—Å–ø—É—Ç–∞–ª –Ω–∏—Ç–æ—á–∫—É –∏ –ø–æ–≤–µ—Å–∏–ª –∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–∫ –Ω–∞ —à–µ—é. –°–ª–∞–≤–∞ –ë–æ–≥—É. –ü–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–∏–ª—Å—è. –ú–æ–ª–∏—Ç—å—Å—è —è –Ω–µ —É–º–µ–ª.
–ö–æ–≥–¥–∞ —É—à–ª–∞ —Å –¥–æ–ª–∏–Ω—ã —É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω—è—è –¥—ã–º–∫–∞, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –ø–µ—Ä–µ–∫—Ä–µ—Å—Ç–æ–∫. –ù–∞–º–µ–∫–æ–≤ –Ω–∞ –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–æ –∏–¥—Ç–∏ –∫—É–¥–∞-—Ç–æ –¥–æ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç—ã –±—ã–ª–æ –≥–ª—É–ø–æ. –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø–æ–¥–∂–∞—Ä–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –≤–µ—Å—å –¥–µ–Ω—å. –í–Ω–∞—á–∞–ª–µ —è –ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∫–∞–º–∏ —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞, –Ω–æ —é–∂–Ω–æ–µ —Å–æ–ª–Ω—ã—à–∫–æ¬Ý—Ö–æ–¥–∏—Ç –≤—ã—Å–æ–∫–æ. –ò–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –ø–æ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–µ —Ö–æ–ª–º–∞ –ø—Ä–æ–∫–∞—Ç—ã–≤–∞–ª—Å—è –ª–µ–≥–∫–∏–π –≤–µ—Ç–µ—Ä–æ–∫. –Ø —Å–Ω—è–ª —à—Ç–∞–Ω—ã –∏ —Ä—É–±–∞—à–∫—É. –ö–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫ –ª–µ–≥—á–µ. –î–∞–∂–µ –∑–∞—Å–Ω—É–ª –Ω–µ–Ω–∞–¥–æ–ª–≥–æ. –ù–æ –ø—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç—Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –≥–æ—Ä–µ–ª–∏ –æ–±–æ–∂–∂–µ–Ω–Ω—ã–µ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ–º –ª—è–∂–∫–∏ –∏ —Ä—É–∫–∏. –°–Ω–æ–≤–∞ –≤–ª–µ–∑ –≤ –æ–¥–µ–∂–¥—É. –ñ–∞–∂–¥–∞ –∫–∞–∫-—Ç–æ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∞, –Ω–æ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –µ—Å—Ç—å. –ü–æ–∏—Å–∫–∞–ª –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Ñ—É–Ω–¥–∞–º–µ–Ω—Ç–∞ –∫–æ–ª–æ—Å–∫–∏.¬Ý–ù–µ—Ç. –ù–∞—à–µ–ª –Ω–µ–∫–æ–µ —Ä–∞—Å—Ç–µ–Ω–∏–µ —Å –ø–ª–æ–¥–∞–º–∏, –ø–æ—Ö–æ–∂–∏–º–∏ –Ω–∞ –≤–Ω—É—Ç—Ä–µ–Ω–Ω–æ—Å—Ç–∏ –∫–æ—Å—Ç–æ—á–∫–∏ –æ—Ç —Å–ª–∏–≤—ã. –û–Ω–∏ –∏ –Ω–∞ –≤–∫—É—Å –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∏—Å—å —Ç–∞–∫–∏–º–∏ –∂–µ —Ç–µ—Ä–ø–∫–∏–º–∏, –Ω–æ –±–æ–ª–µ–µ –≥–æ—Ä—å–∫–∏–º–∏. –°—ä–µ–ª –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —à—Ç—É–∫. –ü–æ–¥–æ–∂–¥–∞–ª, –Ω–µ —É–º—Ä—É –ª–∏? –ù–µ —É–º–µ—Ä. –û–±—ä–µ–ª –≤—Å–µ –∫—É—Å—Ç–∏–∫–∏ –¥–æ –∫–æ–Ω—Ü–∞. –ü–æ–º–æ–≥–ª–æ.
–î–≤–∏–∂–µ–Ω–∏–µ –ø–æ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è –±—ã–ª–æ –Ω–∞–∑–≤–∞—Ç—å –æ–∂–∏–≤–ª–µ–Ω–Ω—ã–º.¬Ý–î–æ—Ä–æ–≥–∞¬Ý—à–ª–∞ –∏–∑ –ú–∞–ª–≥–æ–±–µ–∫–∞ –Ω–∞ –ì—Ä–æ–∑–Ω—ã–π, –Ω–æ –ø–æ–ø—É–ª—è—Ä–Ω–æ—Å—Ç—å—é –Ω–µ –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞–ª–∞—Å—å. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –Ω–∞—Å —Å –ö—É–∑—å–º–∏–Ω–æ–π –∏ —É–≤–æ–∑–∏–ª–∏¬Ý–≤ –ø–ª–µ–Ω¬Ý–ø–æ –Ω–µ–π. –ß—Ç–æ–±—ã –ø–æ–º–µ–Ω—å—à–µ¬Ý—Å–≤–µ—Ç–∏—Ç—å—Å—è. –Ø –∑–Ω–∞–ª, —á—Ç–æ –≥–¥–µ-—Ç–æ —Ä—è–¥–æ–º –¥–æ–ª–∂–Ω–æ –±—ã—Ç—å —Å–µ–ª–æ –ü–æ–±–µ–¥–∏–Ω—Å–∫–æ–µ. –ù–æ –≤–ª–µ–≤–æ –ø–æ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ, –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥–µ, –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ, –∞ –Ω–∞ –≤–æ—Å—Ç–æ–∫¬Ý–æ–±–∑–æ—Ĭݖ∑–∞–∫—Ä—ã–≤–∞–ª –±–æ–ª—å—à–æ–π —Ö–æ–ª–º, –ø–µ—Ä–µ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –Ω–∞ –°–∞–º–∞—à–∫–∏.
–í–¥–æ–ª—å —Ç—Ä–∞—Å—Å—ã —Ç–µ–∫–ª–∞ —Ä–µ—á–∫–∞. –°–∫–æ—Ä–µ–µ — –∫–∞–Ω–∞–ª. –ù–æ, —Å—É–¥—è –ø–æ –¥–ª–∏–Ω–µ –º–æ—Å—Ç–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –∑–∞–∫–∞–Ω—á–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ç—Ä–∞—Å—Å–æ–π, —ç—Ç–æ—Ç –∫–∞–Ω–∞–ª —Å–∏–ª—å–Ω–æ —Ä–∞–∑–ª–∏–≤–∞–ª—Å—è –≤ –ø–æ–ª–æ–≤–æ–¥—å–µ.
–ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ —Å–∫—Ä—ã–ª–æ—Å—å –∑–∞ —Ö—Ä–µ–±—Ç–æ–º, —è —Å—Ç–∞–ª —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è –∫ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ, –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—è –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ —Å–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ—à–µ–ª –µ–µ –∏ –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω —Ö–æ–ª–º–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π –º–µ—à–∞–ª –º–Ω–µ –æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å –¥–æ—Ä–æ–≥—É –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≤–æ—Å—Ç–æ–∫–∞. –ó–∞ —Ö–æ–ª–º–æ–º –∏ —Å–∫—Ä—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å —Å–µ–ª–æ –ü–æ–±–µ–¥–∏–Ω—Å–∫–æ–µ, –∞ –Ω–∞ –≤—ä–µ–∑–¥–µ –≤ –Ω–µ–≥–æ —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–µ–∫–æ–µ –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç–∞.¬Ý–°–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è –≤–Ω–∏–∑ –∏ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –ø–æ–¥ –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω—ã–º –º–æ—Å—Ç–æ–º —á–µ—Ä–µ–∑ –∫–∞–Ω–∞–ª. –ß—Ç–æ–±—ã –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å –Ω–∞ –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç, —Ä–µ—à–∏–ª –¥–æ–∂–¥–∞—Ç—å—Å—è –Ω–æ—á–∏. –ò–∑ –∫–∞–Ω–∞–ª–∞ –≤–¥–æ–≤–æ–ª—å –Ω–∞–ø–∏–ª—Å—è –≥—Ä—è–∑–Ω–æ–π –≤–æ–¥—ã.¬Ý–ñ–∏–∑–Ω—å –Ω–∞–ª–∞–∂–∏–≤–∞–ª–∞—Å—å.
–í —Ç—Ä–∞–≤–µ –ø–æ–¥ –º–æ—Å—Ç–æ–º –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª–Ω–æ –∑–º–µ–π. –ù–æ, –ø–æ-–º–æ–µ–º—É, –æ–Ω–∏ –º–µ–Ω—è –∏—Å–ø—É–≥–∞–ª–∏—Å—å. –ê –º–Ω–µ –¥–µ–≤–∞—Ç—å—Å—è –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ –Ω–µ–∫—É–¥–∞, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –¥–æ –ø–æ–ª—É–Ω–æ—á–∏ —è –Ω–æ—Ä–º–∞–ª—å–Ω–æ –ø—Ä–æ—Å–ø–∞–ª. –ü—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –æ—Ç —Ö–æ–ª–æ–¥–∞ –∏ –ø–æ—à–µ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç–∞. –î–≤–∞–∂–¥—ã –ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É –∫–∞–Ω–∞–ª–∞ –æ—Ç –ø—Ä–æ–µ–∑–∂–∞—é—â–∏—Ö –º–∞—à–∏–Ω, –±–ª–∞–≥–æ —Å–≤–µ—Ç —Ñ–∞—Ä –≤–∏–¥–µ–Ω –∏–∑–¥–∞–ª–µ–∫–∞. –í—Å–µ –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –Ω–∞ –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç—É –æ–≥–æ–Ω–µ–∫. –î–æ–±—Ä–∞–≤—à–∏—Å—å, –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª —Å–æ–≤–µ—Ä—à–µ–Ω–Ω–æ —Ä–∞–∑–≤–∞–ª–µ–Ω–Ω—É—é —Ö–∏–∂–∏–Ω—É, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π, –≤–ø—Ä–æ—á–µ–º, –∏–º–µ–ª–∏—Å—å –æ—Å—Ç–∞—Ç–∫–∏ –Ω–µ–¥–∞–≤–Ω–µ–≥–æ –ø—Ä–µ–±—ã–≤–∞–Ω–∏—è —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –í–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –ø–æ–¥—É–º–∞–ª —è, –¥–Ω–µ–º –∑–¥–µ—Å—å –≤—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ –µ—Å—Ç—å –ø–æ—Å—Ç. –Ý–µ—à–∏–ª –¥–æ–∂–∏–¥–∞—Ç—å—Å—è —É—Ç—Ä–∞ –≤—Å–µ —Ç–∞–º –∂–µ, –ø–æ–¥ —Å–≤–æ–∏–º –º–æ—Å—Ç–æ–º.
21 –∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞. –ß–µ—Ç–≤–µ—Ä–≥.¬Ý–í–º–µ—Å—Ç–µ —Å–æ –∑–º–µ—è–º–∏ —è –ø—Ä–æ–≤–∞–ª—è–ª—Å—è –ø–æ–¥ –º–æ—Å—Ç–æ–º –¥–æ –≤–æ—Å—Ö–æ–¥–∞ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –Ω–∞–¥ –≥–æ—Ä–∞–º–∏ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, —á–∞—Å–æ–≤ –¥–æ –≤–æ—Å—å–º–∏. –ï—â–µ —Ä–∞–∑ –ø–æ—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è —Å–≤–æ–±–æ–¥–µ. –í—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –ø—Ä–æ –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç, –∏ —É–∂ –±—ã–ª–æ —Å–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –ø–æ–π—Ç–∏ –≤ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É, –∫–∞–∫ –ø–æ –º–æ—Å—Ç—É –Ω–∞—á–∞–ª–∏ —à–∞—Å—Ç–∞—Ç—å –≥—Ä—É–∑–æ–≤–∏–∫–∏.¬Ý–°–æ—Å–µ–¥–Ω–∏–π —Ö–æ–ª–º –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è¬Ý—Ä–∞–∑—Ä–µ–∑–æ–º –¥–ª—è –¥–æ–±—ã—á–∏ —â–µ–±–Ω—è. –ù–æ —ç—Ç–æ –µ—â–µ –ø–æ–ª–±–µ–¥—ã. –ü—Ä—è–º–æ –∫–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥ –º–æ—Å—Ç –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –∫–æ—Å–∏—Ç—å —Ç—Ä–∞–≤—É! –í–æ—Ç —É–∂ —è –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –ø–æ–±–µ–≥–∞–ª! –¢–æ –ø–æ–¥ –æ–¥–Ω—É –æ–ø–æ—Ä—É —Å–∫—Ä–æ—é—Å—å, —Ç–æ –ø–æ–¥ –¥—Ä—É–≥—É—é… –¢–æ–ª—å–∫–æ –∏ –ø–µ—Ä–µ–≤–µ–ª –¥—É—Ö, –∫–æ–≥–¥–∞ –æ–Ω —Ä–µ—à–∏–ª –≤–∑–¥—Ä–µ–º–Ω—É—Ç—å –ø–æ—Å–ª–µ –æ–±–µ–¥–∞. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –æ–ø—è—Ç—å! –ö–∞–∫–æ–π —É–∂ —Ç–∞–º –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç, –Ω–µ –ø–æ–ø–∞—Å—Ç—å—Å—è –±—ã. –ß–µ—á–µ–Ω–µ—Ü —É–µ—Ö–∞–ª –∫–æ—Ä–º–∏—Ç—å —Å–≤–æ–∏—Ö –∫—Ä–æ–ª–∏–∫–æ–≤ —á–∞—Å–æ–≤ –æ–∫–æ–ª–æ —à–µ—Å—Ç–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–∞, –∞ —è, –æ—Ç—á–∞—è–≤—à–∏—Å—å, –≤—ã—à–µ–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∏ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∂–µ–ª–∞–Ω–Ω–æ–≥–æ –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç–∞. –ù–∏–∫–æ–≥–æ —Ç–∞–º –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–≥–ª—è–¥–µ–ª—Å—è — –Ω–∏–∫–æ–≥–æ. –Ø –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–∫ —à–æ—Å—Å–µ –∏ –ø–æ—à–µ–ª –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç—É –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–µ–≤–µ—Ä–∞. –ù–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä, –∏ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä!
–ò–∑—ä–µ–¥–µ–Ω–Ω—ã–π –∫–∞–Ω–∞–≤–∞–º–∏ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç —É—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä–æ-–∑–∞–ø–∞–¥ –∏ —á—É—Ç—å –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ü–æ–¥ –ø–æ–ª–æ–≥–∏–º–∏ –ª—É—á–∞–º–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–Ω–µ–≥–æ —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –≥—Ä–µ–ª–∏—Å—å –∑–º–µ–∏. –Ø –æ–±—Ö–æ–¥–∏–ª –∏—Ö. –û–Ω–∏ —à–∏–ø–µ–ª–∏, –Ω–æ –Ω–∏ –æ–¥–Ω–∞ –Ω–µ —Å–¥–≤–∏–Ω—É–ª–∞—Å—å —Å –º–µ—Å—Ç–∞. –ß–µ—Ä–µ–∑ —Ç—Ä–∏ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ —É–≤–∏–¥–µ–ª –∑–¥–∞–Ω–∏—è –ì—Ä–æ–∑–Ω–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ –≥–∞–∑–æ–ø–µ—Ä–µ—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞—é—â–µ–≥–æ –∑–∞–≤–æ–¥–∞.¬Ý–ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –±—ã –∏–¥—Ç–∏ –¥–∞–ª—å—à–µ, –Ω–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ —Å–∏–ª. –ó–∞—Ç–æ –±—ã–ª–∞ –Ω–∞–¥–µ–∂–¥–∞ –Ω–∞–π—Ç–∏ –∑–¥–µ—Å—å —Ö–æ—Ç—å –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ –ø—Ä–æ–ø–∏—Ç–∞–Ω–∏–µ. –ò–ª–∏ —Ö–æ—Ç—è –±—ã –≤–æ–¥—É. –£–∂–µ –≤ —Ç–µ–º–Ω–æ—Ç–µ –≤–æ—à–µ–ª –≤ –∑–∞–±—Ä–æ—à–µ–Ω–Ω–æ–µ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ –∏–∑ —Ü–µ—Ö–æ–≤. –ü–æ —à–∞—Ç–∫–∏–º –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–∞–º –∑–∞–±—Ä–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —ç—Ç–∞–∂. –í –æ–¥–Ω–æ–π –∏–∑ –∫–æ–º–Ω–∞—Ç –Ω–∞ –ø–æ–ª—É –≤–∞–ª—è–ª–∏—Å—å –≥—Ä—É–¥—ã –±—É–º–∞–≥–∏. –í –Ω–∏—Ö —è –∏ –∑–∞–Ω–æ—á–µ–≤–∞–ª.
22 –∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞. –ü—è—Ç–Ω–∏—Ü–∞.¬Ý–ù–æ—á—å –≤—ã–¥–∞–ª–∞—Å—å —Ç—Ä–µ–≤–æ–∂–Ω–∞—è. –°–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –≤—ã–ª–∏ –∏ –ª–∞—è–ª–∏ —Å–æ–±–∞–∫–∏. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏—Å—å —É–¥–∞—Ä—ã —Ç–æ–ø–æ—Ä–æ–º –æ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ — –∑–≤–æ–Ω –ø–æ—Å—É–¥—ã. –ö —É—Ç—Ä—É –ø–æ—á—É–≤—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª —Å–µ–±—è –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –ø–ª–æ—Ö–æ. –û—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ç–µ–ª–æ—Å—å –ø–∏—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ–ª–æ, –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –≤ —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–µ–π –∫–æ–º–Ω–∞—Ç–µ –∏–∑–∫–æ—Ä–µ–∂–µ–Ω–Ω—ã–π –ø—É–ª–µ–º–µ—Ç –∏ –º–æ—Ä–µ –ø—É—Å—Ç—ã—Ö –ø–æ–ª—É—Ç–æ—Ä–∞–ª–∏—Ç—Ä–æ–≤—ã—Ö –ø–ª–∞—Å—Ç–∏–∫–æ–≤—ã—Ö –±—É—Ç—ã–ª–æ–∫. –ö –≥–æ—Ä–ª—ã—à–∫–∞–º –º–Ω–æ–≥–∏—Ö –∏–∑ –Ω–∏—Ö –±—ã–ª–∞ –ø—Ä–∏–º–æ—Ç–∞–Ω–∞ –∞–ª—é–º–∏–Ω–∏–µ–≤–∞—è –ø—Ä–æ–≤–æ–ª–æ–∫–∞ — —á—Ç–æ–±—ã —É–¥–æ–±–Ω–µ–µ –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª—å–∑–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π –±—É—Ç—ã–ª–∫–æ–π. –ü–æ–¥–≤–µ—Å–∏—à—å — –Ω–µ –ø—Ä–æ–ª—å–µ—Ç—Å—è. –í—Å–µ —Å—Ç–µ–Ω—ã –∏–∑–±–∏—Ç—ã –ø—É–ª—è–º–∏. –ë–æ–∏ –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–∏ –Ω–µ—à—É—Ç–æ—á–Ω—ã–µ. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π —Å—Ç–∞–ª –ø–µ—Ä–µ–±–∏—Ä–∞—Ç—å –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏. –ë–µ–∑ –æ—Å–æ–±–æ–π –Ω–∞–¥–µ–∂–¥—ã, –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ —Ç–∞–∫. –î–æ–±—Ä–∞–ª—Å—è –ø–æ—á—Ç–∏ –¥–æ –¥–Ω–∞ –∑–∞–≤–∞–ª–∞ –∏ — –æ —á—É–¥–æ! — –ø–æ–ª–Ω–∞—è –±—É—Ç—ã–ª–∫–∞ –≤–æ–¥—ã. –û—Ç–∫—Ä—ã–ª, –ø–æ–Ω—é—Ö–∞–ª. –í—Ä–æ–¥–µ, –≤–æ–¥–∞. –û—Ç–ø–∏–ª –≥–ª–æ—Ç–æ–∫. –ü–æ–¥–æ–∂–¥–∞–ª. –ù–µ —É–º–∏—Ä–∞—é. –ò –≤—ã–ø–∏–ª –±–æ–ª—å—à—É—é —á–∞—Å—Ç—å. –ï–¥–≤–∞ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –∫–∞–∫-—Ç–æ –ø—Ä–æ—Ç—è–Ω—É—Ç—å –¥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞.
–ó–∞ –æ–∫–Ω–∞–º–∏ —É–∂–µ —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ. –Ø –ø—Ä–∏–≥–ª—è–¥–µ–ª—Å—è –∏ –æ–±—Ä–∞–¥–æ–≤–∞–ª—Å—è. –ö —Å–µ–≤–µ—Ä—É, —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ, —É–≤–∏–¥–µ–ª –æ–∑–µ—Ä–æ. –Ý–æ–≤–Ω–µ–Ω—å–∫–æ–µ –æ–Ω–æ –±–ª–∏—Å—Ç–∞–ª–æ –≤ –ª—É—á–∞—Ö —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –ù—É, –≤–æ—Ç. –ë—É—Ç—ã–ª–∫–∏ –µ—Å—Ç—å. –í–æ–∑—å–º—É —Å —Å–æ–±–æ–π —à—Ç—É–∫–∏ —Ç—Ä–∏, –Ω–∞–ø–æ–ª–Ω—é –≤–æ–¥–æ–π –∏ –±–ª–∏–∂–µ –∫ –Ω–æ—á–∏ — –≤ –ø—É—Ç—å.
–Ý–∞–∑–≤–µ–¥–∫–∞ —Ü–µ—Ö–∞ –ì–ü–ó –ø—Ä–∏–Ω–µ—Å–ª–∞ –º–Ω–æ–≥–æ–µ, —Å —Ç–æ—á–∫–∏ –∑—Ä–µ–Ω–∏—è –Ω–∏—â–µ–≥–æ. –Ø –Ω–∞—à–µ–ª —Ö–æ–ª—â–æ–≤—É—é —Å—É–º–∫—É, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—É—é —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –ø–æ–ª–æ–∂–∏—Ç—å —Ç–æ–ø–æ—Ä–∏–∫ –∏ –±—É—Ç—ã–ª–∫–∏. –ì–∏–º–Ω–∞—Å—Ç–µ—Ä–∫—É, –∏–∑ —Ä—É–∫–∞–≤–æ–≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–¥–µ–ª–∞–ª —Å–µ–±–µ —á—É–Ω–∏ –Ω–∞ –Ω–æ–≥–∏ –∏ —à–∞–ø–æ—á–∫—É –æ—Ç —Å–æ–ª–Ω—Ü–∞. –ü—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏–ª —Å–µ–±–µ, –∫–∞–∫ –≤—ã–≥–ª—è–∂—É. –ñ—É—Ç–∫–æ–µ –∑—Ä–µ–ª–∏—â–µ. –ó–∞—Ç–æ –Ω–æ–≥–∏ –±—É–¥—É—Ç —Ü–µ–ª–µ–π. –ù–∞—à–µ–ª –∫—É—Å–æ–∫ —Å—Ç–∞—Ä–æ–≥–æ –¥—ã—Ä—è–≤–æ–≥–æ –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∞. –ü–æ–π–¥–µ—Ç –Ω–æ—á—å—é –≤–º–µ—Å—Ç–æ –æ–¥–µ—è–ª–∞. –ò–∑ —Ö–æ–ª—â–æ–≤–æ–π —Å—É–º–∫–∏ –∏ –ª–æ—Å–∫—É—Ç—å–µ–≤ –≥–∏–º–Ω–∞—Å—Ç–µ—Ä–∫–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª —Ä—é–∫–∑–∞–∫. –¢–µ–ø–µ—Ä—å –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–¥—Ç–∏ —Ö–æ—Ç—å –¥–æ –°–∞–º–∞—Ä—ã.
–ë–ª–∏–∂–µ –∫ –ø–æ–ª—É–¥–Ω—é —É –∑–¥–∞–Ω–∏—è –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –º–∞—à–∏–Ω–∞. –ö–∞–∫–∞—è — –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –Ω–∞ —Ç—Ä–µ—Ç—å–µ–º —ç—Ç–∞–∂–µ. –°—É–¥—è –ø–æ –≥–æ–ª–æ—Å–∞–º, –ø–æ –ø–µ—Ä–≤–æ–º—É —ç—Ç–∞–∂—É —Ö–æ–¥–∏–ª–∏ –¥–≤–æ–µ. –ü–æ—Ç–æ–º –æ–Ω–∏ —á—Ç–æ-—Ç–æ –≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏ –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É. –£–µ—Ö–∞–ª–∏. –ò–∑ –∑–¥–∞–Ω–∏—è –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –ß–µ—Ä–µ–∑ –≥–ª–∞–≤–Ω—ã–π –≤—Ö–æ–¥, –≥–¥–µ —è –∑–∞—Ö–æ–¥–∏–ª –Ω–æ—á—å—é, –≤—ã—Ö–æ–¥–∏—Ç—å –±—ã–ª–æ –æ–ø–∞—Å–Ω–æ. –ú–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ —Å—Ç–æ—è–ª –¥–æ–º. –°–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –∂–∏–ª–æ–π. –ü–æ –ø–æ–∂–∞—Ä–Ω–æ–π –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ —è —Å–ø—É—Å—Ç–∏–ª—Å—è —Å–æ –≤—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ —ç—Ç–∞–∂–∞ –Ω–∞ –ø—Ä–æ—Ç–∏–≤–æ–ø–æ–ª–æ–∂–Ω–æ–π –æ—Ç –¥–æ–º–∞ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ. –û—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª—Å—è. –ò–¥—Ç–∏ –±—ã–ª–æ –Ω–µ–∫—É–¥–∞. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –¥–Ω–µ–º. –Ý—è–¥–æ–º —Å–æ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ–º –±—ã–ª–∞ –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–∞—è –ø–æ—Å–∞–¥–∫–∞, –∑–∞—Å–∞–∂–µ–Ω–Ω–∞—è —Ç–æ–ø–æ–ª—è–º–∏ –∏ –¥–µ–∫–æ—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω—ã–º–∏ –∫—É—Å—Ç–∞–º–∏. –í –Ω–µ–π —è –∏ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è.
–û—Ç—Å—é–¥–∞ –±—ã–ª —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –≤–∏–¥–µ–Ω –∏ –≤—Ö–æ–¥ –≤ –∑–¥–∞–Ω–∏–µ, –∏ –∂–∏–ª–æ–π –¥–æ–º. –ó–∞–¥—Ä–µ–º–∞—Ç—å –Ω–µ –¥–∞–≤–∞–ª–∏ —Å–ª–µ–ø–Ω–∏ –∏ –º—É—Ö–∏. –ê —Ç—É—Ç –µ—â–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –¥–≤–µ —Å–æ–±–∞–∫–∏. –î–≤–æ—Ä–Ω—è–≥–∞ –∏ –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –∫–∞–≤–∫–∞–∑–µ—Ü — –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Å–∫–∞—è –æ–≤—á–∞—Ä–∫–∞. –ú–æ–ª–æ–¥–æ–π –±–µ–≥–∞–ª –≤–æ–∫—Ä—É–≥ –¥–≤–æ—Ä–Ω—è–≥–∏ –ø–æ –ø–ª–æ—â–∞–¥–∫–µ –ø–µ—Ä–µ–¥ —Ü–µ—Ö–æ–º. –ü—ã—Ç–∞–ª—Å—è —É–∫—É—Å–∏—Ç—å, –∑–∞–∏–≥—Ä—ã–≤–∞—è. –Ø –Ω–µ —à–µ–≤–µ–ª–∏–ª—Å—è. –ò –≤—Å–µ –∂–µ, –æ–Ω–∏ –º–µ–Ω—è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª–∏. –û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ –ø–æ–¥–æ—à–ª–∏. –î–≤–æ—Ä–Ω—è–≥–∞ –ø—Ä–∏–Ω—é—Ö–∞–ª–∞—Å—å –∏ –ø–æ—à–ª–∞ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ, –∞ –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –∑–∞–ª–∞—è–ª. –í–æ—Ç –≥–∞–¥! –ö –Ω–µ–º—É –ø—Ä–∏—Å–æ–µ–¥–∏–Ω–∏–ª–∞—Å—å –∏ –¥–≤–æ—Ä–Ω—è–≥–∞. –î–µ–ª–æ –Ω–∞—á–∏–Ω–∞–ª–æ –ø–æ–ø–∞—Ö–∏–≤–∞—Ç—å –ø–æ–ª–Ω—ã–º –∫—Ä–∞—Ö–æ–º. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –≤—Å–∫–æ—á–∏–ª, —Å—Ö–≤–∞—Ç–∏–ª –∫–∞–º–µ–Ω—å — –∏ –ø—Ä—è–º–æ –≤ –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Ü–∞! –°–æ–±–∞–∫–∏ —Å –≤–æ–µ–º –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –∫ –¥–æ–º–∏–∫—É, –∞ —è —Å–æ —Å–≤–æ–∏–º–∏ –ø–æ–∂–∏—Ç–∫–∞–º–∏ — –≤–∑–ª–µ—Ç–µ–ª –ø–æ –ø–æ–∂–∞—Ä–Ω–æ–π –ª–µ—Å—Ç–Ω–∏—Ü–µ –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –∫—Ä—ã—à—É —Ü–µ—Ö–∞. –ö—Ä—ã—à–∞ –±—ã–ª–∞ –ø–ª–æ—Å–∫–æ–π —Å –ø–æ–ª—É–º–µ—Ç—Ä–æ–≤–æ–π –±–µ—Ç–æ–Ω–Ω–æ–π —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π –ø–æ –∫—Ä–∞—è–º. –í —Å—Ç–µ–Ω–∫–µ –±—ã–ª–∏ –¥—ã—Ä—ã –æ—Ç –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏—è —Å–Ω–∞—Ä—è–¥–æ–≤. –Ø –ø—Ä–∏—Å–µ–ª –∑–∞ —Å—Ç–µ–Ω–∫–æ–π –∏ –≤ –¥—ã—Ä–æ—á–∫—É —Ä–∞—Å—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –¥–æ–º–∏–∫. –ò–∑ –∫–∞–ª–∏—Ç–∫–∏ –≤–æ—Ä–æ—Ç –≤—ã—à–µ–ª —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü —Å –¥–≤—É—Å—Ç–≤–æ–ª–∫–æ–π. –®–∏–∫–Ω—É–ª –Ω–∞ —Å–æ–±–∞–∫ –∏ –ø–æ—à–µ–ª –ø–æ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—é –∫ —Ü–µ—Ö—É. –°–æ–±–∞–∫–∏ –∂–µ –ø—Ä—è–º–∏–∫–æ–º –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª–∏ –∫ –º–µ—Å—Ç—É, –≥–¥–µ —è –ª–µ–∂–∞–ª. –•–≤–æ—Å—Ç–∞–º–∏ –≤–∏–ª—è—é—Ç, —Å–≤–æ–ª–æ—á–∏! –ù–æ —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –¥–æ —Ü–µ—Ö–∞ —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –¥–æ—à–µ–ª. –û–Ω –ø–æ–¥–æ–∑–≤–∞–ª —Å–æ–±–∞–∫, –ø–∏–Ω–Ω—É–ª –º–æ–ª–æ–¥–æ–≥–æ –∫–∞–≤–∫–∞–∑—Ü–∞ —Ç–∞–∫, —á—Ç–æ —Ç–æ—Ç –≤–∑–≤—ã–ª, –∏ –ø–æ—à–µ–ª –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ. –ü–æ—Ç–æ–º –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è, –æ–≥–ª—è–¥–µ–ª—Å—è –∏ –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∏–ª –≤ –≤–æ–∑–¥—É—Ö –¥—É–ø–ª–µ—Ç–æ–º. –≠—Ö–æ –æ—Ç –≤—ã—Å—Ç—Ä–µ–ª–∞ —É—Ö–Ω—É–ª–æ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑.
–¢–∞–∫ –Ω–∞ –∫—Ä—ã—à–µ —è –∏ –æ—Å—Ç–∞–ª—Å—è. –í—Å—è –≤–æ–¥–∞ –∫ —Ç–æ–º—É –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏ –±—ã–ª–∞ –≤—ã–ø–∏—Ç–∞, —Å–æ–ª–Ω—Ü–µ –Ω–µ–º–∏–ª–æ—Å–µ—Ä–¥–Ω–æ –∂–∞—Ä–∏–ª–æ. –ü—Ä–æ –≥–æ–ª–æ–¥ –∏ –Ω–µ –≥–æ–≤–æ—Ä—é. –û–∫–æ–ª–æ —à–µ—Å—Ç–∏ –≤–µ—á–µ—Ä–∞ –æ–ø—è—Ç—å –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∞ –º–∞—à–∏–Ω–∞. –ì—Ä—É–∑–æ–≤–æ–π¬ÝJeep-Cherokee. –í—ã—à–µ–ª –∏ —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –∏–∑ –¥–æ–º–∏–∫–∞. –û–Ω–∏ –æ —á–µ–º-—Ç–æ –≥—Ä–æ–º–∫–æ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏–ª–∏. –°—É–¥—è –ø–æ –≤—Å–µ–º—É, —Å—Å–æ—Ä–∏–ª–∏—Å—å. –ù–∞ —ç—Ç–æ—Ç —Ä–∞–∑ –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –≥—Ä—É–∑–∏–ª–∏. –¢–µ –¥–≤–æ–µ, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏–µ—Ö–∞–ª–∏ –Ω–∞ –¥–∂–∏–ø–µ, –±—ã–ª–∏ —è–≤–Ω–æ —Ä–∞–∑–¥—Ä–∞–∂–µ–Ω—ã.
–° –∫—Ä—ã—à–∏ –æ—á–µ–Ω—å —Ö–æ—Ä–æ—à–æ –ø—Ä–æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª–æ—Å—å –æ–∑–µ—Ä–æ. –ì–æ–ª—É–±–æ–µ –Ω–µ–±–æ –æ—Ç—Ä–∞–∂–∞–ª–æ—Å—å –≤ –µ–≥–æ –∞–±—Å–æ–ª—é—Ç–Ω–æ –≥–ª–∞–¥–∫–æ–π –ø–æ–≤–µ—Ä—Ö–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ì–ª–∞–¥–∫–æ–π, –Ω–µ—Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –≤–µ—Ç–µ—Ä–æ–∫. –ö–∞–∫-—Ç–æ —è —Ç–æ–≥–¥–∞ –Ω–µ –ø—Ä–∏–¥–∞–ª —ç—Ç–æ–º—É –æ—Å–æ–±–æ–≥–æ –∑–Ω–∞—á–µ–Ω–∏—è. –ü—Ä–æ—à–ª–æ –µ—â–µ —Ç—Ä–∏ —á–∞—Å–∞ –º—É—á–µ–Ω–∏—è –∏ –ª—é–±–æ–≤–∞–Ω–∏—è –Ω–∞ –æ–∑–µ—Ä–Ω—É—é –≥–ª–∞–¥—å. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∞—Ö —è —Ä–µ—à–∏–ª—Å—è —Å–ø—É—Å—Ç–∏—Ç—å—Å—è —Å –∫—Ä—ã—à–∏. –ü–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –æ–±–æ–≥–Ω—É–≤ –¥–æ–º —Å —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–º –∏ —Å–æ–±–∞–∫–∞–º–∏, –ø—Ä–µ–¥–≤–∫—É—à–∞—è —Å–∫–æ—Ä–æ–µ —É—Ç–æ–ª–µ–Ω–∏–µ –∂–∞–∂–¥—ã, –≤—ã—à–µ–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∫ –æ–∑–µ—Ä—É. –ù–∞ —Å—Ç–∞—Ä–æ–º –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç–µ —Ä–∞—Å–ø–ª—ã–≤–∞–ª–∏—Å—å –º–Ω–æ–≥–æ—á–∏—Å–ª–µ–Ω–Ω—ã–µ –ª—É–∂–∏ –≥—É—Å—Ç–æ–≥–æ –º–∞–∑—É—Ç–∞. –ü–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ–µ –¥–µ–ª–æ — –≥–∞–∑–æ–ø–µ—Ä–µ—Ä–∞–±–∞—Ç—ã–≤–∞—é—â–∏–π –∑–∞–≤–æ–¥. –ê –≤–æ—Ç –∏ –æ–∑–µ—Ä–æ! –ü–æ–ª–Ω–æ–µ –æ–∑–µ—Ä–æ –≥—É—Å—Ç–æ–≥–æ, —á–µ—Ä–Ω–æ–≥–æ –º–∞–∑—É—Ç–∞. –Ý–æ–≤–Ω–µ–Ω—å–∫–æ–µ. –ù–∏–∫–∞–∫–æ–π –≤–µ—Ç–µ—Ä –µ–≥–æ –Ω–µ –≤–∑–≤–æ–ª–Ω—É–µ—Ç. –£ –º–µ–Ω—è –ø–æ–¥–∫–æ—Å–∏–ª–∏—Å—å –Ω–æ–≥–∏.
–î–æ—Ä–æ–≥–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, –º–Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤—Å–µ —Ä–∞–≤–Ω–æ. –Ø –¥–∞–∂–µ –∑–∞–±—ã–ª —Å–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è. –®–µ–ª –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –ø–æ–∫–∞—á–∏–≤–∞—è—Å—å. –°–∏–ª—ã –ø–æ–∫–∏–¥–∞–ª–∏ –º–µ–Ω—è. –í –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–µ –ª–µ–≤–µ–µ –∏ —á—É—Ç—å –ø–æ–∑–∞–¥–∏ —Å–≤–µ—Ç–∏–ª–∏—Å—å –æ–≥–æ–Ω—å–∫–∏ –¥–æ–º–∏–∫–∞ —Å —Å–æ–±–∞–∫–∞–º–∏. –ó–∞–∂–∏–≥–∞–ª–∏—Å—å –∑–≤–µ–∑–¥—ã. –û—Ç—ã—Å–∫–∞–ª —Å–æ–∑–≤–µ–∑–¥–∏–µ –ú–∞–ª–æ–π –ú–µ–¥–≤–µ–¥–∏—Ü—ã, –ü–æ–ª—è—Ä–Ω—É—é –∑–≤–µ–∑–¥—É, —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª —Å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –∏ –ø–æ—à–µ–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–µ —Å–µ–≤–µ—Ä. –ü–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É –¢–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞, –ø–æ —Å—Ç–µ—Ä–Ω–µ –∏ —Å–∫–≤–æ–∑—å —á–∞–ø—ã–∂–Ω–∏–∫. –ù–µ –ø–æ–º–Ω—é, –∫–∞–∫ —É–ø–∞–ª. –í—Å—Ç–∞–ª, –ø—Ä–æ–≤–µ—Ä–∏–ª, –µ—Å—Ç—å –ª–∏ –∑–∞ –ø–ª–µ—á–∞–º–∏ –º–µ—à–æ–∫ — –∏ –¥–∞–ª—å—à–µ. –û–ø—è—Ç—å –ø–∞–¥–∞–ª –∏ –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª. –û—Ç—ã—Å–∫–∏–≤–∞–ª –ü–æ–ª—è—Ä–Ω—É—é –∏ —É–ø–æ—Ä–Ω–æ —à–µ–ª –Ω–∞ —Å–µ–≤–µ—Ä. –ü–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Å—Ç–∞–ª –∫–æ—Ä—Ä–µ–∫—Ç–∏—Ä–æ–≤–∞—Ç—å –∫—É—Ä—Å. –®–µ–ª –ø–æ –∫–∞–∫–æ–π-—Ç–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ó–≤–µ–∑–¥ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ. –ü–∞–¥–∞–ª –∏ –≤—Å—Ç–∞–≤–∞–ª. –°–∫—É–∫–æ—Ç–∏—â–∞ –≤—Å–µ–ª–µ–Ω—Å–∫–∞—è.
23 –∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞. –°—É–±–±–æ—Ç–∞.¬Ý–ü—Ä–æ—Å–Ω—É–ª—Å—è –Ω–∞ —á—É—Ç—å-—Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–µ. –®–µ–ª –¥–æ–∂–¥—å. –í–µ—Ç–µ—Ä –Ω–µ –ø–æ–∑–≤–æ–ª—è–ª —Å–æ–≥—Ä–µ—Ç—å—Å—è. –Ø –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è, –Ω–æ –æ—Ç–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ. –°–ª–∏—à–∫–æ–º –æ—Å–ª–∞–±. –í—ã—Ç–∞—â–∏–ª –∫—É—Å–æ–∫ –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∞. –£–∫—Ä—ã–ª—Å—è, –Ω–æ –º–Ω–æ–≥–∏–º –ª—É—á—à–µ –Ω–µ —Å—Ç–∞–ª–æ. –¢–µ–ª–æ –Ω–µ —Å–æ–≥—Ä–µ–≤–∞–ª–æ—Å—å. –ò–∑ —Ç–µ–ø–ª–æ–∫—Ä–æ–≤–Ω–æ–≥–æ —è –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –≤ –∑–µ–º–Ω–æ–≤–æ–¥–Ω—É—é —Ç–≤–∞—Ä—å. –û–±–∏–¥–Ω–æ. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –ø–æ–¥—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å —Ä–æ—Ç –ø–æ–¥ –¥–æ–∂–¥—å. –ù–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ —Ä–µ–∑—É–ª—å—Ç–∞—Ç–∞. –ë–∞—à–∫–∞ –æ—Ç–∫–∞–∑—ã–≤–∞–ª–∞—Å—å —Å–æ–æ–±—Ä–∞–∂–∞—Ç—å. –ò —Ç—É—Ç –º–Ω–µ –∑–∞ —à–∏–≤–æ—Ä–æ—Ç –ø—Ä–æ–ª–∏–ª–∞—Å—å —Å—Ç—Ä—É–π–∫–∞ –≤–æ–¥—ã —Å –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–∞. –ü–ª–æ—Ö–æ –±—ã—Ç—å –±–µ—Å—Ç–æ–ª–∫–æ–≤—ã–º, –¥–∞–∂–µ —Å–æ —Å–∫–∏–¥–∫–æ–π –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–¥. –ò–∑ –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç–æ–≤–æ–π —à–∞–ø–æ—á–∫–∏ —Å–¥–µ–ª–∞–ª –ø–æ–¥–æ–±–∏–µ –∫—É–ª–µ—á–∫–∞. –Ý—è–¥–æ–º —Ä–∞—Å—Å—Ç–µ–ª–∏–ª —Å–∞–º –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç –∏ –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª—è–ª —Å—Ç—Ä—É–π–∫–∏ –≤–æ–¥—ã –≤ —à–∞–ø–æ—á–∫—É. –£–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ 20 –º–∏–Ω—É—Ç —è —É—Ç–æ–ª–∏–ª –∂–∞–∂–¥—É. –ñ–∏—Ç—å —Å—Ç–∞–ª–æ –≤–µ—Å–µ–ª–µ–µ. –ê –µ—â–µ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –≤–¥–æ–ª—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –ø—Ä–æ–∏–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞—é—Ç –æ—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –∫–æ–ª–æ—Å—å—è –∫—É–ª—å—Ç—É—Ä–Ω—ã—Ö –∑–ª–∞–∫–æ–≤. –ü–æ—Å–ª–µ —à–µ–ª—É—à–µ–Ω–∏—è –∫–æ–ª–æ—Å–∞ –≤ –ª–∞–¥–æ–Ω–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–∏—Å—å –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –∑–µ—Ä–µ–Ω. –û—á–µ–Ω—å –¥–∞–∂–µ —Å—ä–µ–¥–æ–±–Ω–æ. –í–∏–¥–∏–º–æ, –ø–æ —ç—Ç–æ–π –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∫–æ–≥–¥–∞-—Ç–æ –≤–µ–∑–ª–∏ –≤ –º–∞—à–∏–Ω–∞—Ö –∑–µ—Ä–Ω–æ. –û–Ω–æ –≤—ã—Å—ã–ø–∞–ª–æ—Å—å –∏–∑ –∫—É–∑–æ–≤–∞ –∏, –Ω–∞—Ç—É—Ä–∞–ª—å–Ω–æ, –ø—Ä–æ–∏–∑—Ä–∞—Å—Ç–∞–ª–æ. –ó–Ω–∞—á–∏—Ç, –±—É–¥–µ–º –∂–∏—Ç—å.
–ú–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –±—ã–ª–∞ –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω–∞—è. –Ø —Ä–µ—à–∏–ª –∏–¥—Ç–∏ –¥–Ω–µ–º. –ò –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –¢–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ —ç–∫–æ–Ω–æ–º–∏—Ç—å —Å–∏–ª—ã. –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∞ –≤–ø—Ä–∞–≤–æ –∏ –≤–≤–µ—Ä—Ö — –Ω–∞ –¢–µ—Ä—Å–∫–∏–π —Ö—Ä–µ–±–µ—Ç. –ú–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –≤–æ–∫—Ä—É–≥ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–∞—Å—å –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –≥–æ—Ä–∏—Å—Ç–æ–π. –ü–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–Ω–æ –ø—Ä–∏—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –º–µ—Å—Ç–∞ –¥–ª—è —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã —Å–ø—Ä—è—Ç–∞—Ç—å—Å—è, –≤ —Å–ª—É—á–∞–µ –ø–æ—è–≤–ª–µ–Ω–∏—è –ª—é–¥–µ–π. –ö–æ–ª–æ—Å–∫–∏ –∑–ª–∞–∫–æ–≤—ã—Ö –ø–æ–ø–∞–¥–∞–ª–∏—Å—å –≤–¥–æ–ª—å –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –ø–æ–≤—Å–µ–º–µ—Å—Ç–Ω–æ. –ü—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∞ –≥—Ä–µ–±–Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–≤–∞–ª–∞ –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –¥–æ–º–∞. –°—Ä–∞–∑—É –∂–µ —Å–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –≤–ª–µ–≤–æ, –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≥–æ—Ä–æ–∫. –°–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –≤ –∫—É—Å—Ç–∞—Ö. –û—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª—Å—è –∏ –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ —Å–µ–ª–æ –Ω–∞–¥–æ –æ–±—Ö–æ–¥–∏—Ç—å —Å –∑–∞–ø–∞–¥–∞. –ù—É, –∏ –ø–æ—à–µ–ª –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥. –ù–æ –±–µ–∑ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –≤—ã–±–∏–ª—Å—è –∏–∑ —Å–∏–ª. –°–µ–ª –ø–æ–¥ –∫—É—Å—Ç–∏–∫–æ–º –æ—Ç–¥–æ—Ö–Ω—É—Ç—å.
–°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –∏–∑-–∑–∞ –≥–æ—Ä–∫–∏, –º–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤—Å–µ–≥–æ –≤ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏, –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –¥–≤–∞ –±–∞—Ä–∞–Ω–∞. –ê —è –¥–∞–∂–µ –∏ –Ω–µ –æ—Ç—Ä–µ–∞–≥–∏—Ä–æ–≤–∞–ª. –ó—Ä—è. –°–ª–µ–¥–æ–º –∑–∞ –Ω–∏–º–∏ –Ω–∞ –ª–æ—à–∞–¥–∏ — –º–æ–ª–æ–¥–æ–π –ø–∞—Ä–µ–Ω—å. –ß–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, –µ—Å—Ç–µ—Å—Ç–≤–µ–Ω–Ω–æ. –û–Ω –º–µ–Ω—è —Å—Ä–∞–∑—É —É–≤–∏–¥–µ–ª. –ó–Ω–∞–∫–æ–º—ã–º –ø—É—Ç–µ–º –¥—É—à–∞ —É–±–µ–∂–∞–ª–∞ –≤ –ø—è—Ç–∫–∏. –Ø –≤—Å—Ç–∞–ª. –ß–µ—á–µ–Ω–µ—Ü –ø–æ–¥—ä–µ—Ö–∞–ª –∫–æ –º–Ω–µ.
— –°–∞–ª—è–º –∞–ª–µ–π–∫—É–º, — –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å —è –Ω–µ–≤–µ—Å–µ–ª–æ.
— –ê–ª–µ–π–∫—É–º –∞—Å—Å–∞–ª—è–º, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü, –ø–æ–∫–æ—Å–∏–≤—à–∏—Å—å –Ω–∞ —Ç–æ–ø–æ—Ä, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —è —É–∂–µ –¥–µ—Ä–∂–∞–ª –≤ –ø—Ä–∞–≤–æ–π —Ä—É–∫–µ. — –¢—ã –∫—Ç–æ?
–û –ª–µ–≥–µ–Ω–¥–µ —è –ø–æ–∑–∞–±–æ—Ç–∏–ª—Å—è –∑–∞—Ä–∞–Ω–µ–µ, –ø–æ—ç—Ç–æ–º—É –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —Å—Ä–∞–∑—É.
— –í–æ—Ç, — –≥–æ–≤–æ—Ä—é, — –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –Ω–∞ –≤–æ–ª—é. –ë—ã–ª –∑–∞–ª–æ–∂–Ω–∏–∫–æ–º.
— –ê, —Ç—ã, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —Å –º–æ–ª–æ–∫–æ–∑–∞–≤–æ–¥–∞? — —Å–≤–æ–∏–º –≤–æ–ø—Ä–æ—Å–æ–º –æ–Ω –æ–±–ª–µ–≥—á–∏–ª –º–Ω–µ –∂–∏–∑–Ω—å.
— –î–∞, — –≥–æ–≤–æ—Ä—é, — –ø–æ—Å–∞–¥–∏–ª–∏ –≤ –º–∞—à–∏–Ω—É –∏ –≤—ã–∫–∏–Ω—É–ª–∏ –Ω–æ—á—å—é –≤ —Å—Ç–µ–ø–∏. –í–æ—Ç –∏–¥—É –≤ –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫—É—é.
— –û–Ω–∏ –æ–±—ã—á–Ω–æ —Ö–æ—Ç—å –¥–µ–Ω–µ–≥ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ –¥–∞—é—Ç —Ç–∞–∫–∏–º, –∫–∞–∫ —Ç—ã.
— –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –¥–∞–ª–∏, — –≥–æ–≤–æ—Ä—é.
— –ú–æ–∂–µ—Ç, —Ç–µ–±–µ —á—Ç–æ –Ω–∞–¥–æ? –ù–µ –≥–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–π?
— –ù–µ—Ç, —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ, — —Ç–æ—Ä–æ–ø–ª–∏–≤–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –ó–∞–∫—É—Ä–∏—Ç—å —É —Ç–µ–±—è –µ—Å—Ç—å?
— –ï—Å—Ç—å, –Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–∞ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç–∞. –û—Ç–µ—Ü —Å–µ—á–µ—Ç –∑–∞ –º–Ω–æ–π, –Ω–µ —Ä–∞–∑—Ä–µ—à–∞–µ—Ç –∫—É—Ä–∏—Ç—å. –î–∞–≤–∞–π –≤–º–µ—Å—Ç–µ –ø–æ–∫—É—Ä–∏–º.
— –î–∞–≤–∞–π, — —è –ø–æ–¥—É–º–∞–ª –æ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ —É–∂–µ –∏ –∑–∞–±—ã–ª –≤–∫—É—Å —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç.
–û–Ω –≤—ã—Ç–∞—â–∏–ª –ø–æ–º—è—Ç—É—é —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É «–ü—Ä–∏–º–∞». –ó–∞–∫—É—Ä–∏–ª.
— –¢—ã –∫—É—Ä–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è. — –û—Å—Ç–∞–≤–∏—à—å –º–Ω–µ –Ω–µ–º–Ω–æ–≥–æ.
–ü–∞—Ä–µ–Ω—å –∫–∏–≤–Ω—É–ª.
— –ú–µ–Ω—è –∑–∞–±–∏—Ä–∞–ª–∏ –≤ –ß–µ—Ä–Ω–æ–∫–æ–∑–æ–≤–æ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –æ–Ω. — –ü—Ä–æ—Å–∏–¥–µ–ª —Ç–∞–º 10 –¥–Ω–µ–π.
— –ß–µ—Ä–Ω–æ–∫–æ–∑–æ–≤–æ —ç—Ç–æ —Ñ–∏–ª—å—Ç—Ä–∞—Ü–∏–æ–Ω–Ω—ã–π –ª–∞–≥–µ—Ä—å? — –°–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è, —Ö–æ—Ç—è –±—ã–ª –¥–æ—Å—Ç–∞—Ç–æ—á–Ω–æ –æ—Å–≤–µ–¥–æ–º–ª–µ–Ω –æ —á–µ—Ä–Ω–æ–∫–æ–∑–æ–≤—Å–∫–æ–º –±–µ—Å–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–µ.
— –î–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –æ–Ω. — –£—Å–ª–æ–≤–∏—è —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω—ã–µ –∏ —Å–≤–∏—Ä–µ–ø–∞—è –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∞.
— –ù–∞ —Ç–æ –æ–Ω–∞ –∏ –æ—Ö—Ä–∞–Ω–∞, — –ø–æ–¥–¥–∞–∫–Ω—É–ª —è.
–û–Ω —Å—É–Ω—É–ª –º–Ω–µ –±—ã—á–æ–∫. –ü—Ä–∏–º–∞ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –ø–æ–≥–∞–Ω–æ–π. –ö–∏—Å–ª—è—Ç–∏–Ω–∞ –∫–∞–∫–∞—è-—Ç–æ.
— –ö—É–¥–∞ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å –ø–æ–π–¥–µ—à—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ø–∞—Å—Ç—É—Ö.
–Ø –ø–æ–∂–∞–ª –ø–ª–µ—á–∞–º–∏.
— –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, –≤ –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫—É—é.
— –ü—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ, —Ç–∞–º –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã –≤—ã–¥–∞—é—Ç.
— –ù—É, –ª–∞–¥–Ω–æ, —è –ø–æ–π–¥—É. –°–ø–∞—Å–∏–±–æ –∑–∞ —Å–∏–≥–∞—Ä–µ—Ç—É.
— –î–∞–≤–∞–π, — –ø–∞—Å—Ç—É—Ö –≤—Å–ø—Ä—ã–≥–Ω—É–ª –Ω–∞ –ª–æ—à–∞–¥—å.
–Ø –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –≤–Ω–∏–∑ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É, –∞ –æ–Ω –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–∏–ª –ª–æ—à–∞–¥—å –∫ —Å—Ç–∞–¥—É. –ö–æ–≥–¥–∞ –ø–∞—Å—Ç—É—à–æ–∫ —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è –∑–∞ –≥–æ—Ä–∫–æ–π, —è —Ç–∞–∫ —Ä–≤–∞–Ω—É–ª –∫ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–π —Ä–æ—â–∏—Ü–µ, —á—Ç–æ –¥–≤–∞–∂–¥—ã –ø–∞–¥–∞–ª, –ø–µ—Ä–µ–∫–∞—Ç—ã–≤–∞–ª—Å—è, —Å–æ–¥—Ä–∞–ª –∫–æ–ª–µ–Ω–∫—É.
–Ø –Ω–µ –º–æ–≥ –∑–Ω–∞—Ç—å –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞, —á—Ç–æ –±—ã–ª–æ —É –ø–∞—Å—Ç—É—Ö–∞ –Ω–∞ —É–º–µ. –Ý–∞–≤–Ω–æ–≤–µ—Ä–æ—è—Ç–Ω–æ –æ–Ω –º–æ–≥ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –¥–µ–ª–∞—Ç—å –∏ –º–æ–≥ —Å–æ–æ–±—â–∏—Ç—å –æ–±–æ –º–Ω–µ –≤ —Å–µ–ª–æ. –ê –≤ —Å–µ–ª–µ –º–æ–≥–ª–∏ –∑–Ω–∞—Ç—å –æ –º–æ–µ–º –ø–æ–±–µ–≥–µ. –ù–∞–≤–µ—Ä–Ω—è–∫–∞ —Ö–æ—Ç—å –æ–¥–∏–Ω, –Ω–æ —Å–≤—è–∑–∞–Ω —Å —Å–∞–º–∞—à–∫–∏–Ω—Å–∫–∏–º–∏ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º–∏. –ú–æ–≥–ª–∏ –∑–∞–±—Ä–∞—Ç—å –∏ –ø—Ä–æ–¥–∞—Ç—å –∏–º –ø–æ —Å—Ö–æ–¥–Ω–æ–π —Ü–µ–Ω–µ, —á—Ç–æ —É–∂–µ –±—ã–ª–æ –≤ —Å–µ–Ω—Ç—è–±—Ä–µ 1999 –≥–æ–¥–∞. –ú–æ–≥–ª–∏ –æ—Å—Ç–∞–≤–∏—Ç—å –≤ —Ä–∞–±—Å—Ç–≤–µ —É —Å–µ–±—è.
–û—Å—Ç–∞–≤–∞—è—Å—å –≤ —Ä–æ—â–∏—Ü–µ, —è —Å —É–∂–∞—Å–æ–º –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –¥–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ —Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ê –¥–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–ª–µ—Å–∫–∞, —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ –¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç —Å–µ–ª–∞, –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä–µ—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –ø–æ –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–º—É —Å–∫–ª–æ–Ω—É. –Ø —Ä–µ—à–∏–ª –∏–¥—Ç–∏ –ø–æ —Å–∫–ª–æ–Ω—É.
–°–º–µ—Ä–∫–∞–ª–æ—Å—å.
–î–æ –ø–µ—Ä–µ–ª–µ—Å–∫–∞ —è —Ç–∞–∫ –∏ –Ω–µ –¥–æ—à–µ–ª. –ö–∞–∫ —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Å–µ–ª–æ —Å–∫—Ä—ã–ª–æ—Å—å –∑–∞ –≤—ã–ø—É–∫–ª–æ—Å—Ç—å—é —Å–∫–ª–æ–Ω–∞, —è –ø–æ—à–µ–ª —Ä–µ–∑–∫–æ –≤–Ω–∏–∑, –≤ –¥–æ–ª–∏–Ω—É. –¢–∞–º —Ä–æ—Å –Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–∏–π –±–æ–ª—å—à–æ–π –ª–µ—Å, —Å–∫—Ä—ã—Ç—å—Å—è –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–º –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ø—Ä–æ—â–µ.
–í–¥–æ–ª—å –ª–µ—Å–∞ —à–ª–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –æ—Ç —Å–µ–ª–∞. –ö–∞–∫ —Ä–∞–∑ –≤ —Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ, –∫—É–¥–∞ —è —Å–ø—É—Å–∫–∞–ª—Å—è, –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —É—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –≤ –ª–µ—Å. –ö–æ–≥–¥–∞ —è –¥–æ—à–µ–ª –¥–æ —ç—Ç–æ–≥–æ –º–µ—Å—Ç–∞, —Å—Ç–∞–ª–æ —Å–æ–≤—Å–µ–º —Ç–µ–º–Ω–æ. –ü–æ—à–µ–ª –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü-—Ç–æ —É–¥–∞–ª–æ—Å—å —Ä–∞—Å—Å–ª–∞–±–∏—Ç—å—Å—è. –û—Ç –Ω–∞–ø—Ä—è–∂–µ–Ω–∏—è –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–∏—Ö —á–∞—Å–æ–≤ –ø–æ—Ç—Ä—è—Å—ã–≤–∞–ª–æ. –Ø –∑–∞–±—ã–ª –æ –∂–∞–∂–¥–µ –∏ –æ –≥–æ–ª–æ–¥–µ. –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —Ç–æ–≥–¥–∞ —è –∑–∞–±—ã–ª –∏ –æ–± –æ—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ—Å—Ç–∏. –ù–µ –ø—Ä–æ—à–µ–ª —è –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∏ —Ç—Ä–µ—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∫–∞–∫ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞ –º–µ–Ω—è –æ–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª–∏.
–Ø –ø–æ–≤–µ—Ä–Ω—É–ª—Å—è. –ú–µ—Ç—Ä–∞—Ö –≤ —Å–æ—Ä–æ–∫–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª–µ —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –ø–æ–≤–æ–∑–∫–∞ —Å –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º–∏ –±–æ—Ä—Ç–∞–º–∏. –í –Ω–µ–π —Å–∏–¥–µ–ª–∏ –¥–≤–æ–µ —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤. –ß–µ—Ä—Ç! –Ø –¥–æ—Å—Ç–∞–ª –∏–∑ —Ä—é–∫–∑–∞–∫–∞ —Ç–æ–ø–æ—Ä.
— –≠–π, — –∫—Ä–∏–∫–Ω—É–ª –º–Ω–µ –æ–¥–∏–Ω –∏–∑ –Ω–∏—Ö, — –∑–∞—á–µ–º —Ç–æ–ø–æ—Ä? –ò–¥–∏ —Å—é–¥–∞! –ö—É—à–∞—Ç—å —Ö–æ—á–µ—à—å?
–ü–æ –æ–¥–Ω–æ–º—É –º–æ–µ–º—É –≤–∏–¥—É –±—ã–ª–æ –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, —á—Ç–æ –∫—É—à–∞—Ç—å —è —Ö–æ—á—É –≤—Å–µ–≥–¥–∞.
— –ê –≤—ã –º–µ–Ω—è –Ω–µ —Å–¥–∞–¥–∏—Ç–µ? — –Ω—É, —á—Ç–æ —è –µ—â–µ –º–æ–≥ —Å–ø—Ä–æ—Å–∏—Ç—å?
— –ê–π, –∑–∞—á–µ–º —Ç–∞–∫ –≥–æ–≤–æ—Ä–∏—à—å! — –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü —Ç–æ–∂–µ –≤—Å—Ç–∞–ª. — –ú—ã —É–∂–∏–Ω–∞–µ–º. –ü–æ–¥—Ö–æ–¥–∏ –∏ —É–∂–∏–Ω–∞–π –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –Ω–∞–º–∏. –ú—ã –µ—â–µ —Ç–µ–±–µ —Ö–ª–µ–±–∞ –≤ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –¥–∞–¥–∏–º.
–û—Å—Ç–æ—Ä–æ–∂–Ω–æ, –∫–∞–∂–¥–æ–µ –º–≥–Ω–æ–≤–µ–Ω–∏–µ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã–π –±–µ–∂–∞—Ç—å, —è –ø—Ä–∏–±–ª–∏–∂–∞–ª—Å—è –∫ –ø–æ–≤–æ–∑–∫–µ.
— –ê —á—Ç–æ –≤—ã –∑–¥–µ—Å—å –¥–µ–ª–∞–µ—Ç–µ? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è —á–µ—á–µ–Ω—Ü–µ–≤.
— –ù–∞ –±–∞—Ä–∏–Ω–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞–µ–º, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å —è –º–æ–≥ –∏—Ö —Ä–∞–∑–ª–∏—á–∞—Ç—å. –í—Ç–æ—Ä–æ–π –±—ã–ª –±–µ–∑ –±–æ—Ä–æ–¥—ã, –ª—ã—Å—ã–π –∏ —Å–µ–¥–æ–π.
— –ù–∞–µ–º–Ω—ã–µ —Ä–∞–±–æ—Ç–Ω–∏–∫–∏ –º—ã, — –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π. — –ó–∞–≤—Ç—Ä–∞ –¥–æ–∫–æ—Å–∏–º —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫, —Ö–æ–∑—è–∏–Ω –¥–µ–Ω—å–≥–∏ –¥–∞—Å—Ç.
— –°–≤–æ–µ–≥–æ –Ω–µ –Ω–∞–∂–∏–ª–∏, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –ª—ã—Å—ã–π. — –ü—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏—Ç—Å—è –Ω–∞ —á—É–∂–æ–π –∑–µ–º–ª–µ —Å–ø–∏–Ω—É –≥–Ω—É—Ç—å. –¢—ã –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏, –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏ —Å—é–¥–∞, –º–∏–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫.
–Ø –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–Ω—è–ª—Å—è –Ω–∞ –ø–æ–≤–æ–∑–∫—É. –ü–æ –±–æ–∫–∞–º —É –±–æ—Ä—Ç–∏–∫–∞ –±—ã–ª–∏ –æ–±–æ—Ä—É–¥–æ–≤–∞–Ω—ã —Å–∫–∞–º–µ–π–∫–∏, –≤ —Ü–µ–Ω—Ç—Ä–µ — –Ω–µ–±–æ–ª—å—à–æ–π —Å—Ç–æ–ª–∏–∫. –ù–∞ –Ω–µ–º —Ö–ª–µ–±, –∑–µ–ª–µ–Ω—ã–π –ª—É–∫, –¥–æ–º–∞—à–Ω–∏–π —Å—ã—Ä — –±—Ä—ã–Ω–∑–∞, –ø–æ-–Ω–∞—à–µ–º—É. –Ø –ø—Ä–∏—Å–µ–ª –Ω–∞ —Å–∫–∞–º–µ–π–∫—É. –¢–æ–ø–æ—Ä –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª –ø–æ–¥ –ø—Ä–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É.
— –û—Ç–∫—É–¥–∞ –∏–¥–µ—à—å, —Ç–∞–∫–æ–π –∫—Ä–∞—Å–∏–≤—ã–π, — —É–ª—ã–±–∞—è—Å—å, —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π.
— –û—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª–∏ –º–µ–Ω—è —Å –º–æ–ª–æ–∫–æ–∑–∞–≤–æ–¥–∞, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. — –í—ã–≤–µ–∑–ª–∏ –≤ —Å—Ç–µ–ø—å –∏ –±—Ä–æ—Å–∏–ª–∏.
— –ê —Ç—ã, —Å–ª—É—á–∞–µ–º, –Ω–µ —Å–æ–ª–¥–∞—Ç? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π.
— –¢—ã –µ–º—É –Ω–∞ –ª–∏—Ü–æ –ø–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–∏, —Å–ª—É—à–∞–π, —ç, — –Ω–µ –¥–∞–≤ –º–Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏—Ç—å, –ø—Ä–æ–∏–∑–Ω–µ—Å –ª—ã—Å—ã–π. — –ù—É, –∫–∞–∫–æ–π –æ–Ω —Å–æ–ª–¥–∞—Ç? –°–∫–æ–ª—å–∫–æ –≥–æ–¥–∫–æ–≤-—Ç–æ —Ç–µ–±–µ, —É–≤–∞–∂–∞–µ–º—ã–π?
— –°–æ—Ä–æ–∫ —à–µ—Å—Ç—å, — –Ω–µ —Å–æ–≤—Ä–∞–≤, –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è. –ê —Å–∞–º –ø—Ä–æ —Å–µ–±—è –ø–æ–¥—É–º–∞–ª: «–°–æ—Ä–æ–∫ —à–µ—Å—Ç—å!!!»
— –í–∞–π! — –≤–æ—Å–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π. — –ë–æ–ª—å—à–µ, —á–µ–º –º–Ω–µ!
— –ú–∞–ª—å—á–∏—à–¨–∫–∞, — —É—Å–º–µ—Ö–Ω—É–ª—Å—è –ª—ã—Å—ã–π. — –¢—ã –∫—É—à–∞–π, –∫—É—à–∞–π, –º–∏–ª —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫. –ö–∞–∫ –∑–æ–≤—É—Ç-—Ç–æ?
— –í–∏–∫—Ç–æ—Ä, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è, —É–∂–µ —É–º–∏–Ω–∞—è —Å–æ—á–Ω—ã–π —Å—ã—Ä —Å –ª—É–∫–æ–º.
–û—Ç –¥–æ–ª–≥–æ–≥–æ –≥–æ–ª–æ–¥–∞–Ω–∏—è —Å–≤–µ–ª–æ —Å–∫—É–ª—ã.
— –í–æ—Ç –ø–µ–π –∫–≤–∞—Å, — –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π –ø–æ–¥–æ–¥–≤–∏–Ω—É–ª –∫–æ –º–Ω–µ –∞–ª—é–º–∏–Ω–∏–µ–≤—É—é –∫—Ä—É–∂–∫—É –∏ –Ω–∞–ª–∏–ª —Ç—É–¥–∞ –∫–≤–∞—Å—É.
–ö–≤–∞—Å –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è — —Ç–∞–∫ —Å–µ–±–µ. –°–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ —è–¥—Ä–µ–Ω—ã–π –∏ —Ç–µ–ø–ª—ã–π. –ù–µ —Å–º–æ—Ç—Ä—è –Ω–∞ –≥–æ–ª–æ–¥, —è —Å–µ–π—á–∞—Ŭݗ֖æ—Ç–µ–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ –æ–¥–Ω–æ–≥–æ — –æ–∫–∞–∑–∞—Ç—å—Å—è¬Ý–ø–æ–¥–∞–ª—å—à–µ –æ—Ç —ç—Ç–∏—Ö, —Å–∫–æ—Ä–µ–µ –≤—Å–µ–≥–æ, –¥–æ–±—Ä—ã—Ö –ª—é–¥–µ–π.
— –ö—É–¥–∞ –ø–æ–π–¥–µ—à—å —Ç–µ–ø–µ—Ä—å? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª –ª—ã—Å—ã–π.
— –ü–æ–π–¥—É –≤ –°—Ç–∞–≤—Ä–æ–ø–æ–ª—å, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —è.
— –≠, –¥–æ –°—Ç–∞–≤—Ä–æ–ø–æ–ª—è –Ω–µ –¥–æ–π–¥–µ—à—å, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π. — –î–æ –°—Ç–∞–≤—Ä–æ–ø–æ–ª—è –¥–∞–ª–µ–∫–æ, –∞ –±–µ–∑ –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç–æ–≤ —Ç–µ–±—è –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∑–∞–±–µ—Ä—É—Ç.
— –ù–µ –∑–∞–±–µ—Ä—É—Ç, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è.
— –¢—ã –ª—É—á—à–µ –∏–¥–∏ –≤ –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫—É—é, — –Ω–∞–ø—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è –ª—ã—Å—ã–π. — –¢–∞–º –ø–æ–ª—É—á–∏—à—å –¥–æ–∫—É–º–µ–Ω—Ç—ã, –¥–∞ –∏ –¥–µ–Ω–µ–≥ –¥–∞–¥—É—Ç –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É.
— –î–∞, —Ö–æ—Ä–æ—à–æ, —Å–ø–∞—Å–∏–±–æ, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞—é —è. — –ö–∞–∫ –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –ª—É—á—à–µ –≤—Å–µ–≥–æ –≤—ã–π—Ç–∏ –∫ –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫–æ–π?
— –ê –≤–æ—Ç —Ç–∞–∫ –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ –∏ –∏–¥–∏, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª –ª—ã—Å—ã–π. — –î–æ—Ä–æ–≥–∞ –¥–∞–ª—å—à–µ –≤–¥–æ–ª—å —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞ –ø–æ–π–¥–µ—Ç. –ö–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –±—É–¥–µ—Ç –±–æ–ª—å—à–æ–π –¥–æ–º. –¢—ã –µ–≥–æ –æ–±–æ–π–¥–∏ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–æ–π. –ê –µ—â–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –≤—ã–≤–µ–¥–µ—Ç —Ç–µ–±—è –ø—Ä—è–º–æ –∫ –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫–æ–π.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å —è –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–∞–≤–ª—è–ª —Å–µ–±–µ —Ç–æ—á–Ω–æ, –≥–¥–µ –Ω–∞—Ö–æ–∂—É—Å—å.
— –î–∞, — –ø–µ—á–∞–ª—å–Ω–æ —Å–∫–∞–∑–∞–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π. — –¢–∞–º –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–µ –≤—Å–µ–º –µ—Å—Ç—å —Ä–∞–±–æ—Ç–∞. –í—Å–µ –¥–µ–Ω—å–≥–∏ —Å–µ–π—á–∞—Å —Ç–∞–º.
— –¢–∞–∫, —á—Ç–æ –∂–µ –≤—ã –Ω–µ –∏–¥–µ—Ç–µ –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω—É? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è.
–ë–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π —Ö–æ—Ç–µ–ª —á—Ç–æ-—Ç–æ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏—Ç—å, –Ω–æ –ª—ã—Å—ã–π –µ–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª:
— –ú—ã –ª—é–¥–∏ –Ω–∞–µ–º–Ω—ã–µ. –î–ª—è –Ω–∞—Å –≤—Å–µ–≥–¥–∞ —Ä–∞–±–æ—Ç–∞ –µ—Å—Ç—å. –ê –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–µ, — –æ–Ω –ø–æ—á–µ—Å–∞–ª –∑–∞—Ç—ã–ª–æ–∫, — –í–æ—Ç —É–π–¥—É—Ç —Ä—É—Å—Å–∫–∏–µ, –ø—Ä–∏–¥—É—Ç –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –≤—Å–µ –ø–æ–¥ —Å–µ–±—è –ø–æ–¥–æ–º–Ω—É—Ç. –ú—ã —É–∂, —Ç—É—Ç –∫–∞–∫-–Ω–∏–±—É–¥—å…
— –°–ø–∞—Å–∏–±–æ –≤–∞–º, –¥–æ–±—Ä—ã–µ –ª—é–¥–∏, — —è –≤—Å—Ç–∞–ª.
–ë–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π —Å—É–Ω—É–ª –º–Ω–µ –≤ –º–µ—à–æ–∫ –ø–æ–ª–±—É—Ö–∞–Ω–∫–∏ —Ö–ª–µ–±–∞ –∏ –±—É—Ç—ã–ª–∫—É —Å –∫–≤–∞—Å–æ–º. –Ø –ø–æ–¥–Ω—è–ª —Å–æ —Å–∫–∞–º–µ–π–∫–∏ —Ç–æ–ø–æ—Ä –∏ –¥–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ —Å—É–Ω—É–ª –µ–≥–æ —Ç—É–¥–∞ –∂–µ.
— –°–º–æ—Ç—Ä–∏, –Ω–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∏ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –∫ –±–∞–Ω–¥–∏—Ç–∞–º, — –Ω–∞–ø—É—Ç—Å—Ç–≤–æ–≤–∞–ª –º–µ–Ω—è –ª—ã—Å—ã–π, –∫–æ–≥–¥–∞ —è —É–∂–µ –æ—Ç—Ö–æ–¥–∏–ª –æ—Ç –ø–æ–≤–æ–∑–∫–∏.
— –ê –Ω–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–µ –µ—Å—Ç—å –±–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã? — —Å–ø—Ä–æ—Å–∏–ª —è, –æ–±–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—è—Å—å.
— –ë–∞–Ω–¥–∏—Ç—ã –≤–µ–∑–¥–µ –µ—Å—Ç—å, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª –±–æ—Ä–æ–¥–∞—Ç—ã–π.
–û—Ç–æ–π–¥—è –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –Ω–∞ —Å—Ç–æ –æ—Ç –ø–æ–≤–æ–∑–∫–∏, —è –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –ø–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ë–µ–∂–∞–ª —Ç—è–∂–µ–ª–æ. –ö–æ–ª–µ–∏ –±—ã–ª–∏ –≥–ª—É–±–æ–∫–∏–º–∏, –º–æ–∫—Ä—ã–º–∏. –ú–µ—Å—Ç–∞–º–∏ —è —à–ª–µ–ø–∞–ª –ø–æ –ª—É–∂–∞–º, –æ—Å–∫–∞–ª—å–∑—ã–≤–∞—è—Å—å. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–µ—Å—è—Ç—å –ø–µ—Ä–µ—à–µ–ª –Ω–∞ —à–∞–≥. –û—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è. –ü—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è. –¢–∏—à–∏–Ω–∞, –Ω–µ —Å—á–∏—Ç–∞—è –Ω–æ—á–Ω—ã—Ö –∑–≤—É–∫–æ–≤ –ª–µ—Å–∞.
–í–æ—Ç —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —è –ø–æ-–Ω–∞—Å—Ç–æ—è—â–µ–º—É –∑–∞—Ö–æ—Ç–µ–ª –µ—Å—Ç—å. –•–ª–µ–± –∏ –∫–≤–∞—Å –ø—Ä–∏–∫–æ–Ω—á–∏–ª –≤ –¥–≤–µ –º–∏–Ω—É—Ç—ã. –ò–¥—Ç–∏ —Å—Ç–∞–ª–æ –≤–µ—Å–µ–ª–µ–π. –î–æ–ª–∏–Ω–Ω–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ —É–∂–µ –≤–µ–ª–∞ –Ω–∞ –∑–∞–ø–∞–¥ –≤–¥–æ–ª—å –¢–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞. –Ø –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —Ä–∞–∑ –ø–æ—Ä—ã–≤–∞–ª—Å—è –ø–æ–¥–Ω—è—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É, –Ω–æ –∫–∞–∂–¥—ã–π —Ä–∞–∑ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞–ª—Å—è –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É. –Æ–∂–Ω—ã–π —Å–∫–ª–æ–Ω —Ç–∞–∫ –≥—É—Å—Ç–æ –∑–∞—Ä–æ—Å —Ä–∞—Å—Ç–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ—Å—Ç—å—é, —á—Ç–æ –ø—Ä–æ–¥–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è —Å–∫–≤–æ–∑—å –Ω–µ–µ –Ω–æ—á—å—é, –¥–∞ –µ—â–µ —Ç–∞–∫ –∫—Ä—É—Ç–æ –≤–≤–µ—Ä—Ö, –±—ã–ª–æ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ.
–ò –≤—Å–µ –∂–µ –º–Ω–µ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —ç—Ç–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å. –°–∫–æ—Ä–æ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª –æ–≥–æ–Ω–µ–∫ —Ç–æ–≥–æ —Å–∞–º–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ –æ–±–æ–π—Ç–∏. –î–æ–º —Å—Ç–æ—è–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –û–±–æ–π—Ç–∏ –µ–≥–æ –∏–Ω–∞—á–µ, —á–µ–º –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—Ç—å—Å—è –Ω–∞ –≥–æ—Ä—É, –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ü–æ–ª–µ–∑ –≤–≤–µ—Ä—Ö. –ü–æ —á—É—Ç—å-—á—É—Ç—å. –ü–æ–Ω–µ–º–Ω–æ–∂–µ—á–∫—É. –ü–æ–ª–æ—Ç–Ω—è–Ω—ã–µ —á—É–Ω–∏ —Å–∫–æ–ª—å–∑–∏–ª–∏ –ø–æ —Ç—Ä–∞–≤–µ. –î–æ —Ç—Ä–µ—Ç–∏ –≥–æ—Ä—ã —è –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –Ω–∞ –æ–¥–Ω–∏—Ö —Ä—É–∫–∞—Ö. –ü–æ—Ç–æ–º —Å–Ω—è–ª —á—É–Ω–∏. –ß–µ—Ä—Ç —Å –Ω–∏–º–∏, —Å–æ –∑–º–µ—è–º–∏.
–ü–æ–¥—ä–µ–º –±–æ—Å–∏–∫–æ–º –ø–æ—à–µ–ª –≥–æ—Ä–∞–∑–¥–æ –ø—Ä–æ—â–µ. –ê –Ω–∞ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–Ω–µ–π —Ç—Ä–µ—Ç–∏, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å–∫–ª–æ–Ω –Ω–∞—á–∞–ª —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏—Ç—å—Å—è –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –ø–æ–ª–æ–≥–∏–º, —Å–Ω–æ–≤–∞ –æ–¥–µ–ª —á—É–Ω–∏. –ê –≤–æ—Ç –∏ –≤–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –¢–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞. –Ø –≤–Ω–∏–º–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –æ—Å–º–∞—Ç—Ä–∏–≤–∞–ª –º–µ—Å—Ç–Ω–æ—Å—Ç—å –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–µ–≤–µ—Ä–∞ –∏, –Ω–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, —É–≤–∏–¥–µ–ª –¢–µ—Ä–µ–∫. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Ç–æ–≥–¥–∞ –º–Ω–µ –∏ –ø—Ä–∏—à–ª–∞ –≤ –≥–æ–ª–æ–≤—É –¥—É—Ä–∞—Ü–∫–∞—è –º—ã—Å–ª–∏ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª—ã–≤–∞—Ç—å –µ–≥–æ, –≤–º–µ—Å—Ç–æ —Ç–æ–≥–æ, —á—Ç–æ–±—ã –∏–¥—Ç–∏ –Ω–∞ –ò—â–µ—Ä—Å–∫–∏–π –º–æ—Å—Ç. –ù—É, —á—Ç–æ —Ç–∞–∫–æ–µ –¢–µ—Ä–µ–∫? –¢—Ä–∏—Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤ –æ—Ç –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –¥–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞. –ê –≥–¥–µ — –∏ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ—Ç. –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ –Ω–µ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª—ã–≤—É?
24 –∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞. –í–æ—Å–∫—Ä–µ—Å–µ–Ω—å–µ.¬Ý–í–µ—Ä—à–∏–Ω–∞ –¢–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞ –Ω–∏—á–µ–º –Ω–µ –æ—Ç–ª–∏—á–∞–ª–∞—Å—å –æ—Ç –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –°—É–Ω–∂–µ–Ω—Å–∫–æ–≥–æ. –¢–µ –∂–µ –∫—Ä–µ—Å—Ç—ã –∏–∑ –∞—Ä–º–∞—Ç—É—Ä—ã, —Ç–∞ –∂–µ –≤—Å–ø–∞—Ö–∞–Ω–Ω–∞—è —Ç–∞–Ω–∫–∞–º–∏ –∑–µ–º–ª—è. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ –∑–¥–µ—Å—å –±—ã–ª–∞ –±–æ–ª–µ–µ –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –≤–¥–æ–ª—å —Å–∞–º–æ–π –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã. –¢–∞–∫ —è –∏ —à–µ–ª –ø–æ –Ω–µ–π –¥–æ —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç–∞. –°–ø—Ä–∞–≤–∞ –≤–Ω–∏–∑—É –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ –æ–±–æ–∑–Ω–∞—á–∞–ª—Å—è –¢–µ—Ä–µ–∫ —Å —Ä–æ—â–∞–º–∏ –ø–æ –±–µ—Ä–µ–≥–∞–º. –ü–æ—Ç–æ–º –Ω–∞—á–∞–ª–∞ –ø—Ä–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è –∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –≤–¥–æ–ª—å –¢–µ—Ä–µ–∫–∞ –ø–æ —ç—Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω–µ. –ù–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –¥–æ—Ä–æ–≥–æ–π –±—ã–ª–∏ —Å–µ–ª–∞, –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥—è—â–∏–µ –æ–¥–Ω–æ –≤ –¥—Ä—É–≥–æ–µ –ø—Ä–∞–∫—Ç–∏—á–µ—Å–∫–∏ –±–µ–∑ –ø—Ä–æ–º–µ–∂—É—Ç–∫–æ–≤. –ò –≤—Å–µ –∂–µ –ø—Ä–æ–º–µ–∂—É—Ç–æ–∫ —è –Ω–∞—à–µ–ª. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è, –ø–æ–∫–∞ –µ—â–µ —Å—É–º–µ—Ä–∫–∏, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Å—Ç–∞—Ç—å—Å—è –Ω–µ–∑–∞–º–µ—á–µ–Ω–Ω—ã–º.
–°–ø—É—Å–∫ —Å —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞ –∑–∞–Ω—è–ª –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö —á–∞—Å–æ–≤. –ù–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω–µ –º–µ–Ω—è –≤—Å—Ç—Ä–µ—Ç–∏–ª–∏ –ø–æ–ª—è, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ —Å–∫—Ä—ã–≤–∞—Ç—å—Å—è. –Ý–∞–∑–≤–µ —á—Ç–æ, –≤ –∑–µ–º–ª—é –∑–∞—Ä—ã—Ç—å—Å—è. –ö–æ–µ-–≥–¥–µ –º–µ–∂–¥—É –ø–æ–ª—è–º–∏ — –ª–µ—Å–æ–ø–æ—Å–∞–¥–∫–∏. –í –æ–¥–Ω—É –∏–∑ –Ω–∏—Ö —è –∏ –∑–∞—à–µ–ª. –û—á–µ–Ω—å –≤–æ–≤—Ä–µ–º—è –∑–∞—à–µ–ª, –ø–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ –∏ —Å–ø—Ä–∞–≤–∞, –∏ —Å–ª–µ–≤–∞ –Ω–∞ –ø–æ–ª—è—Ö –∑–∞—Ç—Ä–µ—â–∞–ª–∞ —Å–µ–ª—å—Ö–æ–∑—Ç–µ—Ö–Ω–∏–∫–∞: —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä–∞ –∏–ª–∏ —Ç–∞–º, –∫—É–ª—å—Ç–∏–≤–∞—Ç–æ—Ä—ã… –ß–µ—Ä—Ç –∏—Ö –ø–æ–π–º–µ—Ç.
–Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –æ—Å–∞–¥–Ω–æ–µ –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ –≤ –∫—É—Å—Ç–∞—Ö –ø–æ—Å–∞–¥–∫–∏. –ò —Å–Ω–æ–≤–∞ –Ω–∞—á–∞–ª–∏ –º—É—á–∏—Ç—å –ø—Ä–∏—Å—Ç—É–ø—ã –≥–æ–ª–æ–¥–∞. –ù–∞ –∫–æ—Ä–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤ —è –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –ø—Ä–æ–∑—Ä–∞—á–Ω—ã–µ –æ—Å—Ç–∞–Ω–∫–∏ –º–∞–π—Å–∫–∏—Ö –∂—É–∫–æ–≤. –í–∏–¥–∏–º–æ –æ–Ω–∏ –≤—ã–ø–æ–ª–∑–∞–ª–∏ –∏–∑ —Å–≤–æ–∏—Ö —Ö–∏—Ç–∏–Ω–æ–≤—ã—Ö –æ–±–æ–ª–æ—á–µ–∫ –¥–ª—è –Ω–æ–≤–æ–π –∂–∏–∑–Ω–∏. –ò–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–Ω–æ, –≤ –∫–∞–∫–æ–º –∫–∞—á–µ—Å—Ç–≤–µ? –ù–∞–¥–æ —É–∑–Ω–∞—Ç—å. –ò —Ç–æ–ª—å–∫–æ –∑–Ω–∞—á–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –ø–æ–∑–∂–µ, –∏—Å–ø–∞—á–∫–∞–≤—à–∏—Å—å –≤ —É–ø–∞–≤—à–∏—Ö —è–≥–æ–¥–∞—Ö, —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –∫—É—Å—Ç—ã, –≤ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö —è –ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è — —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫. –ê —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫ — —ç—Ç–æ –≤–∏—Ç–∞–º–∏–Ω –°.
–Ø –º–µ–¥–ª–µ–Ω–Ω–æ –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è, –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª—è–ª –ø–æ–ª–æ–∂–µ–Ω–∏–µ —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä–æ–≤ –Ω–∞ –ø–æ–ª—è—Ö — –∏, –µ—Å–ª–∏ –≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –ø—Ä–∏–Ω–∏–º–∞–ª—Å—è –æ–±—ä–µ–¥–∞—Ç—å –æ—á–µ—Ä–µ–¥–Ω–æ–π –∫—É—Å—Ç. –£—Ä–æ–∂–∞–π –Ω–∞ –≤–µ—Ç–∫–∞—Ö –±—ã–ª –Ω–µ–≤–µ–ª–∏–∫, –Ω–æ –≤–µ–¥—å –∏ –∫—É—Ä–æ—á–∫–∞ –ø–æ –∑–µ—Ä–Ω—ã—à–∫—É –∫–ª—é–µ—Ç.
–û–¥–∏–Ω —Ä–∞–∑ —Å–æ–≤—Å–µ–º –±–ª–∏–∑–∫–æ –æ—Ç –º–µ–Ω—è, –Ω–∞ –≤—ã—Å–æ—Ç–µ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ 25 –º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω–∞ –≤–µ—Ä—Ç–æ–ª–µ—Ç–æ–≤. –í–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª» –ú–ò-24, —Å–ª–µ–¥–æ–º –¥–≤–∞ —Ç—Ä–∞–Ω—Å–ø–æ—Ä—Ç–Ω—ã—Ö –ú–ò-8 –∏ –∑–∞–º—ã–∫–∞–ª –∫–æ–ª–æ–Ω–Ω—É –µ—â–µ –æ–¥–∏–Ω «–∫—Ä–æ–∫–æ–¥–∏–ª». –õ–µ—Ç–µ–ª–∏ –ø–æ–¥ –∑–∞—â–∏—Ç–æ–π –¢–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞ –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ú–æ–∑–¥–æ–∫–∞.
–ß–∞—Å–∞ –≤ –¥–≤–∞ –ø–æ–ø–æ–ª—É–¥–Ω–∏ —è —Ä–µ—à–∏–ª –ø—Ä–æ–±–∏—Ä–∞—Ç—å—Å—è –≤–¥–æ–ª—å —Ä–æ—â–∏ –±–ª–∏–∂–µ –∫ –¢–µ—Ä–µ–∫—É. –£–∂–µ —á–µ—Ä–µ–∑ –ø–æ–ª–∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª –±–∞–∑–æ–≤—É—é —Å—Ç–æ—è–Ω–∫—É –∫–æ–ª—Ö–æ–∑–Ω–∏–∫–æ–≤. –í—Å–µ. –¢–µ–ø–µ—Ä—å —Å–∏–∂—É –¥–æ –≤–µ—á–µ—Ä–∞.
–ö–æ–ª—Ö–æ–∑–Ω–∏–∫–æ–≤ —É–≤–µ–∑–ª–∏ –æ–∫–æ–ª–æ –ø—è—Ç–∏. –¢–æ, —á—Ç–æ —è –ø—Ä–∏–Ω—è–ª –∑–∞ —Ä–∞–≤–Ω–∏–Ω—É, –æ–∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å –ø–ª–æ—Å–∫–æ–≥–æ—Ä—å–µ–º — —à–∏—Ä–æ–∫–æ–π —Ç–µ—Ä—Ä–∞—Å–æ–π –¢–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞. –í –¥–æ–ª–∏–Ω—É –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å —Å–ø—É—Å–∫–∞—Ç—å—Å—è —Å –æ–±—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç–æ–≥–æ —Å–∫–ª–æ–Ω–∞, –≤—ã—Å–æ—Ç–æ–π –¥–æ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –¢–æ–≥–¥–∞ –∂–µ —è –∑–∞–º–µ—Ç–∏–ª, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–¥–≤–∏–≥–∞—Ç—å—Å—è –¥–∞–ª—å—à–µ –∫ –¢–µ—Ä–µ–∫—É –±—É–¥–µ—Ç –æ—á–µ–Ω—å —Ç—Ä—É–¥–Ω–æ. –û—Ç–¥–µ–ª—å–Ω—ã–µ –∫—É—Å—Ç—ã —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ —Å—Ç–æ—è–ª–∏ —Ä–∞–∑—Ä–æ–∑–Ω–µ–Ω–Ω–æ. –ù–∏–∫–∞–∫–∏—Ö –ø–æ—Å–∞–¥–æ–∫ –∏ —Ä–æ—â –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –î–æ –∞–≤—Ç–æ–¥–æ—Ä–æ–≥–∏ — –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ –¥–≤–∞. –î–∞–ª—å—à–µ — –±–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ–π –ª–µ—Å –∏ –¢–µ—Ä–µ–∫. –ù–æ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ —Ç—É–¥–∞ –º–æ–∂–Ω–æ —Ç–æ–ª—å–∫–æ –≤ –æ–¥–Ω–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ — –º–µ–∂–¥—É –¥–æ–º–∞–º–∏ –¥–≤—É—Ö —Å–æ—Å–µ–¥–Ω–∏—Ö —Å–µ–ª. –ê —Ä–∞—Å—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ —ç—Ç–æ –µ–¥–≤–∞ –ª–∏ –±–æ–ª—å—à–µ –ø—è—Ç–∏—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤.
–£–∂–µ –ø–µ—Ä–≤–∞—è –ø–æ–ø—ã—Ç–∫–∞ –¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –æ–±—Ä—ã–≤–∞ –¥–æ –±–ª–∏–∂–∞–π—à–µ–≥–æ —É–∫—Ä—ã—Ç–∏—è –≤ –≤–∏–¥–µ —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫–∞ –µ–¥–≤–∞ –Ω–µ –æ–∫–∞–∑–∞–ª–∞—Å—å –ø–ª–∞—á–µ–≤–Ω–æ–π. –ü–æ–¥ –æ–±—Ä—ã–≤–æ–º –ø—Ä–æ—Ö–æ–¥–∏–ª–∞ –≥—Ä—É–Ω—Ç–æ–≤–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞, –∞ –ø–æ –Ω–µ–π, –ø–æ–¥–Ω–∏–º–∞—è —Ç—É—á–∏ –ø—ã–ª–∏, –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –º–µ–Ω—è –º—á–∞–ª—Å—è –¥–∂–∏–ø. –Ø —É–ø–∞–ª –∏ –∑–∞—Ç–∞–∏–ª—Å—è –º–µ–∂–¥—É –≤—ã—Å–æ–∫–∏–º–∏ –∫–∞–º–Ω—è–º–∏. –î–∂–∏–ø –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–µ–ª –º–∏–º–æ. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π —è –ø–æ–¥–æ–∂–¥–∞–ª –Ω–∞ –º–µ—Å—Ç–µ. –ò –Ω–µ –∑—Ä—è. –ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç—å, –Ω–∞ —Ç–∞–∫–æ–π –∂–µ —Å–∫–æ—Ä–æ—Å—Ç–∏ –¥–∂–∏–ø –ø—Ä–æ–ª–µ—Ç–µ–ª –≤ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω—É—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –∏ —Å–∫—Ä—ã–ª—Å—è –∑–∞ —Ç—É—á–µ–π –ø—ã–ª–∏. –ê —è –ø–æ–±–µ–∂–∞–ª –∫ —Ç—É—Ç–æ–≤–Ω–∏–∫—É. –Ý—è–¥–æ–º —Å –Ω–∏–º –æ–±–Ω–∞—Ä—É–∂–∏–ª —Å—Ä–µ–¥–∏ –∫–∞–º–Ω–µ–π –≥—Ä—É–ø–ø—É —Ä–æ–¥–Ω–∏–∫–æ–≤. –í–æ—Ç —É–∂ –Ω–∞–ø–∏–ª—Å—è!
–ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —Å–æ–≤—Å–µ–º –Ω–µ–¥–∞–ª–µ–∫–æ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª–∏—Å—å –ª—é–¥–∏. –¢–æ–≥–¥–∞ —è –ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è. –ê –ø–æ—Ç–æ–º –ø–µ—Ä–µ—Ö–æ–¥–∏–ª –∫ —Å–ª–µ–¥—É—é—â–µ–º—É –∫—É—Å—Ç—É. –ö –¥–æ—Ä–æ–≥–µ —è –≤—ã—à–µ–ª —É–∂–µ –Ω–∞ –∑–∞–∫–∞—Ç–µ. –ù–∏–∫–æ–≥–æ. –Ø –ø–µ—Ä–µ—à–µ–ª –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç –∏ –¥–≤–∏–Ω—É–ª—Å—è –∫ –ª–µ—Å—É, –¥–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª–æ –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ –ø—è—Ç–∏–¥–µ—Å—è—Ç–∏ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ò –≤–æ—Ç, —É–∂–µ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥—è –∫ –æ–ø—É—à–∫–µ, —É—Å–ª—ã—à–∞–ª —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–π –∑–≤—É–∫ –¥–≤–∏–≥–∞—Ç–µ–ª—è –ë–¢–Ý. –ú–µ—Ç–Ω—É–ª—Å—è –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –Ω–æ –ë–¢–Ý —É–∂–µ –ø—Ä–æ—Å–∫–æ—á–∏–ª –º–∏–º–æ. –ù–∞ –±—Ä–æ–Ω–µ –Ω–∏–∫–æ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ù–∞ –≤—Å—è–∫–∏–π —Å–ª—É—á–∞–π –≤—ã—Å–∫–æ—á–∏–ª –Ω–∞ –¥–æ—Ä–æ–≥—É –∏ –∑–∞–º–∞—Ö–∞–ª —Ä—É–∫–∞–º–∏ –≤—Å–ª–µ–¥ –º–∞—à–∏–Ω–µ. –ù–∏–∫–∞–∫–æ–π —Ä–µ–∞–∫—Ü–∏–∏ –Ω–µ –ø–æ—Å–ª–µ–¥–æ–≤–∞–ª–æ. –Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –ø–æ—à–µ–ª –∫ –ª–µ—Å—É.
–ï—Å–ª–∏ –±—ã –∑–Ω–∞–ª –≤ —Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –∫—É–¥–∞ –∏–¥—É, –Ω–µ–ø—Ä–µ–º–µ–Ω–Ω–æ –æ—Ç–≤–µ—Ä–Ω—É–ª –±—ã –∫ –∑–∞–ø–∞–¥—É, –∫ –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫–æ–π. –ù–æ —è –Ω–µ –∑–Ω–∞–ª, –∞ –¥–ª—è –ø–µ—Ä–µ–ø—Ä–∞–≤—ã –º–Ω–µ –Ω—É–∂–µ–Ω –±—ã–ª –ø—É—Å—Ç—ã–Ω–Ω—ã–π —É—á–∞—Å—Ç–æ–∫ –±–µ—Ä–µ–≥–∞. –õ–µ—Å —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –≤—Å–µ –≥—É—â–µ –∏ —Å—É–º—Ä–∞—á–Ω–µ–µ. –°—ã—Ä–æ—Å—Ç—å, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –Ω–∞–≤–µ–∫–∏ –ø—Ä–æ–ø–∏—Ç–∞–ª–∞ —ç—Ç–∏ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è. –í –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã—Ö –º–µ—Å—Ç–∞—Ö –±—ã–ª–∏ —Ç–∞–∫–∏–µ –∑–∞–≤–∞–ª—ã –≥–Ω–∏–ª—ã—Ö —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–≤, —á—Ç–æ –ø—Ä–∏—Ö–æ–¥–∏–ª–æ—Å—å –ø—Ä–µ–æ–¥–æ–ª–µ–≤–∞—Ç—å –∏—Ö, —Å–ª–æ–≤–Ω–æ –±–∞—Ä—Ä–∏–∫–∞–¥—ã. –°–≤–µ—Ä–∏—Ç—å –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ø—É—Ç–∏ –ø–æ –∑–≤–µ–∑–¥–∞–º –±—ã–ª–æ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –ù–∞–¥–æ –º–Ω–æ–π –±—ã–ª —Å–ø–ª–æ—à–Ω–æ–π –ø–æ—Ç–æ–ª–æ–∫ –∏–∑ –∫—Ä–æ–Ω –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –æ–ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∏—Ç—å –Ω–∞–ø—Ä–∞–≤–ª–µ–Ω–∏–µ –ø–æ –∑–∞–º—à–µ–ª–æ—Å—Ç–∏ –∫–æ—Ä—ã –¥–µ—Ä–µ–≤—å–µ–≤. –ü–æ–ª—É—á–∞–ª–æ—Å—å, —á—Ç–æ –∏–¥—É –ø—Ä–∞–≤–∏–ª—å–Ω–æ.
–¢–µ–º–µ–Ω—å –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –≤ –∫—Ä–æ–º–µ—à–Ω—É—é. –Ø —Å–∏–ª—å–Ω–æ —É—Å—Ç–∞–ª, –Ω–æ –Ω—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –¥–æ–π—Ç–∏ –¥–æ –¢–µ—Ä–µ–∫–∞, –¥–æ –≤–æ–¥—ã. –û—Å—Ç–∞–≤–∞—Ç—å—Å—è –≤ —ç—Ç–æ–º –∫–æ—à–º–∞—Ä–µ –Ω–µ–ª—å–∑—è. –ó–¥–µ—Å—å –Ω–µ—Ç –∂–∏–∑–Ω–∏. –ö–ª–∞–¥–±–∏—â–µ –∫–∞–∫–æ–µ-—Ç–æ! –ê –¢–µ—Ä–µ–∫ –≤—Å–µ –Ω–µ –ø–æ—è–≤–ª—è–ª—Å—è. –ù–∞–∫–æ–Ω–µ—Ü, –≤—ã–º–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π –∏ –º–æ–∫—Ä—ã–π, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –Ω–µ—à–∏—Ä–æ–∫—É—é –ø—Ä–æ—Ç–æ–∫—É, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π –ø—Ä–æ–¥–æ–ª–∂–∞–ª—Å—è –≤—Å–µ —Ç–æ—Ç –∂–µ –ª–µ—Å. –ü–æ–ø–µ—Ä–µ–∫ –ø—Ä–æ—Ç–æ–∫–∏ –ª–µ–∂–∞–ª–æ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ. –í—Ä—è–¥ –ª–∏ –µ–≥–æ –∫—Ç–æ —Å–ø–µ—Ü–∏–∞–ª—å–Ω–æ —Ç—É—Ç –ø–æ–ª–æ–∂–∏–ª. –ù–æ –Ω–∞ —Ç—É —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —è –Ω–µ –ø–æ—à–µ–ª. –í —ç—Ç–æ–º –º–µ—Å—Ç–µ –∫–æ–µ-–≥–¥–µ –ø—Ä–æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ–±–æ. –í—Å–µ —Ç–µ–ª–æ –∑—É–¥–µ–ª–æ –æ—Ç —É–∫—É—Å–æ–≤ –∫–æ–º–∞—Ä–æ–≤. –ü—Ä–∏—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–≤—à–∏—Å—å, —è —É–≤–∏–¥–µ–ª –∫–æ–º–∞—Ä–∏–Ω—É—é —Ç—É—á—É –ø—Ä—è–º–æ –ø–µ—Ä–µ–¥ –≥–ª–∞–∑–∞–º–∏.
–ù–∞—á–∞–ª –≤—Å–ø–æ–º–∏–Ω–∞—Ç—å –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∏, –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–µ –≤–∏–¥–µ–ª —Å –≤–µ—Ä—à–∏–Ω—ã –¢–µ—Ä—Å–∫–æ–≥–æ —Ö—Ä–µ–±—Ç–∞, –∞ –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–ª –∫–∞—Ä—Ç—É –ê—Å—Å–∞–π–¥—É–ª–ª—ã. –Ø –ø–æ–ø–∞–ª –≤ –º–µ—Å—Ç–æ, –≥–¥–µ –¢–µ—Ä–µ–∫ –¥–µ–ª–∞–µ—Ç –æ–≥—Ä–æ–º–Ω—É—é –∫—Ä—É—Ç—É—é –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω—É –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É —Å–µ–≤–µ—Ä–∞. –ò –ø—Ä–æ–ø–µ—Ä—Å—è —è –≤–¥–æ–ª—å –≤—Å–µ–π —ç—Ç–æ–π –∏–∑–ª—É—á–∏–Ω—ã. –¢–µ—Ä–µ–∫ –±—ã–ª —Å–ª–µ–≤–∞, —Å–ø—Ä–∞–≤–∞, –≤–ø–µ—Ä–µ–¥–∏ –∏ –µ–≥–æ –Ω–µ –±—ã–ª–æ –≤–æ–æ–±—â–µ. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –≤–æ–∑–≤—Ä–∞—â–∞—Ç—å—Å—è –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ, –Ω–æ —Å–µ–π—á–∞—Å, –Ω–æ—á—å—é, —ç—Ç–æ–≥–æ —Å–¥–µ–ª–∞—Ç—å –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ, –Ω–µ —Å–ª–æ–º–∞–≤ –∫–æ—Å—Ç–µ–π. –ú–Ω–µ –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–∞ —Ç—è–∂–µ–ª–∞—è, —Å—ã—Ä–∞—è, –∫–æ–º–∞—Ä–∏–Ω–∞—è –Ω–æ—á—å –≤–æ—Ç –∑–¥–µ—Å—å — –Ω–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É –ø—Ä–æ—Ç–æ–∫–∏.
25 –∏—é–Ω—è 2001 –≥–æ–¥–∞. –ü–æ–Ω–µ–¥–µ–ª—å–Ω–∏–∫.¬Ý–î–æ—Å—Ç–∞–ª –∏–∑ –º–µ—à–∫–∞ –¥—ã—Ä—è–≤—ã–π –±—Ä–µ–∑–µ–Ω—Ç, —Å–µ–ª –Ω–∞ –ø–µ—Å–æ–∫ –∏ –ø—Ä–∏–∫—Ä—ã–ª—Å—è –∏–º —Å –≥–æ–ª–æ–≤–æ–π. –û —Ç–æ–º, —á—Ç–æ–±—ã —É—Å–Ω—É—Ç—å –∏ –Ω–µ –¥—É–º–∞–ª. –°–ª–æ–º–∞–ª –≤–µ—Ç–æ—á–∫—É, —á—Ç–æ–±—ã –æ—Ç–º–∞—Ö–∏–≤–∞—Ç—å—Å—è –æ—Ç –∫–æ–º–∞—Ä–æ–≤. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ –ø–æ–¥–∫–∞—Ç—ã–≤–∞–ª–∞ –¥—Ä–µ–º–∞, –Ω–æ –æ—Ç —ç—Ç–æ–≥–æ —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å —Ç–æ–ª—å–∫–æ —Ö—É–∂–µ. –î–µ—Ä–µ–≤—å—è –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—â–∞–ª–∏—Å—å –≤ —á—É–¥–æ–≤–∏—â, –≥–æ—Ç–æ–≤—ã—Ö –Ω–∞–ø–∞—Å—Ç—å. –õ—É—á—à–µ —É–∂ –±—ã–ª–æ –Ω–µ —Å–ø–∞—Ç—å –≤–º–µ—Å—Ç–µ —Å –∫–æ–º–∞—Ä–∞–º–∏.
–ß–∞—Å–∞ —á–µ—Ä–µ–∑ –¥–≤–∞ –≤–æ–æ–±—â–µ –≤—Å–µ –ø–µ—Ä–µ–º–µ—à–∞–ª–æ—Å—å. –û—Ç –±–µ–∑–¥–µ–ª—å—è —Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª–æ—Å—å –≤—Å–µ –±–æ–ª–µ–µ –∂—É—Ç–∫–æ. –Ø –º–Ω–æ–≥–æ–∫—Ä–∞—Ç–Ω–æ –æ–≥–ª—è–¥—ã–≤–∞–ª—Å—è –≤ –∫—Ä–æ–º–µ—à–Ω—É—é —Ç—å–º—É, –∞ –ø–æ—Ç–æ–º –Ω–µ –≤—ã–¥–µ—Ä–∂–∞–ª –∫–∞–∫–æ–≥–æ-—Ç–æ –º–∏—Å—Ç–∏—á–µ—Å–∫–æ–≥–æ –¥–∞–≤–ª–µ–Ω–∏—è –Ω–∞ —Å–ø–∏–Ω—É –∏ –ø–µ—Ä–µ—Å–µ–ª, –ø—Ä–∏—Å–ª–æ–Ω–∏–≤—à–∏—Å—å –∫ —Å—Ç–≤–æ–ª—É –¥–µ—Ä–µ–≤–∞. –ü–µ—Å–∫–∞ —Ç–∞–º –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –û–¥–Ω–∏ –∫–æ—Ä–Ω–∏. –ù–æ —Ç–∞–∫ –≤—Å–µ –∂–µ –ª—É—á—à–µ, —á–µ–º —Å –æ—Ç–∫—Ä—ã—Ç–æ–π —Å–ø–∏–Ω–æ–π.
–ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –¥—É–º–∞—Ç—å –æ —á–µ–º-—Ç–æ –¥—Ä—É–≥–æ–º, –∫—Ä–æ–º–µ –∫–æ—à–º–∞—Ä–æ–≤. –ù–∏—á–µ–≥–æ –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è. –ê —Ç—É—Ç –µ—â–µ –ø–ª–µ—Å–∫ –≤–æ–ª–Ω—ã –æ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ –ø—Ä–µ–≤—Ä–∞—Ç–∏–ª—Å—è –≤ –æ—Ç—á–µ—Ç–ª–∏–≤–æ–µ —Å–ª–æ–≤–æ «—Å–º–µ—Ä—Ç—å». –Ø –≤—Å—Ç–∞–ª –∏ –ø—Ä–æ—à–µ–ª—Å—è –ø–æ –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–æ–º—É —É—á–∞—Å—Ç–∫—É –±–µ—Ä–µ–≥–æ–≤–æ–≥–æ –ø–µ—Å–∫–∞. «–°–º–µ—Ä—Ç—å» —É–ø–æ—Ä–Ω–æ –∑–∞–ø–æ–ª–∑–∞–ª–∞ –≤ –º–æ–∑–≥–∏ —Å –∫–∞–∂–¥—ã–º –ø–ª–µ—Å–∫–æ–º –≤–æ–¥—ã –æ –±—Ä–µ–≤–Ω–æ. –°–Ω–æ–≤–∞ —Å–µ–ª –∏, –∫–∞–∑–∞–ª–æ—Å—å, –∑–∞–¥—Ä–µ–º–∞–ª, –∏ –≤–¥—Ä—É–≥, –æ, –∫–æ—à–º–∞—Ä! –ù–∞ –±–µ—Ä–µ–≥—É, —É —Å–∞–º–æ–π –≤–æ–¥—ã, —Å—Ç–æ–∏—Ç –º–∞–ª–µ–Ω—å–∫–∏–π —á–µ–ª–æ–≤–µ—á–µ–∫ –∏ –ø–æ—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç —Ä—É–∫–∏. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø—Ä–æ—Å–Ω—É—Ç—å—Å—è — –Ω–µ –ø–æ–ª—É—á–∞–µ—Ç—Å—è. –©–∏–ø–∞—é —Å–µ–±—è — –±–æ–ª—å–Ω–æ. –ê —Ç—É—Ç –∏–∑ –≤–æ–¥—ã –ø–æ—è–≤–ª—è–µ—Ç—Å—è –≤—Ç–æ—Ä–∞—è –∫–∏–∫–∏–º–æ—Ä–∞. –í—Å—Ç–∞–ª–∞ —Ä—è–¥–æ–º —Å —Ç–æ–π –∏ —Ç–æ–∂–µ –ø–æ—Ç–∏—Ä–∞–µ—Ç —Ä—É–∫–∏.
–ö–æ—à–º–∞—Ä –≤ –≥—Ä—É–¥–∏ –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ –∑–∞–∫–∏–ø–∞–ª –æ–±–∂–∏–≥–∞—é—â–∏–º–∏ –ø—É–∑—ã—Ä—å–∫–∞–º–∏, –∫–∞–∫–∏–º-—Ç–æ –∂–µ–ª–µ–∑–Ω—ã–º –æ–±—Ä—É—á–µ–º —Å–¥–∞–≤–ª–∏–≤–∞—è –º–æ–∑–≥–∏, —Ç–æ–∂–µ –≥–æ—Ç–æ–≤—ã–µ –∑–∞–∫–∏–ø–µ—Ç—å. –ù–µ –∑–Ω–∞—é, —Å–∫–æ–ª—å–∫–æ –ø—Ä–æ—à–ª–æ –≤—Ä–µ–º–µ–Ω–∏, –ø–æ–∫–∞ —è –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –∫–∏–∫–∏–º–æ—Ä—ã — —ç—Ç–æ –≤—ã–¥—Ä—ã. –ò –≤–æ—Ç —Ç–æ–≥–¥–∞, —É—Å–ø–æ–∫–æ–∏–≤—à–∏—Å—å, —è –≤—Ç–æ—Ä–æ–π —Ä–∞–∑ –≤ –∂–∏–∑–Ω–∏ –∑–∞–¥–∞–ª —Å–µ–±–µ —Ç–∞–∫–æ–π –≤–æ–ø—Ä–æ—Å:
— –¢–µ–±–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ?
— –ù–µ—Ç, –Ω–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª —Å–∞–º —Å–µ–±–µ.
— –ê –µ–º—É —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ?
— –ò –µ–º—É –Ω–µ —Å—Ç—Ä–∞—à–Ω–æ, — –æ—Ç–≤–µ—á–∞–ª —è.
«–ï–º—É» — —ç—Ç–æ –∫–æ–º—É? — –¥—É–º–∞–ª —è –ø–æ—Ç–æ–º. –ù–µ—É–∂–µ–ª–∏ –∏ –≤ —ç—Ç–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ –º–æ–∑–≥ –Ω–µ –≤ —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–∏ –≤–º–µ—Å—Ç–∏—Ç—å –≤–µ—Å—å —É–∂–∞—Å —ç—Ç–æ–π –Ω–æ—á–∏ –≤ –ø—Ä–µ–¥–µ–ª–∞—Ö –æ–¥–Ω–æ–π –ª–∏—á–Ω–æ—Å—Ç–∏? –í–ø—Ä–æ—á–µ–º, —Å–æ—Å—Ç–æ—è–Ω–∏–µ —ç—Ç–æ, –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–µ —è –µ—â–µ –∏ –∫–æ–Ω—Ç—Ä–æ–ª–∏—Ä–æ–≤–∞–ª, –¥–ª–∏–ª–æ—Å—å –Ω–µ–¥–æ–ª–≥–æ. –°—á–∏—Ç–∞–Ω–Ω—ã–µ —Å–µ–∫—É–Ω–¥—ã. –î–∞–ª—å—à–µ –±—ã–ª–∏ –∫–æ–º–∞—Ä—ã, –∫–æ–º–∞—Ä—ã, –∫–æ–º–∞—Ä—ã, –¥–æ–ª–≥–∏–π —Ä–∞—Å—Å–≤–µ—Ç –∏ —Ç—è–∂–µ–ª–∞—è –¥–æ—Ä–æ–≥–∞ –æ–±—Ä–∞—Ç–Ω–æ –∫ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ.
–ù–∞ —Ç—Ä–∞—Å—Å—É —è –≤—ã–±—Ä–∞–ª—Å—è¬Ý—É—Ç—Ä–æ–º. –ò–∑–º–æ—Ç–∞–Ω–Ω—ã–π, –∏—Å–∫—É—Å–∞–Ω–Ω—ã–π –≤¬Ý–∫—Ä–æ–≤—å –∫–æ–º–∞—Ä–∞–º–∏, –≥–æ–ª–æ–¥–Ω—ã–π –∏ –∑–ª–æ–π. –ü–æ–ø—ã—Ç–∞–ª—Å—è –ø–æ—Ä–∞–¥–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è —Å–≤–æ–±–æ–¥–µ, –∫–∞–∫ –≤ –ø–µ—Ä–≤—ã–µ –¥–Ω–∏ –ø–æ–±–µ–≥–∞, –Ω–æ –Ω–∏—á–µ–≥–æ –∏–∑ —ç—Ç–æ–≥–æ –Ω–µ –≤—ã—à–ª–æ. –ò–º–µ–Ω–Ω–æ —Å–æ –∑–ª–æ—Å—Ç–∏ —è –∏ –ø–æ—à–µ–ª –ø—Ä—è–º–æ –ø–æ —Ç—Ä–∞—Å—Å–µ. –ò —Ç—É—Ç –º–µ–Ω—è –Ω–∞–≥–Ω–∞–ª —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä «–ë–µ–ª–∞—Ä—É—Å—å».
— –≠–π, —Ç—ã –∫–∞–∫ —Ç—É—Ç –æ–∫–∞–∑–∞–ª—Å—è? –ö—É–¥–∞ –∏–¥–µ—à—å? — –æ–∫–ª–∏–∫–Ω—É–ª –º–µ–Ω—è —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä–∏—Å—Ç-—á–µ—á–µ–Ω–µ—Ü.
— –í –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫—É—é –∏–¥—É, — —è —Å—Ç–∞—Ä–∞–ª—Å—è –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏—Ç—å –ø–æ–≤–µ–∂–ª–∏–≤–µ–µ.
— –ú–æ–≥—É –ø–æ–¥–≤–µ–∑—Ç–∏ –ø—Ä—è–º–æ –¥–æ –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏, — —É—Ö–º—ã–ª—è—è—Å—å, —Å–∫–∞–∑–∞–ª —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä–∏—Å—Ç.
— –ú–Ω–µ –≤ –º–∏–ª–∏—Ü–∏—é –Ω–µ –Ω–∞–¥–æ, — –≤–æ–∑—Ä–∞–∑–∏–ª —è.
— –ê –∫—Ç–æ —Ç–µ–±—è —Å–ø—Ä–∞—à–∏–≤–∞—Ç—å –±—É–¥–µ—Ç? — —Ç—Ä–∞–∫—Ç–æ—Ä–∏—Å—Ç –∑–∞—Å–º–µ—è–ª—Å—è. — –¢—ã —Å–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —Å–µ–±—è –≤–∏–¥–µ–ª?
–û–Ω –¥–µ—Ä–Ω—É–ª —Å –º–µ—Å—Ç–∞ –∏ –ø–æ–∫–∞—Ç–∏–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫–æ–π. –î–æ —Å—Ç–∞–Ω–∏—Ü—ã –±—ã–ª–æ –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–∞ —Ç—Ä–∏.
–°–æ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã —è —Å–µ–±—è –Ω–µ –≤–∏–¥–µ–ª, –Ω–æ –¥–æ–≥–∞–¥—ã–≤–∞–ª—Å—è, —á—Ç–æ –∫–∞—Ä—Ç–∏–Ω–∫–∞ —ç—Ç–∞ –±–æ–ª—å—à–µ –Ω–∞–ø–æ–º–∏–Ω–∞–µ—Ç –º–æ–π –Ω–æ—á–Ω–æ–π –∫–æ—à–º–∞—Ä, –Ω–µ–∂–µ–ª–∏ –∂–∏–≤–æ–≥–æ —á–µ–ª–æ–≤–µ–∫–∞. –Ø —É–∂–µ —Ä–µ—à–∏–ª, —á—Ç–æ –≤ –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫—É—é –Ω–µ –ø–æ–π–¥—É. –®–µ–ª –∫ –¢–µ—Ä–µ–∫—É, —á—Ç–æ–±—ã¬Ý–µ–≥–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª—ã—Ç—å. –ö–æ–≥–¥–∞ –∂–µ –≤—ã—à–µ–ª –∫¬Ý–≤—ã—Å–æ–∫–æ–º—É, –æ–±—Ä—ã–≤–∏—Å—Ç–æ–º—É –±–µ—Ä–µ–≥—É, –ø–æ–Ω—è–ª, —á—Ç–æ –ø–µ—Ä–µ–ø–ª—ã—Ç—å —Ä–µ–∫—É –Ω–µ —É–¥–∞—Å—Ç—Å—è. –¢–µ—Ä–µ–∫ –±—ã–ª —à–∏—Ä–æ–∫–∏–π, –∫–æ—Ä–∏—á–Ω–µ–≤—ã–π –æ—Ç –≥—Ä—è–∑–∏ –∏ –æ—á–µ–Ω—å –±—ã—Å—Ç—Ä—ã–π. –í —Ç–µ—á–µ–Ω–∏–∏ –µ–≥–æ –±—ã–ª –∏ –º—É—Å–æ—Ä, –∏ –±—Ä–µ–≤–Ω–∞, –∏ —Ü–µ–ª—ã–µ –¥–µ—Ä–µ–≤—å—è —Å –∑–µ–ª–µ–Ω—ã–º–∏ –∫—Ä–æ–Ω–∞–º–∏. –¢–æ —Ç—É—Ç, —Ç–æ —Ç–∞–º –±–µ—Å–Ω–æ–≤–∞–ª–∏—Å—å –ø–æ—Ä–æ–≥–∏. –ù–µ—Ç. –ö –≤–∑–∞–∏–º–æ–æ—Ç–Ω–æ—à–µ–Ω–∏—è–º —Å –≤–æ–¥–æ–π —è –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏–ª —Å–µ—Ä—å–µ–∑–Ω–æ –≤—Å–µ–≥–¥–∞. –ù—É–∂–Ω–æ –±—ã–ª–æ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–∞ –ò—â–µ—Ä—Å–∫–∏–π –º–æ—Å—Ç. –¢–∞–º –æ–±—è–∑–∞—Ç–µ–ª—å–Ω–æ –µ—Å—Ç—å –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç. –û–±—ã–∫–Ω–æ–≤–µ–Ω–Ω—ã–π, –≤–æ–µ–Ω–Ω—ã–π –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç. –ù–∏–∫–∞–∫–æ–π –º–∏–ª–∏—Ü–∏–∏. –¢–æ–ª—å–∫–æ –≤ –≤–æ–π—Å–∫–∞!
–Ø –ø—Ä–æ—à–µ–ª –≤–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –æ–∫–æ–ª–æ –¥–≤—É—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤, –∫–æ–≥–¥–∞ —É–≤–∏–¥–µ–ª –≤–¥–∞–ª–µ–∫–µ –ò—â–µ—Ä—Å–∫–∏–π –º–æ—Å—Ç. –î–æ –Ω–µ–≥–æ –ø–æ –≤–æ–¥–µ — –æ–∫–æ–ª–æ —Ç—Ä–µ—Ö –∫–∏–ª–æ–º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ù–æ –ø–æ –≤–æ–¥–µ –Ω–µ –ø–æ–π–¥–µ—à—å, –∞ –≤–¥–æ–ª—å –±–µ—Ä–µ–≥–∞ –∏–¥—Ç–∏ –Ω–µ–≤–æ–∑–º–æ–∂–Ω–æ. –î–µ–ª–æ –≤ —Ç–æ–º, —á—Ç–æ –±–µ—Ä–µ–≥-—Ç–æ –∑–∞–ª–∏—Ç –≤–æ–¥–æ–π, –∞ —Å–ª–µ–≤–∞ —É–∂–µ –ø–æ—è–≤–∏–ª–∏—Å—å –¥–æ–º–∞ —Å—Ç–∞–Ω–∏—Ü—ã –ó–Ω–∞–º–µ–Ω—Å–∫–æ–π. –£–∂–µ –æ—Ç—Å—é–¥–∞ –±—ã–ª–æ –≤–∏–¥–Ω–æ, —á—Ç–æ –≤–æ–¥–∞ –ø–æ–¥—Ö–æ–¥–∏—Ç –∫ –Ω–µ–∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–º –¥–æ–º–∞–º –≤–ø–ª–æ—Ç–Ω—É—é. –Ø –ø–æ—à–µ–ª –ø–æ –æ—Ç–Ω–æ—Å–∏—Ç–µ–ª—å–Ω–æ —Å—É—Ö–∏–º –º–µ—Å—Ç–∞–º, –∏–∑—Ä–µ–¥–∫–∞ –∑–∞—Ö–æ–¥—è –≤ –≤–æ–¥—É –ø–æ—á—Ç–∏ –ø–æ –ø–æ—è—Å.
–ò –≤–æ—Ç, –≤—ã—Ö–æ–∂—É –∏–∑ —Ç–∞–∫–æ–π –ª—É–∂–∏ –∏ —É—Ç—ã–∫–∞—é—Å—å –Ω–æ—Å–æ–º –ø—Ä—è–º–æ –≤ —Ä—ã–±–∞–∫–æ–≤. –ò–¥—É –º–∏–º–æ, –Ω–µ –æ–±–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞—è—Å—å –Ω–∞ –Ω–∏—Ö. –û–Ω–∏, –∫–æ–Ω–µ—á–Ω–æ, —Å—á–∏—Ç–∞—é—Ç –º–µ–Ω—è —Å—É–º–∞—Å—à–µ–¥—à–∏–º. –ß–µ—Ä—Ç —Å –Ω–∏–º–∏. –ù–æ —Å –æ–¥–Ω–∏–º –∏–∑ —Ä—ã–±–∞–∫–æ–≤ –ø—Ä–∏—à–ª–æ—Å—å –ø–æ–∑–¥–æ—Ä–æ–≤–∞—Ç—å—Å—è — —è –ø—Ä–æ—à–µ–ª –≤ –º–µ—Ç—Ä–µ –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ. –Ý—ã–±–∞–∫ –Ω–∞ –ø—Ä–∏–≤–µ—Ç—Å—Ç–≤–∏–µ –Ω–µ –æ—Ç–≤–µ—Ç–∏–ª, –∞ —è –Ω–µ –æ–±–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª—Å—è.
–¢–µ–ø–µ—Ä—å –ø—Ä–µ–¥—Å—Ç–æ—è–ª–æ –ø—Ä–æ–π—Ç–∏ –º–∏–º–æ –æ–≥—Ä–æ–º–Ω–æ–≥–æ –¥–æ–º–∞ –∫—Ä–∞—Å–Ω–æ–≥–æ –∫–∏—Ä–ø–∏—á–∞, –æ–≥–æ—Ä–æ–¥ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –±—ã–ª –∑–∞–ª–∏—Ç –≤–æ–¥–æ–π. –ò–∑ –≤–æ–¥—ã —Ç–æ—Ä—á–∞–ª —Ç–æ–ª—å–∫–æ —á–∞—Å—Ç–æ–∫–æ–ª –∑–∞–±–æ—Ä–∞. –£ —Å–∞–º–æ–≥–æ –∑–∞–±–æ—Ä–∞ –∏ –ø–æ—à–µ–ª. –í–æ –≤—Å—è–∫–æ–º —Å–ª—É—á–∞–µ, –ø–æ–Ω—è—Ç–Ω–æ, –∫–∞–∫–∞—è –≥–ª—É–±–∏–Ω–∞. –ì–ª—è–Ω—É–ª –Ω–∞ –æ–∫–Ω–∞ –¥–æ–º–∞. –í –æ–¥–Ω–æ–º –∏–∑ –Ω–∏—Ö —É–≤–∏–¥–µ–ª –∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å—É—é—â—É—é—Å—è –º–Ω–æ—é —Ä–æ–∂—É. –ü–æ—à–µ–ª, –∫–∞–∫ –º–æ–∂–Ω–æ –±—ã—Å—Ç—Ä–µ–µ. –ò –≤–¥—Ä—É–≥, –æ—Å—Ç—Ä–∞—è –±–æ–ª—å –≤ —Å—Ç—É–ø–Ω–µ. –ù–æ –Ω–∞–¥–æ —É—Ö–æ–¥–∏—Ç—å. –¢–∞–∫ –∏ —à–µ–ª –ø–æ –ø–æ—è—Å –≤ –≤–æ–¥–µ. –ò–Ω–æ–≥–¥–∞ —á—É—Ç—å –≥–ª—É–±–∂–µ, –∏–Ω–æ–≥–¥–∞ — –º–µ–ª—å—á–µ. –ë–æ–ª—å –≤ –Ω–æ–≥–µ –Ω–µ—Å–∫–æ–ª—å–∫–æ —É—Ç–∏—Ö–∞–ª–∞, –∫–æ–≥–¥–∞ —Å—Ç—É–ø–∞–ª –Ω–∞ –ø—è—Ç–∫—É.
–ü–æ –º–æ–∏–º —Ä–∞—Å—á–µ—Ç–∞–º, –¥–æ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏ –∫ –º–æ—Å—Ç—É –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ —Ç—Ä–µ—Ö—Å–æ—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –Ø –æ—Å—Ç–∞–Ω–æ–≤–∏–ª—Å—è –∏ –ø—Ä–∏—Å–ª—É—à–∞–ª—Å—è. –¢–æ—á–Ω–æ, –ø–æ —à–æ—Å—Å–µ –¥–≤–∏–≥–∞–ª–∏—Å—å –º–∞—à–∏–Ω—ã. –°—Ä–∞–∑—É –ø–æ—à–µ–ª –±—ã—Å—Ç—Ä–æ –∏, –Ω–∞–≤–µ—Ä–Ω–æ–µ, —à—É–º–Ω–æ. –£–∂–µ –≤–∏–¥–Ω–µ–ª—Å—è –∫—Ä—É—Ç–æ–π –ø–æ–¥—ä–µ–º –Ω–∞—Å—ã–ø–∏ –¥–æ—Ä–æ–≥–∏. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –º–Ω–µ –ø–æ–¥—É–º–∞—Ç—å –æ–± –æ—Ö—Ä–∞–Ω–Ω–æ–π –∑–æ–Ω–µ –±–ª–æ–∫-–ø–æ—Å—Ç–∞. –ù–µ –ø–æ–¥—É–º–∞–ª. –í —ç—Ç–æ—Ç –º–æ–º–µ–Ω—Ç –º–µ–Ω—è –æ–±—Å—Ç—Ä–µ–ª—è–ª–∏. –°–Ω–∞—á–∞–ª–∞ –∏–∑ –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–∞. –í –≤–æ–¥—É —Ä—è–¥–æ–º —Å–æ –º–Ω–æ–π —É–ø–∞–ª–∞ –≤–µ—Ç–∫–∞ —Å —Ö–∞—Ä–∞–∫—Ç–µ—Ä–Ω—ã–º —Ä–∞—Å—â–µ–ø–ª–µ–Ω–∏–µ–º –≤ –º–µ—Å—Ç–µ –ø–æ–ø–∞–¥–∞–Ω–∏—è –ø—É–ª–∏. –Ø —Ç—É—Ç –∂–µ —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–ª—Å—è –∑–∞ —Å—Ç–≤–æ–ª–æ–º –¥–µ—Ä–µ–≤–∞ –∏ –ø—Ä–∏—Å–µ–ª –≤ –≤–æ–¥—É –ø–æ –≥–æ—Ä–ª–æ.
–í—Ä—è–¥ –ª–∏ –º–µ–Ω—è –≤–∏–¥–µ–ª–∏. –°–∫–æ—Ä–µ–µ — —Å–ª—ã—à–∞–ª–∏ –∏ –ø–∞–ª—å–Ω—É–ª–∏ –Ω–∞ —É–¥–∞—á—É. –ü–æ—Ç–æ–º –¥–∞–ª–∏ –ø–∞—Ä—É –∫–æ—Ä–æ—Ç–∫–∏—Ö –æ—á–µ—Ä–µ–¥–µ–π –∏–∑ –ø—É–ª–µ–º–µ—Ç–∞ —Å —Ç–æ–π —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—ã –¢–µ—Ä–µ–∫–∞. –ù–∞–¥–æ –±—ã–ª–æ –≤—ã–∂–¥–∞—Ç—å. –ü–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –¥–æ–±—Ä–∞—Ç—å—Å—è –¥–æ —Ä–∞–Ω—ã –≤ –Ω–æ–≥–µ. –û–∫–∞–∑—ã–≤–∞–µ—Ç—Å—è, –≤–µ—Ç–æ—á–∫–∞ –ø—Ä–æ—à–ª–∞ –Ω–∞—Å–∫–≤–æ–∑—å —á–µ—Ä–µ–∑ —Å—Ç—É–ø–Ω—é. –°–≤–µ—Ä—Ö—É —Ç–æ—Ä—á–∞–ª –∫–æ–Ω—á–∏–∫ –≤–µ—Ç–æ—á–∫–∏, –∑–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä—ã–π —è –ø–æ–ø—Ä–æ–±–æ–≤–∞–ª –≤—ã—Ç–∞—â–∏—Ç—å –µ–µ –∏–∑ —Å—Ç—É–ø–Ω–∏. –°–ª–æ–º–∞–ª, –≤ –∫–æ–Ω—Ü–µ –∫–æ–Ω—Ü–æ–≤. –ë–æ–ª—å—à–∞—è —á–∞—Å—Ç—å –æ—Å—Ç–∞–ª–∞—Å—å –≤–Ω—É—Ç—Ä–∏.
–ú–∏–Ω—É—Ç —á–µ—Ä–µ–∑ –ø—è—Ç–Ω–∞–¥—Ü–∞—Ç—å –æ—Å–º–µ–ª–∏–ª—Å—è –∏–¥—Ç–∏. –í —ç—Ç–æ –≤—Ä–µ–º—è –∏–∑ –∫—É—Å—Ç–æ–≤ —Å –Ω–∞—Å—ã–ø–∏ –≤ –º–æ—é —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –≤—ã–∫–∞—Ç–∏–ª–∞—Å—å –ë–ú–ü. –Ø —Å–Ω–æ–≤–∞ –º–µ—Ç–Ω—É–ª—Å—è –∑–∞ –¥–µ—Ä–µ–≤–æ, –∞ –ë–ú–ü —É—à–ª–∞ –≤–¥–æ–ª—å –Ω–∞—Å—ã–ø–∏¬Ý–∫ –º–æ—Å—Ç—É. –í–æ–¥—ã –ø–æ–¥ –Ω–æ–≥–∞–º–∏ —É–∂–µ –ø–æ—á—Ç–∏ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –î–æ –Ω–∞—Å—ã–ø–∏ –ø—è—Ç—å–¥–µ—Å—è—Ç –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –ó–∞–º–µ—á–∞—é –ø–∞—Å—É—â–∏—Ö—Å—è –≤ –ª–µ—Å—É –∫–æ—Ä–æ–≤. –ù—É –∏ –¥—É–º–∞—é, —á—Ç–æ —Å–µ–π—á–∞—Å –ø–æ–¥–æ–π–¥—É –∫ –ø–∞—Å—Ç—É—Ö—É –∏ –ø–æ–ø—Ä–æ—à—É –µ–≥–æ –≤—ã–≥–Ω–∞—Ç—å —Å—Ç–∞–¥–æ –ø–æ–±–ª–∏–∂–µ –∫ –¥–æ—Ä–æ–≥–µ. –ß—Ç–æ–±—ã, —Å–ø—Ä—è—Ç–∞–≤—à–∏—Å—å –∑–∞ –∫–æ—Ä–æ–≤–∞–º–∏, –≤—ã–π—Ç–∏ –∫ –ø–æ—Å—Ç—É. –ù–æ –Ω–∏–∫–∞–∫–æ–≥–æ –ø–∞—Å—Ç—É—Ö–∞ –Ω–µ –±—ã–ª–æ. –ö–æ—Ä–æ–≤—ã –ø–∞—Å–ª–∏—Å—å —Å–∞–º–∏ –ø–æ —Å–µ–±–µ.
–ò–∑ –º–µ–Ω—è –ø–∞—Å—Ç—É—Ö –ø–ª–æ—Ö–æ–π. –ü–æ—Ç–æ–º—É —á—Ç–æ, –∫–æ–≥–¥–∞ —è –ø–æ–≥–Ω–∞–ª –¥–≤—É—Ö –∫–æ—Ä–æ–≤ –∫ —à–æ—Å—Å–µ, –æ–¥–Ω–∞ –∏–∑ –Ω–∏—Ö –≤—Å–µ-—Ç–∞–∫–∏ —Å–º—ã–ª–∞—Å—å. –ó–∞—Ç–æ –≤—Ç–æ—Ä—É—é —è –≤—ã–≥–Ω–∞–ª –ø—Ä—è–º–æ –Ω–∞ –∞—Å—Ñ–∞–ª—å—Ç. –ü–æ—Å–º–æ—Ç—Ä–µ–ª –≤ —Å—Ç–æ—Ä–æ–Ω—É –º–æ—Å—Ç–∞, –¥–æ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–≥–æ –æ—Å—Ç–∞–≤–∞–ª–æ—Å—å –Ω–µ –±–æ–ª–µ–µ —Å—Ç–∞ –º–µ—Ç—Ä–æ–≤. –£ –≤—ä–µ–∑–¥–∞ –Ω–∞ –º–æ—Å—Ç —Å—Ç–æ—è–ª–∞ –±—É–¥–æ—á–∫–∞, –∞ —Ä—è–¥–æ–º —Ç–∞–±—É—Ä–µ—Ç–æ—á–∫–∞, –Ω–∞ –∫–æ—Ç–æ—Ä–æ–π —Å–∏–¥–µ–ª –ø—Ä–æ—Å—Ç–æ–π –Ω–∞—à —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∏–∫ —Å –∞–≤—Ç–æ–º–∞—Ç–æ–º.
–ë–æ–ª—å—à–µ —è –Ω–µ –æ—Ç—Ä—ã–≤–∞–ª –æ—Ç –Ω–µ–≥–æ –≤–∑–≥–ª—è–¥–∞. –¢–æ–ª–∫–Ω—É–ª –∫–æ—Ä–æ–≤—É –∫ –æ–±–æ—á–∏–Ω–µ –∏ –ø–æ—à–µ–ª, —Å—Ç–∞—Ä–∞—è—Å—å —Å–º–æ—Ç—Ä–µ—Ç—å —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∏–∫—É –ø—Ä—è–º–æ –≤ –≥–ª–∞–∑–∞. –û–Ω —Ç–æ–∂–µ –∑–∞–∏–Ω—Ç–µ—Ä–µ—Å–æ–≤–∞–ª—Å—è –¥–∏–∫–æ–≤–∏–Ω–Ω—ã–º –∑—Ä–µ–ª–∏—â–µ–º. –Ø –≤—Å–ø–æ–º–Ω–∏–º, —á—Ç–æ —É –º–µ–Ω—è –≤ –º–µ—à–∫–µ —Ç–æ–ø–æ—Ä. –ù–∏ –∫ —á–µ–º—É –º–Ω–µ —Ç–µ–ø–µ—Ä—å —Ç–æ–ø–æ—Ä. –Ø –æ—Ç–≤–µ–ª –ø—Ä–∞–≤—É—é —Ä—É–∫—É —Å –º–µ—à–∫–æ–º –æ—Ç —Ç—É–ª–æ–≤–∏—â–∞ –∏ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª –º–µ—à–æ–∫. –î–µ–º–æ–Ω—Å—Ç—Ä–∞—Ç–∏–≤–Ω–æ –æ—Ç–ø—É—Å—Ç–∏–ª.
–ö –≥–æ—Ä–ª—É –ø–æ–¥–∫–∞—Ç—ã–≤–∞–ª –∫–æ–º. –ù–∞–≤–æ—Ä–∞—á–∏–≤–∞–ª–∏—Å—å —Å–ª–µ–∑—ã.
— –ó–¥—Ä–∞–≤—Å—Ç–≤—É–π—Ç–µ, — —Å–∫–∞–∑–∞–ª —è —Å–æ–ª–¥–∞—Ç–∏–∫—É. — –ö–∞–∂–µ—Ç—Å—è, —è –¥–æ—à–µ–ª…
–ù–∞–¥–µ–∂–¥–∞ –ê–≤–µ—Ä—å—è–Ω–æ–≤–∞